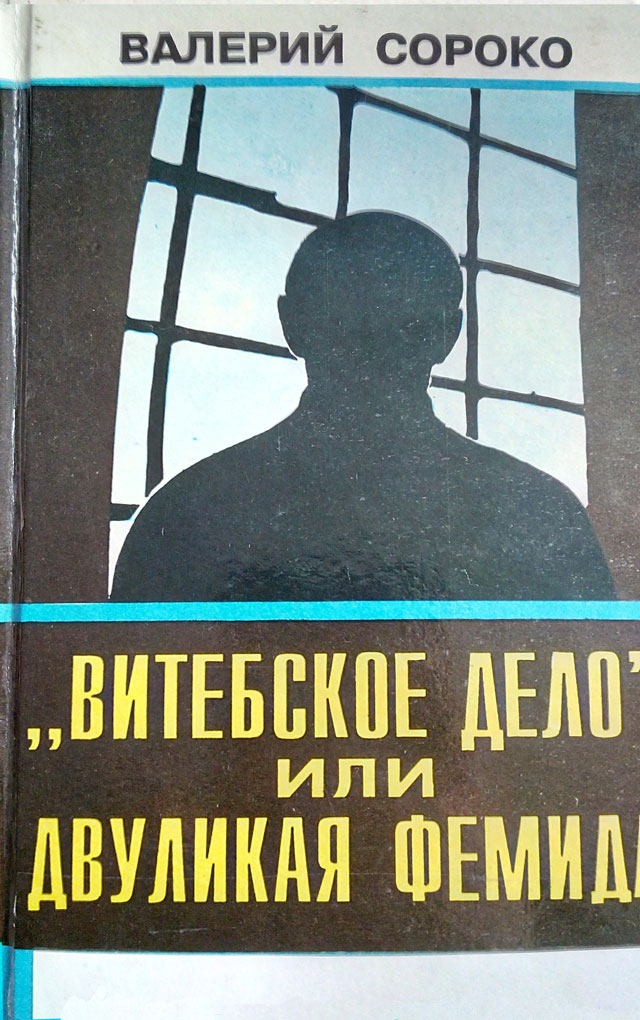документальная повесть – Минск, 1993.– 416с.: ил.
Эта книга - вторая из цикла документальных повестей, объединенных названием "Витебское дело" или двуликая Фемида". Автор - бывший работник Белорусской транспортной прокуратуры - расследовал убийство дежурной по станции Лучеса Т. Кацуба. В преступлении сознался и был осужден на 15 лет некто О. Адамов. Но затем возникло печально известное "Витебское дело", и маньяк Михасевич взял на себя около сорока изнасилований и убийств. О. Адамова оправдали, а против В. Сороко было возбуждено уголовное дело по обвинению в нарушении законности. Вторая повесть и рассказывает, как вела следствие группа прокуратуры СССР, как проходил суд над автором и другими работниками правоохранительных органов Витебска.

Кликните, чтобы прочитать статью в "Народной Воле", посвященную данной книге
выделенный текст - Исключено по решению Народного суда Октябрьского района г. Минска от 28.11.1995 года
выделенный текст - Исключено по решению Народного суда Октябрьского района г. Минска от 04.04.1995 года
Гром с ясного неба
Петля на шее
Дай совет, отец родной
Из чьей банды Басмач?
Прошло полгода, как осудили Адамова. Не скрою, что все это время я ожидал перемен в своей карьере. Но меня даже не поощрили. Честно говоря, это здорово обидело: как- никак, первое серьезное дело провел успешно, суд подтвердил мою правоту, преступник не ушел от наказания. Я даже будто невзначай напомнил прокурору о своих заслугах, однако тот лишь сдержанно пообещал «отметить» при случае. Сознаюсь еще в одном: мне перестала нравиться работа. Приходить в отдел и переворачивать ворохи бумаг — это стало казаться ненужной тратой времени. Мне хотелось быть на виду, в гуще людей, я чувствовал, что способен на большее. Появилась честолюбивая мысль перейти в партийные или советские органы: анкетные данные, как я считал, вполне позволяли. Начал зондировать почву...
— Чем занимаешься?— знакомый голос Комаровского звучал в телефонной трубке раздраженно и в то же время чуть растерянно, как бывает, когда человек хочет и не решается начать неприятный разговор. И не успел я произне- (П1 и отпет что-либо членораздельное, как последовала ошеломляющая новость:
— Убийство Кацуба берет на себя другой человек.
— Странно вы шутите,— не скрыл я недовольства.
— Шутки кончились, жди самого неприятного.
Сразу заныло сердце, лоб покрылся испариной. Собравшись с духом, я сдавленно произнес:
Поясните толком. Откуда сведения? Что за человек?.. Я еще сам точно ничего не знаю. Вроде бы в Витебске «раскололи» одного типа. Он сознался в убийствах десятков женщин, в том числе и Кацуба. Пока все!— Комаровский бросил трубку.
Прерывистые гудки отдавались в голове, будто сигналы бедствия. Растерянно положив трубку на рычаг, я начал лихорадочно соображать: «Мало ли какой идиот берет на себя несколько убийств?.. Сколько их, таких героев...» Память подсказала аналогию: «Вот и недавно наша прокуратура разбиралась с убийством в котельной. Уже нашелся и виновный, сам признался, детали даже рассказывал. А потом оказалось — милиция «подставила» человека, очередная ее авантюра...» Но, конечно, успокоения подобный пример не принес, мысли путались, и я не выдержал, рассказал коллегам о звонке Комаровского.
— Откуда информация?— попытался прояснить ситуацию начальник отдела Ковшар.
— Комаровский о деталях не говорил. Сам пока не в курсе дела...
Все подавленно молчали. Затянувшуюся паузу прервал Ковшар:
— Допрыгался, Валерий Илларионович,— уничтожил он меня взглядом.— Если это правда, суши сухари. Добра ждать не приходится. И не только тебе — многим.
Подлил масла в огонь Морозов:
— А я еще тогда говорил, что Адамов не похож на убийцу. Слабак он для этого...
— Похож — не похож. Тоже мне — Конан Дойль,— взорвался я.
— Прекратите,— оборвал начинавшуюся ссору Ковшар.— Пока это только слухи, не более. Надо все выяснить, уточнить. Не паникуйте.— Видно было, что он старался успокоить не столько нас, сколько себя.
Но и ему не удалось узнать что-нибудь мало-мальски утешительное. Отрывочные сведения, да еще каждым интерпретированные по-своему, в зависимости от симпатий, никак не складывались в четкую картину. Отдел был в нокдауне. Не лучше себя чувствовало и руководство транспортной прокуратуры, особенно Самохвалов. Его можно было понять...
В конце дня снова позвонил Комаровский, тон его был несколько мягче:
— Этот Михасевич (так фамилия арестованного) в показаниях о Кацуба многое путает. Неправильно назвал день, говорит, что не насиловал, что задавил руками... В общем, много нестыковок. Так что, может, обойдемся легким испугом...
— А Сорокину и Кулешову он берет на себя?
— Пока не известно. Признает десятки изнасилований с убийствами...
В иной ситуации это слово «десятки» ошеломило бы меня, но тут я почему-то успокоился и сказал коллегам:
— Все-таки у нас не должно быть прокола. Посмотрим, имеет ли этот Михасевич отношение к Сорокиной и Кулешовой. Если нет, то и их задавил Адамов,— вопреки обстоятельствам мне пришли на память версии, не доказанные в ходе следствия.
— Не будь таким самоуверенным. И, в общем-то, радуйся, что Адамов пока отсидел не много,— вклинился Морозов и спросил:
— А сколько он уже под стражей?
— Двадцать месяцев, но у него есть четыре года за кражу,— нашел я себе сомнительное алиби.
— Тогда легче...
— Легче — не легче... Убийство Кацуба — все равно дело его подлых рук,— повторил я раздраженно, даже боясь подумать о противоположном.
...Какими оказались для меня вечер и ночь, представить не трудно. Но утром, преодолев внутреннее сопротивление, всс-гаки приехал на работу. Конечно, назвать работой то, чем в занимался, можно лишь с большим допуском. Все мое внимание зациклилось на телефонном аппарате. Не успевал ОН зазвонить, как я хватал трубку. Кому-то, видимо, грубил, другому не мог ответить на простейший вопрос. Но одного, самого необходимого, спасительного звонка не было. Ожидание становилось невыносимым, эта невыносимость усугублялась прямо-таки гробовой тишиной в отделе. Резкий звонок — сумбурный разговор — и снова леденящая пустота. 11а нервном пределе было и начальство: у Ковшара — круги под глазами, обычно аккуратный Самохвалов умудрился порезаться при бритье. Если кто и заговорит, то вполголоса, да и умолкнет на половине фразы. Морг — да и только. За весь день одна новость: в Витебск выехал заместитель прокурора республики.
— Тебя к телефону,— позвала жена.
Сердце провалилось в пустоту. Я настороженно произнес:
— Сороко слушает.
— Говорит дежурный по прокуратуре. Срочно приезжайте к нам.
— А почему такая спешка?
Но на другом конце провода уже положили трубку.
Хотя долгожданный звонок наконец-то раздался, я оказался совершенно неподготовленным. Максимум через час все прояснится, появится определенность, а тут руки не хотят попадать в рукава пиджака, куда-то запропастился галстук, першит в горле. И совсем нет сил посмотреть жене в глаза. Она, конечно, заметила мою нервозность, пыталась вызвать на откровенность, но я под разными предлогами уходил от серьезного разговора.
— Зря ты таишься,— чуть обиделась она,— все равно ведь рано или поздно узнаю, что у тебя приключилось.
— А узнавать-то, собственно, нечего. Обычные дела, обычная работа. Скоро позвоню,— пообещал, стоя уже за порогом.
— Не забудь: сегодня идем на день рождения к Таньке!
— Помню, помню я про Таньку...
На улице горько усмехнулся: «До дня ли рождения будет сегодня? Такой срочный вызов ничего хорошего не сулит».
В приемной уже были свои — Самохвалов, Ковшар. Едва увидев их лица, понял: следует быть готовым к неприятностям. И немалым.
— Ну что, горе-следователь, доработался,— не отвечая на мое приветствие, неприязненно сказал вошедший Комаровский.— Михасевич настоятельно утверждает, что Кацу- ба убил он. И там,— он кивнул на дверь прокурора,— в этом не сомневаются.
Осмысливать услышанное пришлось уже в кабинете. Не пригласив сесть, угрюмый, злой прокурор будто гвозди вколачивал в мою голову:
— Я вам говорил несколько месяцев назад, что вы — не следователь и недостойны работать в органах прокуратуры. Потом мне чуть ли не извиняться пришлось за эти слова. И вот подтверждение: Адамов — не убийца, вы привлекли его не-за-кон-но!
Он тяжело перевел дыхание, на секунду умолк.
— Но, может, еще окончательно не проверена причастность Михасевича,— воспользовавшись паузой, неуверенно подал голос Самохвалов.
— Михасевич берет десятки убийств. Некоторые уже сейчас не вызывают сомнений, что «автор»— именно он. На его совести и Кацуба. Это однозначно. Я еще раз подчеркиваю: Адамов ни при чем.
Он устало потер виски, сухо приказал:
— Каждому написать объяснение. Вопрос один: как случилось, что посадили невиновного. Причем высказывать только личную точку зрения, никакого коллективизма.
«Что писать?— думал я, отрешенно глядя на чистый лист бумаги.— Легко спрашивать: как могло случиться? А если я и сейчас убежден, что Адамов — убийца. Не могли же мы все так просчитаться — ведь все против него: и собственное признание, и фотография, да и на месте происшествия он ориентируется отлично... Не могу поверить...» Но приказ надо выполнять, и я, стараясь быть предельно точным, взялся за перо.
Наверное, такие же сомнения мучали и моих коллег. Понурив головы, сходились мы в приемную, молча заходили к прокурору, осторожно клали объяснения на стол и так же молча закрывали дверь. Хозяин кабинета даже не поднимал на нас глаза, будто перед мим проходили нелюди, а тени.
Не знаю, как другие, а я рассказал обо всем жене. И еще раз убедился, как повезло, что судьба подарила мне Людмилу. Ни упреков, ни истерики — лишь искренняя забота.
— Дай Бог, все обойдется. Ведь не сам ты этого Адамова в тюрьму загнал, суд все решил. А может быть — правда твоя. В конце концов, обойдемся и без прокуратуры. Было бы здоровье, а работа найдется. И еще лучше этой.
И перейдя на веселый лад, подогнала:
— Собирайся в гости! Пить будем, гулять будем, а о смерти и поминать не будем!
Настроения и желания идти куда-нибудь, тем более в гости, у меня, конечно, не было. Я попробовал отговориться, отправить жену одну. Но Людмила настаивала на своем, и я сдался. По дороге она попросила:
— Ты только не вешай нос и не рассказывай -о своих бедах. У людей праздник. Не омрачай его.
— Хорошо, Людочка, все будет, как в лучших домах,— попытался я поддержать тон, но на душе скребли кошки.— Доживем до понедельника...
В понедельник позвонил из Витебска Журба. Уже по интонации стало ясно, что дела наши плохи. И действительно: он участвовал в выходе Михасевича на место происшествия, и тот, хотя неуверенно и не совсем точно, но все-таки показал, где была убита Кацуба.
— А вещи, вещи найдены?— заторопил я.— Ведь и с Адамовым так же было...
— Вещей нет, но он указал колодцы, в один из которых он выбросил их.
— Где они расположены?
— Вдоль железной дороги.
— Там же ничего нет. Я сам смотрел их, откачивал воду.
— Те, о которых говорит Михасевич, находятся ближе к шоссе. Вы туда не дошли.
— Искали?
— Нет!
— Почему? Закон требует сразу фиксировать следы, изымать вещественные доказательства.
— Не знаю! Отложили на несколько дней.
— Странно.
Подбодрив друг друга, договорились не терять контакта, обмениваться информацией. Мы были в одной связке. «Итак, колодцы. Второй раз сталкиваюсь с ними. И как странно устроен человек: тогда я ползал в них по уши в грязи, чтобы найти вещи Кацуба, теперь готов вычерпать руками, но убедиться, что в них ничего нет. Вещдоки — главный козырь против нас. А то, что Михасевич показал место преступления... Это может сделать каждый второй в Витебске. Многие ездили туда, как на экскурсию, чтобы пощекотать себе нервы. Михасевичу, в принципе, все равно — одной жертвой больше, одной меньше. Если только не шизофреник, конец один... Вот и берет на себя, что ни предложат...»
Все это пронеслось в голове за считанные секунды. Когда ищешь спасения, становишься на удивление изобретательным. И видя, что коллеги ждут новостей, вкратце передал суть сказанного Журбой. Это была первая конкретная информация, причем из самого достоверного источника. Тягостное молчание, гнетущая обстановка немного разрядились. Выдвигались версии, строились планы защиты. Больше всех надо было выговориться мне:
— У меня в голове не укладывается, я не верю, что Адамов решился на самооговор. И почему вообще не можем допустить, что человек способен раскаяться, очистить душу от греха...
— Наивный ты парень, а еще следователем себя считаешь,— охладил мой риторический пыл Морозов.— После чистилища, которое устраивает милиция, в чем угодно признаешься — лишь бы вновь туда не попадать. А грех, в результате, берешь на душу ты.
Прозвучало это довольно убедительно, и я сразу вспомнил, как умолял меня однажды на допросе Адамов:
— Поверь, я не убивал! Я не виноват! Меня заставили дать показания!..
И еще вспомнил его глаза — глаза беспомощного затравленного зверя. Правда, отреагировал я тогда по-иному: «Ну, артист! Научили в СИЗО, хоть в театр Купалы или Коласа бери без конкурса...»
Предположим, преступник — Михассвич,— сдался я перед доводами Морозова.- - По в том, что именно он убил Кацуба, есть свой положительный результат...
— Ого, куда тебя занесло,— прервал меня Ковшар.— Уже и преступление становится положительным результатом.
Но я продолжал развивать показавшуюся мне спасительной идею:
— Михасевич своим признанием автоматически оправдал Адамова. Значит, тот не сидит 15 лет за убийство, а отбывает срок за хищения. Ему по приговору за них положено четыре года. Так что незаконно под стражей он не находился и не находится.
— Посмотрим, как примет твои доводы начальство,— не то поддержал, не то усомнился Ковшар.— Аргументов в свою защиту набирай побольше, все еще впереди.
Все точки над «і» были расставлены через несколько дней. В одном из колодцев, который указал Михасевич, действительно обнаружили сумку Кацуба. Правда, назвать сумкой этот комок гнилья можно было лишь с большой натяжкой — вода и грязь сделали свое, но общие тетради, находившиеся внутри, как ни странно, сохранились. Почерк Кацуба читался легко.
Мои надежды на благополучный исход рухнули. Все работало против меня: и признание Михасевича, и найденная сумка, и отказ от показаний Адамова. Но вопреки очевидным фактам я не только утверждал — я продолжал верить, что правда все-таки за мной. Следственная и судебная практика давали почву для таких предположений, а подсознательно я ощущал, что «карта» Михасевича скоро окажется козырным тузом в чьих-то, причем не самых чистых, руках. Слишком стремительно развивались события.
Заседание коллегии прокуратуры БССР проходило по заранее разработанному сценарию: дали слово всем, кто был причастен к делу Адамова, их объяснения комментировал прокурор, а проект решения, как обычно, был подготовлен заранее. И вносить какие-либо поправки никто не собирался. Действовала раз и навсегда заведенная процедура, как, собственно, и в практической работе прокуратуры: попал под подозрение — жди обвинительного заключения. Так что напрасной была самокритичность Самохвалова — на нее никто не обратил внимания. Не принесли ожидаемой реакции рыдания Комаровского — в этом здании такое не в новинку. Ироничные улыбки вызвало его сообщение, что он забрал из парткома заявление о вступлении в КПСС: «Недостоин быть в партии коммунистов». На лицах членов коллегии читалось: «Мы это и без тебя знали...» Краткость формулировок Савельева, хладнокровие Кладухина, ссылки на болезни Ков- шара, изворотливость Казакова, искренность и горячность Журбы — все это не находило никакого отклика.
Дольше всех был «под обстрелом» я. Доводы в свою защиту изложил довольно спокойно и, как мне казалось, логично: «Адамов признался в совершении убийства добровольно — была явка с повинной. Точно указал место преступления, в его сарае при понятых найдена фотография убитой Кацуба. В добросовестности и порядочности работников дознания не сомневался. При проведении следствия противоправных действий не допускал. До сих пор твердо уверен, что Адамов — преступник». Чтобы дополнить портрет осужденного, упомянул о его хищениях. Это был если нс мой козырь, то своего рода отвлекающий маневр. Он давал понять, что работал я серьезно, не упускал никаких деталей, старался быть объективным. Но тут наткнулся на неожиданный подводный риф.
— А какая нелегкая занесла вас на партбюро автокомбината? Вы что — представитель ЦК или хотя бы райкома?— оборвал мои рассуждения заместитель прокурора, выезжавший в Витебск.
— Я считал своим долгом доложить коммунистам о фактах пьянок, о приписках, о воровстве. Ведь «левым» извозом занимался не только Адамов. А про расследование убийства сказал вскользь, для информации, не вдаваясь в детали.
Этот ответ, мне показалось, удовлетворил членов коллегии, но только не самого прокурора.
— Вы не следствие вели, а собирали на Адамова компромат. Вам надо было обязательно сделать из него преступника — еще до суда. Кстати, об этом говорит и сам Адамов: вы убеждали, что его песня спета... Ведь так?— посмотрел он на своего заместителя.
Тот согласно кивнул головой.
— Так что и жалоб у Адамова больше всего на вас. И весь этот камуфляж с «долгом коммуниста» пора оставить,— жестко подытожил прокурор.
Нарушая субординацию (последнее слово — за начальником), я продолжал объяснять, что и подследственные, и осужденные обычно во всем винят следователя, они всегда убежденм, что им «шьют» дело; что следователя легче оговорить, «подставить» и т. д. и т. п. Но закончил свое объяснение без унизительных просьб о снисхождении: если произошла ошибка (в чем я сомневаюсь), то вся вина лежит на мне.
Не стал искать себе оправданий и прокурор Мневец, поддержавший обвинение в суде:
— У меня не было сомнения, что преступление совершил Адамов. Как, впрочем, не усомнился в этом и суд.
...Обвинительный приговор был результатом и этого заседания коллегии. Проект решения утвердили единогласно: меня, Журбу и Мневца из прокуратуры уволить. С остальными обошлись помягче: дисциплинарные взыскания и понижение в должностях. Всех членов КПСС ожидал еще разбор на бюро райкома партии. И последнее, как удар обухом: «по фактам нарушения соцзаконности возбуждено уголовное дело. Вести его поручено следователю по особо важным делам Борисову». Вот так в одночасье жизнь показала свою обратную сторону: вместо повышения по службе — конец карьеры, вместо мечты о партийной работе — «вопрос о партийной ответственности», из следователя — в предполагаемого подследственного.
Первая реакция у наиболее пострадавших — меня, Жур- бы и Мневца — была самая что ни есть традиционная: надо «помянуть» нашу прошлую работу. Нет, никто из нас не был приверженцем спиртного, однако... Моих жены и дочери не было дома, поэтому поехали ко мне. Застолье в самом деле напоминало поминки. Все трое понимали: решение принято окончательное, назад пути, нет, помощи ждать бессмысленно. Наверное, икалось от наших недобрых слов в тот вечер витебским милиционерам, много интересных характеристик услышали бы, будь они рядом, и наши начальники, торопившие следствие, требовавшие результата. Утешало только одно — мы не стали выяснять отношения между собой, не стали перекладывать вину за случившееся, не превратились в голодных пауков в закрытой банке. Если и произошла трагическая ошибка — то она и является именно ошибкой, той случайностью, от которой никто не застрахован, тем более в нашей (увы — бывшей) работе. На том и расстались — расстроенные, растерянные, но не озлобленные друг на друга. Нам надо было держаться вместе.
О том, что только вместе можно выбраться из беды, твердила и моя Людмила, возвратясь домой:
— Конечно, у тебя, у всех нас — горе. Но мы-то с тобой рядом — и я, и дочь, и мама. И нам нужен именно ты, а не твоя работа. Что, на этой прокуратуре свет клином сошелся?.. У тебя светлая голова, у тебя высшее образование, у тебя, наконец, крепкие руки — лишь бы ты не отчаивался. А мы всегда с тобой... К тому же ты просто не имеешь права сдаваться — ты же наша опора, глава семьи!
Наверное, именно таких слов мне и не хватало в тот горький вечер. Почувствовать, что я не один, что я нужен, что обо мне думают, беспокоятся, что меня любят — уже это не позволяло раскисать, становиться безвольной тряпкой. Обнимая родного человека, я с благодарностью подумал, что и я не обделен счастьем...
Совсем иная атмосфера была на бывшей работе. Без лишних слов, официально, по описи, все дела и материалы, находившиеся у меня в производстве, передал Казакову. Вчерашние коллеги вроде бы и не сторонились меня, но у каждого сразу находились неотложные заботы: их кто-то именно в эти минуты ожидал, кто-то вызывал, где-то требовалось их обязательное присутствие. Такова жизнь...
Оставалась одна неприятная процедура: получить трудовую книжку с записью об увольнении по статье за... А там до сих пор были лишь поощрения да благодарности. И тут я, к сожалению, смалодушничал. Хотя умом и понимал, что хочу неосуществимого, но все-таки какая-то надежда жила...
публики и встретил в коридоре на третьем этаже, недалеко от его кабинета.
— Простите...
Взгляд сузившихся глаз был недобрым:
— Что еще?
— Я все-таки хотел бы уволиться по собственному желанию...
Отпет был из типичной речи типичного прокурора в судебном заседании:
— Вы допустили нарушения соцзаконности, за них и уволены,— и вошел в свою приемную.
«Уволен, уволен,— на разные лады автоматически повторял я это простое слово, возвращаясь домой.— Значит, я — вольный, свободный. Свободный от чего? От работы — да. Но кто меня освободит от долга перед семьей? Пусть Людмила — взрослый человек, понимает, что жизнь — не ровная дорога, где не споткнешься. А вот как объяснить дочке, что произошло? Что говорить соседям, знакомым? Как пользоваться этой свободой?» Неожиданно на память пришло классическое определение: «свобода — это осознанная необходимость». Но у меня сейчас не было этой необходимости, тем более — осмысленной. Наоборот, поступили помимо моей воли, вопреки моему желанию. Оно, это желание, прямо противоположное — я хочу попасть в зависимость, мне необходима работа. Выходит, меня «загнали в свободу»? Что-то тут не стыкуется...
В том, что не все сходится не только у классиков, но и у их последователей, мне предстояло на собственной шкуре убедиться еще не единожды. Конечно, я был не настолько наивным, чтобы безоговорочно верить в советские постулаты о социальной справедливости, о правах, гарантированных Конституцией, тем более, что служил в прокуратуре: о беззаконии там знают предостаточно. Не было для меня секретом и то, что зачастую ценность человека определяется не его достоинствами, а солидностью бумаг, его сопровождающих: рекомендаций, справок, тех же записей в трудовой книжке. Не понаслышке знал и о «телефонном» праве, о «позвоночных» протеже. Все это, как и у любого честного человека, каким я себя считал, вызывало протест, но ... это казалось издержками государственного производства, отступлением от правил, а если точнее — от Закона. И не скрою, я гордился (не побоюсь высоких слов), что стою на страже этого Закона. Попав в разряд отверженных, убедился: расхожая поговорка о законе и дышле — самая что ни есть правда.
Через месяц после увольнения моя записная книжка разбухла от телефонных номеров, адресов организаций, где нужны юристы. Я знал фамилии, имена и отчества многих руководителей, запомнил часы, когда они принимают посетителей, научился определять характер секретарш. Автоматически заполнял десятки анкет и заявлений, которые оседали балластом в каких-то неведомых папках или выбрасывались в корзины для мусора. Результата не было, вернее, был — отрицательный. Испробовав официальные варианты устройства на работу, пошел другим путем, забыв о щепетильности и переступив через внутреннее сопротивление. Началась полоса застолий с «нужными» людьми: обещания лились рекой, гарантии возрастали с каждой рюмкой и... улетучивались вместе с винными парами. Часто приходило желание махнуть рукой на опостылевший Минск и уехать куда-нибудь на Север, где нет ни газет, ни радио, ни телевидения, ежедневно твердящих о том, что у нас в стране все для человека, все для его блага.
Но стоило взглянуть на осунувшееся лицо жены, на притихшую трехлетнюю дочь, и желание доказать, что еще не все потеряно, что меня еще рано кое-кто списал в балласт, отправляло меня на новые круги ада. Вместе с Людмилой решили, что я должен попасть на прием к прокурору БССР. Дело в том, что существовало то ли гласное, то ли негласное указание прокуратуры СССР, в котором предписывалось помогать с трудоустройством таким, как я — уволенным по компроментирующим основаниям.
Прокурор, как и раньше, был непреклонен:
— Я не могу всем подыскивать работу. Прежде всего, не надо было ее терять.
Более вежливыми казались (именно — казались!) партийные работники. Поскольку я оставался членом партии, то стал обивать пороги райкомов, горкома, исполкомов, буквально моля о помощи Меня внимательно выслушивали, в какие-то кондуиты заносили мои данные, просили подождать и...
По дороге в очередную контору или после очередного отказа встретил Морозова.
— Я уже прошел твоей дорогой,— не обрадовал он.— Хоть и уволился по собственному желанию, лечге от этого нс стало. Как узнают, что работал в прокуратуре, сразу физиономии кислыми становятся. Боятся нас, как чумы, отказывают под разными предлогами. Мало ли что...
Воз моих забот становился все тяжелее, таяли последние надежды. Набравшись решимости, позвонил инструктору ЦК КПБ, который присутствовал на заседании коллегии прокуратуры. Он довольно приветливо начал разговор, но сразу поскучнел, когда узнал зачем я его потревожил.
— Мы никого не устраиваем на работу,— буквально повторил он слова прокурора.
Я был уже на пороге отчаяния, когда нежданно повезло. Скорее автоматически, увидев перед собою вывеску, я зашел в Минский обком партии. Меня принял заведующий одним из отделов. Положив перед ним длинный список свободных вакансий, который составил во время своих странствий по различным кабинетам, уже ни на что не надеясь, я обреченно попросил:
— Помогите.
Наверное, он услышал в моем голосе глухое отчаяние, почувствовал всю безысходность моего положения. Так или иначе, но его подчиненные принялись звонить по адресам из моего списка. Отказы сыпались один за другим — не помогал и авторитет обкома. Но даже эта ничего не решающая отзывчивость приободрила меня, я немного воспрянул духом. И вскоре, узнав, что освободилось место в одном из трестов, не теряя времени, по свежим, как говорят, следам, буквально прибежал снова в обком. На этот раз стена была проломана: после короткого препирательства меня все-таки согласились взять на должность юриста.
Гораздо позже, через несколько месяцев, когда у меня появилось много, даже слишком много свободного времени, я неоднократно прокручивал в памяти все произошедшее со мной. И когда доходил до этого в общем-то малозначительного эпизода, задумывался: почему завотделом не отфутболил меня, как другие, почему инструкторы настырно добивались моего трудоустройства? Что ими руководило: милосердие, долг или предчувствие, что им самим придется когда-либо попасть в подобную ситуацию? Однозначного ответа я так и не нашел, но благодарен им по сей день. Наверное, были да и остаются просто нормальными людьми.
Первая удача после черной полосы невезения подняла настроение в нашем доме. Повеселела Людмила:
— Вот видишь, свет не без добрых людей. А что зарплата маленькая — каких-то сто рублей — нс беда. Мы к роскоши не привыкли, ведь правда? Главное, что ты при деле, меньше дурных мыслей будет,— искренно радовалась она за меня, готовя ужин.— А потом потихоньку все наладится.
Почувствовав перемену в настроении взрослых, вновь защебетала притихшая было дочь. Мы так измучились от неурядиц, что любая, даже маленькая удача превращалась у нас в семейный праздник, их же в последнее время на нашу долю совсем не выпадало...
Новая работа была несложной, даже скучной. Тем более для меня, загруженного ранее с утра до ночи. Немногие поручения, которые мне давали, на поверку оказывались зачастую надуманными; выполнив их, я не ощущал, что принес какую-то пользу. Благо, оставалось время для дополнительного приработка: хоть Людмила и говорила, что деньги — не главное, но я видел, как тяжело ей приходится, как она еле-еле сводит концы с концами. Кое-какой доход приносило чтение лекций в обществе «Знание», не чурался я и простого физического труда. Эти мои судорожные метания, конечно, поправляли финансовое положение семьи, но морального удовлетворения не приносили. Я никак не мог распрямиться, высвободиться из-под пресса неизвестности, неуверенности в завтрашнем дне. Я чувствовал себя зажатым со всех сторон: вызовы в прокуратуру чередовались с вынужденными визитами в парторганы. Дело о незаконном привлечении к ответственности Адамова набирало обороты. Видимо, особо церемониться со мной не собирались, и потому прокурор, когда я отдавал ему очередное объяснение, зло бросил мне в лицо:
— Я вас арестую! Безобразия, которые вы творили в отношении невиновного гражданина, даром не проходят!
Отреагировал я, лишь проглотив горький комок в горле:
— Арестовать меня — в ваших силах. Но это будет очередное беззаконие...
Выслушивать меня дальше он не пожелал...
И совсем неожиданная неудача подстерегла меня на работе: я проиграл в суде гражданский процесс. Дело было до банальности простое: администрация треста, посоветовавшись со мной, уволила за прогул без уважительной причины работницу одного их своих подразделений. В КЗОТе, как известно, есть соответствующая статья. Факт самоволь- ноге ухода с работы не вызывал сомнения, был зафиксирован; коллектив, как говорят, без особых сожалений расстался с Н,— человеком, обладавшим репутацией склочницы и скандалистки. Но не тут-то было. Н., уже имевшая опыт судебной тяжбы по такому же поводу, подстраховалась. В день прогула она имитировала болезнь коленного сустава, вызвала на дом врача, и та, по простоте душевной и из ложно понимаемой женской солидарности, отметила в медицинской карточке, что Н. оказывалась помощь. Правда, от пациентки здорово несло спиртным, но это, мол, ее личное дело, она ведь не требует бюллетень. И соответствующей записи об алкогольном опьянении не появилось, об этом врач вспомнила позже. Всех этих деталей ни я, ни администрация не знали, а строка в медкарте послужила для Н. алиби. Итог: я проиграл процесс, суд обязал администрацию треста оплатить Н. трехмесячный вынужденный прогул. Мое самолюбие было, естественно, уязвлено; к тому же мне было неудобно перед сослуживцами. И я был очень благодарен и им, и руководителям, что они не напоминали мне о промахе. Вот бы такое чувство такта моим прежним коллегам...
Не успел я оправиться от этой неприятности, как подоспела следующая, более серьезная: разбор персонального дела на партсобрании. Вместе со мной на «суд товарищей» были вызваны Самохвалов, Ковшар, Мневец, Кладухин. Кстати, никто из них, как и я, в транспортной прокуратуре уже не работал — всех, за исключением Кладухина, ушедшего на пенсию, уволили. Но снять с партийного учета без должного «напутствия» нас не могли — у партии свои законы. И все мы прекрасно понимали: здесь, на собрании, во многом решается наша судьба — если полностью откажут в доверии, значит, готовься к самому худшему. Именно поэтому каждый из нас признавал ошибки, каялся, находил себе оправдание. Не был исключением и я: сослался на отсутствие следственного опыта, на полное доверие к работникам дознания, на то, что принял за чистую монету искреннее раскаяние Адамова. В общем, запрятал свой гонор подальше, понимая, что стою на краю пропасти. Ситуация обострялась тем, что бывшие коллеги отлично знали о работе следственной группы прокуратуры СССР — информация оттуда то ли преднамеренно, то ли случайно (что маловероятно) поступала регулярно.
На первый раз партийная чистка закончилась для меня относительно благоприятно: мне объявили строгий выговор с занесением в учетную карточку. По партийным меркам — это предпоследний звонок, который оставляет, правда, надежды на будущее. Получили взыскания и мои товарищи по несчастью. Оставалось ждать, сочтет ли эти меры наказания достаточными райком партии...
Тем временем вплотную заинтересовались моей персоной следователи из Москвы — меня вызвали на первый допрос. И в знакомое здание прокуратуры БССР я на этот раз вошел не как сотрудник, а как... Честно говоря, я тогда еще точно не знал, как себя именовать: свидетель, подследственный, обвиняемый — ясности пока не было. Было лишь тревожное ожидание и, как ни странно, профессиональное любопытство: кто он, тот человек, от кого теперь зависит моя судьба?..
Немолодой. Внимательные и, как мне показалось, добрые глаза. Неторопливые движения, размеренная речь. В общем, солидный, основательный — мое первое впечатление. «И слава Богу,— успокоился я.— Хоть в этом повезло — не какой-нибудь из молодых да ранних, что торопятся сделать карьеру. С таким и по душам поговорить можно.»
И поскольку он выжидательно молчал, я затеял чуть ли нс спстский разговор:
— Как вам показался после столицы наш Минск?
— Я здесь не в первый раз, уже доводилось бывать... Красивый город, хорошие люди,— то ли поддержал, то ли закрыл тему мой визави.
— Да, люди у нас замечательные,— ухватился я за ниточку.— Вот мой отец, например, прошел Финскую и Великую Отечественную, дважды был в плену и дважды бежал, затем опять на фронт, а таких у нас много. Настрадались люди, знают, почем фунт лиха. Вот поэтому, наверное, и сами добрые и ценят доброту.
Мой собеседник согласно кивнул головой. Ободренный его вниманием, я продолжил:
— И гостеприимством минчане славятся, хлебосольством... Вы, если не секрет, где расположились, в какой гостинице?
— В «Октябрьской»,— автоматически ответил он, чуть удивленно глянув на меня.
— Удобное место, только вот, пожалуй, общепит вас замучает. Эти кафе и рестораны — что в Москве, что в Минске — все на один манер: дорого, но невкусно. А вот моя жена — настоящий мастер по кулинарной части. И гостей любит принимать. Вы не согласились бы...
Я еще не договорил фразу, как понял, какую оплошность совершил. Конечно, перед допросом мне и в голову не приходил такой авантюрный вариант, но москвич расположил к себе дружелюбием, вниманием, и я сорвался — забыв, где и перед кем нахожусь. К моему счастью, он, видимо, понял мое состояние и не стал читать мне морали, лишь посоветовал: «Прежде, чем что-либо сказать, вы хорошенько подумайте, молодой человек».
И уже строже добавил:
— Не забывайте, в качестве кого здесь находитесь вы и какую роль выполняю я.
Видя, что я стушевался, он стал заполнять бланк протокола допроса, внося туда мои анкетные данные. Странно и непривычно было видеть, как моя биография, которой еще недавно в общем-то гордился, записывается рукой следователя по особо важным делам.
Твердо указав мне мое место, дав почувствовать дистанцию между нами, он немного отпустил возжи: не стал допрашивать меня устно, а предложил ответить на заранее заготовленные вопросы письменно. В таком варианте показания получаются более логичными, продуманными. Моя задача облегчалась тем, что вопросы были далеко не оригинальными — они почти буквально повторяли те, которые ставили передо мной руководители прокуратуры БССР. И я детально изложил ход следствия по делу об убийстве Кацу- ба, подчеркнув все его сложности, сделав упор на выигрышных для меня обстоятельствах. Мне показалось, что московский гость остался доволен, и я решил еще раз наладить более тесный контакт, по меньшей мере — прояснить ситуацию. Генерал (ранг следователя соответствовал такому чину) располагал к себе, даже вызывал симпатию. Но верного тона, правильного хода я опять-таки не нашел. Видимо, крепко засел во мне следователь, не искоренились старые привычки. Я напрямик спросил:
— Вы, конечно, приехали в Минск не один?
— Да, в группе около десяти человек,— подтвердил он.— Мы ведь не только вами интересуемся, подобных проколов множество...
— Я думаю, что случай с Адамовым не столь уж важный, он просто по времени последний. Вот и взялись за нас. А ведь я слышал, по другим делам люди незаконно отсидели от пяти до четырнадцати лет, есть даже расстрелянные. Так ведь?
Он изучающе посмотрел на меня, раздельно произнес:
— Делиться информацией я не собираюсь. Я расследую факты вопиющего беззакония. И вы к этому причастны.
— Но здесь не было умысла, я старался,— мои слова напоминали детский лепет.
— Как это у Крылова? «Беда, коль сапоги начнет тачать пирожник». Так, что ли?
На эту уничижительную реплику отреагировал я совсем уж беспомощно:
— И что же меня ожидает?
— Придется отвечать по закону! И речь идет об уголовной ответственности,— совсем добил он меня.
— Скамья подсудимых широкая и места в тюрьме достаточно,— повторил я где-то слышанную поговорку.— Но очутиться там работнику прокуратуры... Это ведь нонсенс. Быть рядом с теми, с кем боролся...
Наверное, выглядел я в этот момент не очень привлекательно, и следователь тактично прекратил разговор:
— Извините, мне нужно срочно позвонить. А поговорить мы еще успеем...
Жернова следственной машины начинали раскручиваться, набирать все большие обороты. У меня не было сомнений, что в «помол» попаду не я один, что в мешке окажутся и витебские сотоварищи. Несколько попыток разведать обстановку в городе на Двине не дали результатов — никто из расследующих дело не проявил желания встретиться со мной, а пользоваться непроверенными слухами в критической ситуации — означает потерять свою позицию, поддаться панике. И после первого допроса, когда ощутимо запахло «паленым», я решил встретиться с Журбой и, как ни трудно это было,— с милиционерами дознавателями.
Жил Журба в так называемом семейном общежитии, занимал одну комнату. Для серьезного разговора место не самое подходящее, да и жена Анатолия встретила меня более чем сдержанно.
— Что-то супруга смотрит неласково?— спросил я, когда вышли на улицу.— Ты ей что-нибудь рассказывал обо мне?
— Нет, стараюсь не волновать заранее, но, может, женская интуиция ей подсказывает...
— А что подсказывает твоя мужская интуиция?
— Судя по всему, хорошего ждать не выпадает,— откровенно, без обиняков, как на духу, сразу же ответил Журба. Секунду помедлил, уточнил:— Ты же знаешь, что я работаю юрисконсультом на заводе?— Увидев мой утвердительный кивок головой, продолжил:— Так вот, на последнем партсобрании меня под такой перекрестный огонь взяли, что еле ноги унес. Всего, как ты понимаешь, рассказать не могу, а на меня наседают, особенно работяги: ты, мол, невиновного посадил, а сам в чистой рубашке да костюмчике прохлаждаешься. Хоть сквозь землю провались...
— Давай не паниковать,— попытался я успокоить.
— А теперь, по-моему, от нас мало что зависит — раз отправили на партийный разбор, значит, в верхах на нас крест поставили,— совсем уже пессимистично проговорил Анатолий.
— Кому нужно нас под штык брать?— снова подбодрил я. Но все-таки осторожно спросил:— Может, что-то новое узнал? Как живут «боевые друзья» из ЛОВДа?
— А их уже погнали оттуда,— огорошил ответом Журба. И, видя мое удивление, разъяснил:— Буньков теперь начальник гражданской обороны завода, а Волженков устроился в отделение железной дороги, чем-то там руководит. И оба ждут худшего — не исключают арест.
— Допрыгались. И нам свинью подложили: подсунули «созревшего» Адамова, а мы, ничего не подозревавшие, и проглотили наживку.
— Дело прошлое — что ж после драки кулаками махать! Теперь надо вместе из дерьма выкарабкиваться, не до выяснения отношений...
Недолго раздумывая, я предложил:
— Надо с ними увидеться. Прощупаем, что они знают, что у них на уме... Но только без конфликтов: если пойдем вразброд — дадим москвичам лишние козыри, так и до тюрьмы (чтоб ей неладно!) недалеко.
Из телефона-автомата позвонили Волженкову. Договорились встретиться у вокзала. У нас с Журбой было в запасе время, решили пройтись пешком. Журба сообщил еще кучу новостей:
— Адамова освободили. Моя жена встретила в магазине его мать, так чуть со стыда не сгорела — крик, оскорбления, грязь...
— Да, эта семейка нас с тобою постарается поглубже закопать.
— Но я к Адамову на поклон не пойду!— твердо заявил Журба.— Не хочу видеть его гнусную рожу. Конечно, злорадствует теперь, изгаляется над нами: мол, как я посадил в лужу этих следователей? И сам от «вышки» ушел, и их под монастырь подвел. Вот что значит явка с повинной.— Журба in ревел дух, продолжил:— Понимаешь, дознание тогда убило I разу двух зайцев: быстро обнаружило преступника и спихнуло его нам. Адамову внушили (каким образом — это секрет их фирмы), что явка с повинной — единственный шанс на спасение. И он, готовенький, созревший, «чистосердечно» признался. И будь на нашем месте другие следователи, ничего бы не изменилось: он мог придти с повинной хоть к Генеральному прокурору, хоть к министру.
— Теперь, «задним умом», и я это понимаю. Не исключено, что и на место убийства его заранее вывозили. Уж больно точно он там ориентировался.
— Вариантов много: когда он, пристегнутый наручником к милиционеру, шел вдоль насыпи, тот мог остановиться у нужного куста...
— А я заметил, что на дереве сук надломлен, торчал, будто указатель.— Недостатка версий у нас не было...
— А сейчас и деньги ему могли сунуть, он на них падкий. И припугнуть: их методы и возможности Адамов хорошо знает. В общем, у них может быть взаимный интерес, нам же предстоит выкарабкиваться самим...
Так, будто продолжая следствие, добрались к условленному месту встречи. Волженков распахнул дверцу машины, мы с Журбой быстро сели, автомобиль рванул прямо, затем Волженков переложил руль, и мы свернули в переулок, потом еще несколько неожиданных маневров, пока не оказались в узкой улочке, куда был только въезд.
— Хвост мог быть,— объяснил хозяин машины.— Я уже несколько раз замечал...
— И телефоны прослушивают,— поддержал Буньков.— В общем, «пасут» нас бывшие коллеги.
Начало встречи не предвещало ничего хорошего. Было очевидно, что оба подельника не играют, не нагнетают страсти, а в самом деле напуганы.
— Пора сушить сухари,— повернувшись к нам с Журбой, безнадежно произнес Волженков.— Обложили со всех сторон.
— Но факты, факты...
— Меня допрашивал московский следователь Прошкин,— стал излагать факты Буньков.— Так вот: у него есть заготовленное постановление на арест. Я подсмотрел фамилии. Твоя,— обратился он ко мне,— Журбы, Кирпи- ченка и моя.
— Не может быть!— вырвалось у меня.
— Печально, но факт,— подтвердил Волженков.— По своим каналам я узнал, что на совещании в прокуратуре БССР (оно проходило в узком кругу) называли пять человек, которых собираются арестовать. Судя по всему, это вы и еще кто-то.
— Тебе в Минске проще узнать,— упрекнул меня Буньков,— а ты от нас информации ждешь.
— По правде говоря, не считаю себя виноватым, вот и не интересовался,— парировал я.
— Или ты и в самом деле наивный, или прикидываешься?— разозлился Буньков.— Ни за что «выписал» человеку 15 лет и думаешь отделаться легким испугом. Даже если нет за что — найдут, «нарисуют» и накажут. Надо быть готовым,— сбавив тон, закончил он тираду.
Я решил взять инициативу в свои руки:
— Как же все-таки появилась эта злополучная явка с повинной, кто потянул Адамова за язык?
— Все виноваты, каждый приложил руку,— снял остроту вопроса Волженков.— Теперь не об этом думать надо. Как защищаться — вот что сейчас главное. Нужна общая позиция, иначе — крышка!
— А если смотаться куда-нибудь подальше в Сибирь, например?— продолжал я прощупывать настроение собеседников.— Отсидеться год, два, пока все уляжется, потом видно будет.
Между прочим, такой вариант я уже примерял к себе, но выбора не сделал, почему-то надеялся, что моя правота очевидна и гроза пройдет стороной. Хотя попадать под горячую руку не хотелось.
Буньков неожиданно поддержал мою идею:
— Для тебя — это выход. Ты идешь по обвинению первым, с тебя — главный спрос, на тебя — первый гнев!
— Так-то оно так,— неопределенно произнес я,— но объявят всесоюзный розыск, найдут. Чего сбегал, спросят. Невиновные, скажут, нс скрываются. Как бы не навредить себе. Хотя, конечно, никаких ограничений пока нет. Хочу — еду, хочу — нет.
Надо было узнать об их планах, а не раскрывать свои.
— Никто тебя искать не будет,— старался внушить мне мою же мысль Волженков.— Да и скрыться ты всегда сможешь, не учить же тебя...
— А вы-то сами как думаете?— поставил я вопрос ребром.
— Нам ехать некуда,— как о давно решенном, сказал Буньков.— У меня двое детей, у него — двое,— кивнул он на Волженкова.— Куда с таким обозом...
— Но если арестуют?
— Вероятность большая. Вот поэтому давайте договоримся: ни при каких обстоятельствах «бочки» друг на друга «не катить». Не надо давать дополнительные козыри следствию.
Я понял, что именно ради этого и согласились на встречу Буньков и Волженков. Заикнись я, допустим, что они «обработали» Адамова — и их позиция затрещит по всем швам. Но вслух начал говорить:
— Конечно, давайте выбираться из болота вместе. Ссылки друг на друга, взаимные упреки — это дополнительный свидетель обвинения. Нам он, естественно, ни к чему. На нас и так достаточно наворотят, есть кому...
Буньков, почувствовав наше с Журбой согласие, стал выкладывать явно домашнюю заготовку:
— Всегда и всюду подчеркивайте, что допрашивали Адамова с глазу на глаз. А то припишут коллективное воздействие. Нас отпихивайте, если мы к вам и заходили, то выясняли конкретные вопросы, но на допросах никогда не присутствовали, показания не читали. В общем, действовали строго по Закону.
— Как ни крути, а многое, если не все, зависит от Адамова,— подал голос Журба.— На кого покажет, тот и будет виноватым.
— А вы не видели его, не пробовали найти подход?— подхватил я тему, хотя был уверен, что правду они не скажут.
— Безрезультатно,— вздохнул Волженков,— он теперь «на коне»: получил новый МАЗ, смело закладывает за воротник, никого, мол, не боюсь. Если будет продолжать такими темпами, может и спиться. На каждом углу кричит, что никого из нас не простит, всем отомстит, всех посадит. Так что какой уже тут контакт...
— А все-таки?— настаивал я.
— Пытаемся, пробуем,— уклончиво ответил Буньков, а Волженков, как бы вскользь, предложил:
— А почему тебе не позвонить в автокомбинат? Пригрози, припугни, он парень трусливый, сразу в штаны...
Такой дешевой «покупки» я, признаюсь, не ожидал. «Я звоню, угрожаю,— пронеслось в голове.— А он на следствии об этом заявляет. Да еще и свидетеля найдет. Тогда уж действительно крышка.» Так Волженкову и ответил:
— Звонить этому подонку не собираюсь. Унижаться перед ним — это уж слишком. Много чести для него!
— Да, не подарок нам попался,— поддержал меня Жур- ба.— Я слышал, что иные, кого незаконно привлекли по другим делам, ведут себя более солидно. А этот валит в кучу все, что в голову взбредет. Ложь от правды, если она у него есть, отделить нельзя.
— А все-таки,— продолжал гнуть свою линию Волжен- ков,— давайте сбросимся по тысяче, может, «клюнет»? На деньги он падкий.
Я категорически отказался, и на этом наша встреча с бывшими милиционерами закончилась.
— Ищут контактов с Адамовым, если уже не нашли,— резюмировал я.
— Кто ищет, тот всегда найдет,— философски заметил Анатолий.
— Но нам по этому пути идти нельзя,— твердо сказал я.— Он и так изолгался, накрутил столько, что и сам, пожалуй, не помнит, что, когда и где говорил. Подумать только, признался в убийстве, чтобы спасти собственную шкуру. И нас подставил, а мы, пытаясь найти в нем что-либо человеческое, поверили в раскаяние. Уму непостижимо!
— Ты прав,— согласился Журба.— Если он себя оговорил, то сколько грязи он может вылить на чужих людей. Впрочем, ом так и делал: помнишь, как изощрялся, рассказывая о шоферах своей бригады. Будто у каждого под кроватью побывал...
Расстались мы с Анатолием трудно. Я видел, что неопределенность, гнетущая атмосфера почти сломали его. И, к сожалению, у меня не было никаких аргументов, чтобы поддержать товарища. Мне самому нужно было собрать в кулак оставшееся мужество.
Пасмурным сентябрьским днем я вновь шел в прокуратуру. По-осеннему тоскливо было и на душе — предстоял второй допрос. Не подняли настроения и знакомые, которых встретил в коридорах «конторы». Сочувственные взгляды, соболезнования, будто я уже был покойником,
многозначительные вздохи. А один из бывших коллег по секрету сказал:
— Располагаю информацией, что тебя хотят сделать крайним. Не повезло тебе крупно — могут арестовать. Да- а-а... Попал ты под волну, накроет.
Атмосфера сгущалась, и я почти обрадовался, увидев Борисова. Окликнул его: и знает обычно о многом, и все-таки довольно близко знакомы по витебским командировкам. Тот явно неохотно подошел, всем видом выражая занятость.
— Аркадий Семенович, чего мне ожидать от следствия?— в лоб, без всякой дипломатии, спросил я.
Не стал со мной церемониться и он:
— Будут привлекать. Уж больно много нагрешил.
— Следствие велось объективно. У вас даже консультировался,— закинул я удочку.
— Я тебе не советовал дописывать, исправлять,— отпихнул он.— А это, сам знаешь, как называется.
— Да не было у меня никакого умысла, ничего я не фальсифицировал. Где в моих действиях уголовно наказуемое?
— Я от дела отошел, москвичи ведут,— как говорят, «умыл руки» Борисов.— Но ситуация складывается не в твою пользу.
Глядя на его продолговатый лысый череп, я со злостью подумал: «Как в застолье со мной сидел — так другом звал, а теперь яос тюрМ'ЙШ». Не зря говорят, что отца родного ради карьеры загубишь. Небось, и сейчас глотку против меня дерешь, а мне темнишь, что отошел от дел.» А вслух успел сказать:
— Вроде бы опытные „люди собрались в следственной группе, а разобраться, где Закон, а где — беззаконие, не можете... Хотите сделать из меня козла отпущения.
— У меня своих забот по горло, а про твою судьбу другие думают,— нс подав руки на прощание, резко свернул он в свой кабинет.
У меня чуть не сорвались вслед не совсем пристойные слова, которых Борисов, между прочим, и заслуживал, но открылась дверь и меня пригласили на допрос.
— Прошкин, следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР,— басовито представился сидевший за столом. Пожимая огромную руку и называя себя, я по привычке составил словесный портрет. Раза в полтора шире меня и на полголовы выше. Лицо полное, глаза голубые, навыкате. Чем-то напоминает актера Моргунова — Бывалого в знаменитой троице из кинофильма «Самогонщики», только и разницы, что тот — лысый... «Толстые, как правило, добрые,— вспомнилось мне поверье.— Может, и он не исключение...» Не сводил с меня изучающего взгляда и мой собеседник. Видимо, оба мы заметили, что одеты в похожие штроксовые костюмы: у одного — синий, у другого — коричневый. И оба чуть заметно улыбнулись. Воспользовавшись этим пустяковым случайным совпадением, первым задал вопрос я:
— И надолго вы меня задержите?
— Разговор у нас долгий, за один день не справимся,— как-то благодушно ответил Прошкин, готовя необходимые бумаги. «Хорошо, что хоть об аресте не сказал»,— облегченно вздохнул я.
Наведя на столе порядок, следователь уже официальным тоном произнес: «Приступим».
Быстро занеся в протокол анкетные данные, Прошкин захотел узнать не краткую, а полную мою биографию: где раньше работал, чем привлекла прокуратура, вел ли другие уголовные дела... «Все это есть в личном деле, небось, давно уже изучил, а спрашиваешь,»— недоуменно подумал я, а сам задал встречный вопрос:
— В прошлый раз я беседовал с другим следователем. Где он?— умышленно назвав допрос беседой.
— Руководит всей нашей группой. Дело о незаконном осуждении граждан за убийства разбито на эпизоды, каждый случай проверяет специальный следователь. Вот и дело Адамова, вернее — ваше дело, выделено в отдельное производство. И вести его поручено мне,— буднично, как школьный урок, разъяснял Прошкин, внимательно наблюдая, как я отреагирую.
Человеку, мало искушенному в тонкостях юриспруденции, эта формулировка мало что говорила, но мне, профессионалу, сразу же стало ясно: сухим из этого болота я не выйду. В общей массе можно и затеряться, а тут, считай, персональное дело. И начинать решили, видимо, с нас. Верно сказали: «Нашли крайних».
— Вам ясно?— переспросил Прошкин.
— Ясно-то ясно,— возмутился я.— Но ведь Адамов ни одного дня не пробыл в заключении незаконно, можно сказать, меньше других пострадал. А есть такие, кто больше десяти лет отсидел, даже расстрелянные.
— А в вашем деле проще разобраться,— не стал скрывать Прошкин.— Оно последнее по времени, все материалы, как говорится, «свеженькие». А что касается других — там уже многое время унесло. Детали стерлись, затушевались. Так что все естественно,— подытожил он.
— Значит, по нам удар из главного калибра, выходит, не важно — виноваты или нет?
— Все, кто виноват, будут привлечены к ответственности,— умерил мой пыл следователь. И повторил слова руководителя группы:— Здесь вопросы задаю я. Вам надлежит отвечать. И только.
— ...В феврале 1984 года, требуя от Адамова признания в убийстве, вы угрожали ему?
— Нет. В протоколе допроса дословно зафиксированы мои вопросы и ответы Адамова. Он составлен объективно.— Достав заранее приготовленный блокнот, спросил у удивленного Прошкина:— Я могу записывать некоторые моменты этого допроса?
— Можете,— недовольно буркнул тот; после некоторого замешательства и уже более напористо продолжил:
— А на Самсонова вы каким-либо образом воздействовали? Угрожали ли и ему?
— Нет,— снова категорически отказался я. Мне стало ясно, что Прошкин решил последовательно пройти по всем этапам дела об убийстве Кацуба, используя протоколы, составленные именно мною. На первый взгляд, большой сложности для меня такой хронологический экскурс в прошлое не представлял: я хорошо помнил все эпизоды, особенно те, участником которых был. Но с ответами не спешил, обдумывая каждое предложение, каждое слово, вдумываясь в подтекст каждого вопроса. Не оставил без внимания и коварное «и», прозвучавшее в последней фразе Прошкина: «Угрожали ли и ему?» «Надо быть настороже,— сказал я сам себе.— Уж больно хитро использует он «великий, могучий» русский язык. Гоняет слова, будто футбольный мяч, от ворот до ворот. Забудешь, отвлечешься — и гол в твои ворота».
Мои собранность, настороженность, не скрою, умышленная медлительность пришлись Прошкину явно не по нраву. Он хмурился, морщился, недовольно подгоняя меня. Но мне не было нужды отступать от избранной тактики, и раздражение следователя стало прорываться наружу. Его логические ловушки становились все более примитивными, мои ответы все более уверенными. Когда речь заходила о незаконных методах следствия, я сразу, не задумываясь, односложно отвечал: «Нет!». В других ситуациях его логика наталкивалась на мою, его профессионализм — на мой, тем более умноженный на огромное желание победить. И результатом двухдневного противостояния, вылившегося во многочасовый допрос, была, скорее всего, ничья. Хотя уже позже, читая объемистые материалы по моему делу, я обнаружил одну фразу, пропущенную мною при подписи протокола. Ее двойной смысл и стал единственным козырем Прошкина. Но первая наша встреча закончилась довольно мирно — мы расстались, обменявшись дипломатически вежливыми улыбками.
Отчетливо представляя, что прокуратура вцепилась в меня мертвой хваткой, я сохранял надежду, хотя и призрачную, что на пути этого безжалостного монстра встанет райком партии. Без его санкции, то есть до исключения из КПСС, упрятать меня за решетку не могли. А райком не спешил с разбором наших персональных дел. Правда, я несколько раз давал объяснения члену партийной комиссии — въедливому ветерану. Он неплохо изучил материалы и особый акцент делал на неправомочном задержании Адамова. Я, не желая наживать лишнего врага, соглашался, что действительно было допущено нарушение норм УПК, но оно вызвано конкретными объективными обстоятельствами, а не моей предвзятостью. К тому же, доказывал я, работа еле- дователя настолько сложна, что ее порой нельзя втиснуть в жесткие рамки даже всеобъемлющего УПК. Как бы то ни было, райком явно «тянул» с разбором, и эта неопределенность все больше давила на психику. Сегодня я не сомневаюсь, что задержка происходила не из-за недостатка информации — к ней доступ был. Уверен, что так было задумано: издергать человека неизвестностью, довести его до предела, принудить сдаться и согласиться с любым обвинением. У системы был большой опыт...
Вероятно, в верхах решили, что время «собирать урожай» пришло, как и в природе, в сентябре. В начале месяца — допрос у Прошкина, в конце — вызов на бюро райкома. Перед дверью зала заседаний встретил Самохвалова и Ковшара — нам выпало пройти чистку в один день. (Мне- вец был в отпуске, а Кладухина почему-то отделили от нашей компании). Атмосфера в узком коридорчике перед «чистилищем» была до крайности нервная: люди вздрагивали от каждого скрипа двери, заискивающе заглядывали в лица снующих партийных боссов и даже рядовых клерков. Были и редкие исключения.
— На заводе я всегда был на хорошем счету,— рассказывал спокойно, будто в магазинной очереди, немолодой рабочий,— план выполнял и перевыполнял, в передовиках, в общем, ходил. И как пристали ко мне мастер и секретарь парторганизации: подавай заявление в КПСС и подавай. Отвечаю: зачем, мол, мне это надо, обойдусь как-нибудь. А они, как с ножом к горлу: «Уволим, если не согласишься». Уломали — вступил, не терять же хорошую работу. Год хожу в коммунистах, второй, третий, плачу взносы. И вижу, ни мне пользы от этой партии — числюсь в ней, да и только, ни ей. Подумал и написал заявление об отчислении. На заводе шум поднялся, все забегали: как, мол, посмел ты, кто научил? Вот теперь сюда вызвали... Скорее бы все закончилось,— недовольно произнес он,— скоро семь вечера, дома ждут, а я тут болтаюсь.
На него смотрели с удивлением, сторонились: откуда здесь, в одной из партийных крепостей, появился инакомыслящий? Ведь большинство, если не все, пришли сюда с прямо противоположной мыслью, с затаенной надеждой остаться в рядах КПСС. В их числе был и я... «Что-то непонятное творится,— размышлял я.— Одни искренно стремятся в партию,— им говорят: ваша очередь не пришла, интеллигенты уже выбрали свой лимит. Других буквально за уши тащат в партком, хотя отлично знают, что они будут балластом. Кое-кто давно скомпрометировал себя, но по- прежнему сидит в высоких президиумах, а тут чуть оступился — и персональное дело, исход которого, видимо, предрешен...»
...Какими все-таки стереотипами напичканы головы многих руководителей, как однообразно они мыслят, как трафаретно излагают эти мысли, какие заезженные фразы и обороты употребляют. Будто кто-то размножил огромным тиражом навсегда установленные правила, от которых отступать категорически запрещено. Впрочем, кто заказывал тираж, все хорошо знали. Вот и на сей раз член партийной комиссии почти слово в слово повторил обвинения и выводы, уже слышанные мною в прокуратуре. Секретарь райкома, ведший заседание, на минуту оторвался от чтения бумаг, остро взглянул на меня и буднично спросил:
— Партбилет с собой?
— Да.
— Сдайте его.
Не скрою, тяжело было расставаться с красным прямоугольником, который десять лет с гордостью носил в кармане. Вдруг задрожавшей рукой передал его кому-то из сидевших за длинным столом и уже словно сквозь плотную пелену слушал ненужные вопросы:
— Сколько дел вы расследовали за свою карьеру следователя?
— Почему не пригласили в группу более опытного работника?
— Почему не отказались от ведения дела?
— Почему обвиняемый жалуется на вас?
Все эти «почему», «зачем» и «как» задавались для видимости, для протокола, а на исход дела повлиять не могли. Поэтому и отвечал автоматически, даже не вдумываясь в суть произносимого; безразличие, апатия охватили меня — я понял, что бывших товарищей по партии нисколько нс ин- терссует моя судьба. Они провели очередное «мероприятие» и назавтра забудут обо мне...
Кольцо вокруг меня сжималось. Почти физически я чувствовал приближение развязки. Стал раздражительным, нервозность сменялась полной апатией, затем мозг вновь начинал лихорадочно искать пути спасения — срабатывали рефлексы самообороны. Мои близкие — жена, дочь, теща — старались помочь мне, как могли, сглаживали острые углы, ни в чем не упрекали. Глубоко порядочными оказались коллеги по работе: никто не лез в душу с назойливыми вопросами, не придирался к мелким ошибкам, которые при желании всегда можно найти. Однако все это не могло затушевать главную проблему: как предотвратить арест или, по крайней мере, избежать сурового наказания.
Как обычно в трудные минуты, захотелось увидеть маму. Нет, я не собирался рассказывать о своих неприятностях — она и так хватила горя на своем нелегком веку. Жила надежда, что родительский дом прибавит сил, пополнит растраченную энергию, успокоит мятущуюся душу. А главное, верилось, что, как в детстве, мама ласковыми руками, добрым словом разгонит тучи, тихой молитвой отведет беду. Как ни бодрился, как ни сочинял небылицы о счастливом житье-бытье, материнское сердце почуяло неладное. Правда, и внешне я очень сдал: похудел, осунулся, глаза запали. «Много работы, мама,— отговаривался я, пытался даже шутить: — Да худым легче по земле ходить». Неожиданно для самого себя и для мамы решил взять ее на зиму к себе в Минск. На дворе уже стоял сентябрь, впереди зима, а старому, одинокому человеку в деревне холода пережить трудно. Брат противился, говорил, что будет помогать матери, но я настоял на своем. Я чувствовал, что в это время моей семье лучше быть вместе.
...К отцу я приходил в разные минуты своей жизни; рассказывал об удачах, как в прошлый раз, просил помочь, дать совет, когда что-то не ладилось. Абстрактно я не верил в потусторонний мир, но почему-то был убежден, что именно мой отец слышит меня, принимает участие в моей судьбе. Наверное, потому, что многим был обязан ему, многому научился, многое перенял. Присев на скорбный холмик, усыпанный опавшими листьями, осторожно провел ладонью по теплой от осеннего солнца могильной плите, будто прикоснулся к отцовской руке. И мне почудилось, что камень чуть дрогнул, стал мягче, отец откликнулся, разделил горе, поддержал: «... Не отчаивайся, сын!» На глаза навернулись слезы, запершило в горле — я уткнулся лицом в колени, дал волю прорвавшимся чувствам... Тяжелым оказалось на этот раз свидание с отцом, грустной была разлука с родимым домом.
О возможной разлуке и с минским домом зашел у нас как- то вечером разговор с женой, Людмилой. Мать и дочка уже отдыхали, и мы могли обсуждать наши дела откровенно.
— Встретила Виктора из прокуратуры,— тревожно сказала она.— Предупредил,-что тебя могут арестовать.
— Думаю, что обойдется. Побоятся они пойти на такой опрометчивый шаг,— как можно более спокойно отреагировал я.— В конце концов, соберусь да уеду куда-нибудь на Север, пока буря утихнет. А потом все вернется на круги своя.
— Не знаю, не знаю...
— Подписку о невыезде я не давал, куда хочу — туда и еду...
— Ох, Боже!..
— Так как поступим?— мне хотелось, чтобы решение мы приняли вместе, чтобы Людмила не думала, что я бросаю семью на произвол судьбы, заботясь только о своем спасении.
— Что же, пожалуй, ты прав. Иного выхода пока нет,— с трудом подбирая слова, проговорила жена.— Пока надо от беды да прокуратуры подальше.
Не откладывая в долгий ящик, решили заняться подготовкой к моему отъезду, договорились встретиться назавтра в универмаге, купить вместительную дорожную сумку. Этими хлопотами старались заглушить тревогу, бездействие было для нас страшнее сибирскиах или якутских морозов.
— А за нас не беспокойся, мы не пропадем, будем ждать тебя,— как о свершившемся факте, говорила жена об отъезде.— Мы все любим тебя, ты самый дорогой наш человек.
Лишь бы с тобой ничего не случилось. Я верю, что скоро мы снова будем вместе,— она успокаивала меня, убеждая в правильности решения, а сама еле сдерживала слезы. И в который раз я подумал, как много значит, когда рядом родная, любящая душа.
Назавтра приобрели огромную сумку.
— Пригодится потом белье в прачечную носить,-— нашла силы улыбнуться Людмила.
— Дай-то Бог,— вздохнул я.
— Не вешай нос, Валера!— не давала мне возвращаться к тяжелым думам жена.— Устроишься там, будешь писать, звонить. Правда, теперь телефон, по-моему, прослушивают, но найдем знакомых надежных. Разве у нас друзей нет?!
На том и порешили. Подобрав необходимые вещи, особенно теплые — впереди была зима, Людмила аккуратно сложила их в новую сумку, потом мы вместе запаслись продуктами, в общем, впереди меня ждала дорога. Покинуть Минск решил накануне ноябрьских праздников...
Бог предполагает, а черт располагает — в правде этой пословицы я убедился в конце октября, за неделю до задуманного отъезда. На рабочем столе зазвонил телефон, я поднял трубку.
— Говорит следователь Прошкин. Вы не могли бы приехать сейчас в прокуратуру? И Документы не забудьте...
Требование быть с документами насторожило: «Что это — арест? Если да — что делать?». Вышел на улицу, позвонил по автомату знакомому в прокуратуру: что бы это значило? Тот успокоил: «Следователю надо что-либо уточнить, так положено, обычная формальность, не паникуй». Немного отлегло, но тревога не оставляла. На всякий случай решил подстраховаться: нс поехал домой за документами, а зашел у поликлинику, взял талон на прием к врачу. В кармане у меня был закрытый недавно больничный лист с диагнозом «острое респираторное заболевание и коронарная сердечная недостаточность». Эта всеобщая наивная вера в силу официальной бумажки, укоренявшаяся в нашей стране десятилетиями, а то и сотнями лет, конечно, смешна, но я себя почувствовал увереннее. Однако желания идти в прокуратуру как не было, так и не появилось. Долго кружил по мокрым улицам, ежась от ветра и сырости, подходил к знакомому зданию, смотрел на окна, а ноги сами поворачивали назад. Несколько раз пересчитал ступеньки ш крыльце кинотеатра «Победа», что находится рядом, пытался прочесть рекламу, но буквы сливались в сплошную линию, а голова не воспринимала никакую информацию. Вновь вышел под моросящий дождь, набрал номер жены. Людмила встревожилась, разволновалась, но посоветовала идти. Я медлил. «Может, плюнуть на этого Прошкина, забежать домой, схватить сумку и махнуть на попутке куда глаза глядят, от греха подальше...»
Решение не приходило. И это состояние раздвоенности изводило больше всего. «А, чему бывать — того не миновать»,— собрался я наконец с духом и через минуты три был в здании, где решалась моя судьба. Массивную фигуру Прошкина издали увидел еще в коридоре. Ненатуральная для его комплекции суетливость, бегающий взгляд, который мне не удавалось поймать,— все это усилило мои подозрения. Стал он похожим на самого себя только за столом, плотно усевшись в жалобно заскрипевшее под ним кресло. Лоснящееся розовое лицо приняло надлежащую уверенность, выпуклые глаза смотрели тяжело и отчужденно.
— Документы принесли?
— Нет, я сразу с работы к вам...
— Принято решение о вашем аресте. Вот постановление, санкционированное прокурором БССР.
Это были самые страшные слова, услышанные за все мои 34 года. Буквы «р» почти в каждом слове двух коротких фраз слились в непрерывный рык какого-то доисторического зверя, а громадный Прошкин представился мне кровожадным монстром. Я на себе ощутил точность выражения — «внутри все заледенело», но, странно, сердце билось с такой силой и частотой, что грудная клетка еле выдерживала его удары. Меня трясла ознобная дрожь, лицо пылало; наверное, именно в такие моменты настигают инфаркты и инсульты, или, как говорили раньше, апоплексические удары. Потребовалось несколько мгновений, прежде чем удалось сбросить это наваждение. Да, Прошкин ударил наотмашь, не щадя меня нисколько.
— Это беззаконие! Остановитесь! Разберитесь!..— выкрики срывались непроизвольно, я почти не контролировал себя.
— Ознакомьтесь,— резко прервал меня Прошкин и протянул постановление об аресте. Строки расплывались, буквы никак не складывались в слова, мозг фиксировал лишь отрывки: «оказывая физическое и психическое воздействие... привлек заведомо невиновного... совершил тяжкое преступление... предусмотренные статьями...». Жирным пятном показалась гербовая печать, какой-то зловещий символ напомнила подпись прокурора.
— Вы... совершаете... большую... ошибку,— слова выговаривались трудно, на языке будто пудовый камень повис.— Вы... будете... отвечать...
— Я и сейчас ответственен перед Законом,— философски спокойно заметил Прошкин.— Прочитайте внимательно и распишитесь. Впрочем, вы порядок знаете.
— Да, богатая у вас фантазия,— потихоньку выходя из шокового состояния, криво усмехнулся я.— Наворотили абракадабру — это же дикость какая-то! Неужели вы сами в эту чушь верите?!
— Обвинение предъявляется только тогда, когда собраны доказательства...
— Все, что здесь написано,— абсурд,— гневно потряс я листом бумаги.— Здесь нет сотой доли истины. Остановитесь, пока не поздно!
— В отличие от вас, Сороко, мы вначале меряем, а потом режем.
Бессмысленность моего возмущения была очевидна: постановление об аресте никто отменять не будет, тем более сам прокурор республики, но несуразность происшедшего казалась мне настолько явной, что я продолжал, будто заезженная пластинка, повторять:
— Это незаконно... противоправно... вы ответите...
Прошкин, видимо, привык к подобной реакции. Он безучастно перекладывал бумаги на столе, проверял, хорошо ли пишет ручка, терпеливо ожидал, когда я укрощу свои нервы...
— Разрешите позвонить жене, предупредить ее,— вернулся я к реальности, увидев подставку с несколькими аппаратами.
— В город выходит красный,— неожиданно любезно подсказал Прошкин.
Телефоны стояли на подоконнике. Сквозь мокрые стекла были видны служебный гараж, машины, суетившиеся возле них ремонтники и шоферы. «А что если — головой вниз? Все-таки четвертый этаж, внизу асфальт»,—- пронеслась шальная мысль, пока набирал номер. Я даже мгновенно представил лужу крови, растерянного и изумленного Прошкина. «А если только покалечусь, все пойдет по второму кругу?»— отрезвил я сам себя, ожидая, пока поднимут трубку.
Услышав голос жены, я разрыдался. Понимал, что это стыдно, тем более на глазах у Прошкина, что Людмиле сейчас труднее, чем мне, но ничего не мог с собою поделать.
— Я арестован,— еле смог выдавить я.— Не жди меня, Людочка.
— Валера, милый, не может быть... Что мне делать? Я тебе помогу. Я позвоню в ЦК...— До меня долетали бессвязные фразы, потом ее голос задрожал и послышалось ответное рыдание. Никому из врагов, разве что Прошкину, не пожелаю я пережить такие страшные, мучительные минуты. Бсспомощность, отчаяние, предчувствие долгой разлуки прорывались в этом надрывном плаче — мы будто прощались навек.
Почти не владея собой, я, захлебываясь, советовал, умолял, просил:
— Не жди меня! Береги себя и Инночку! Я люблю вас! Помните меня. Выходи замуж. Я пойму! Я вернусь не скоро. Живите дружно. Я не виноват. Будь они прокляты!
Жена с трудом пробивалась сквозь неуправляемый поток, буквально извергавшийся из меня:
— Валера, тебя освободят. Я все сделаю. Мы все любим и верим тебе. Я буду ждать всю жизнь. Мы' с тобой!
— Расскажи дочке, какой у нее был отец. Расскажи правду...
— Мой ты, родной, все наладится. Мы любим тебя,— Людмила нашлась в плаче, я даже будто почувствовал солоноватый привкус, а может, это были мои слезы...
— Прощай! Не обижай маму. Не говори ей ничего, пусть ждет сына. Поцелуй Инночку. Не жди,— я в отчаянии бросил трубку на рычаг. А потом случилось до сих пор мною необъяснимое, даже видавший виды Прошкин перетрусил. На меня накатила волна злости и отчаяния: я выхватил из кармана записную книжку с телефонами и стал яростно рвать ее в клочья. Обложка не поддавалась, я скрипел зубами от неимоверных усилий, лицо перекосилось, я издавал какие-то хриплые звуки. Мне казалось, что я рву не бумагу, а свое собственное тело, и это хрустят кости, сухожилия, с треском расползается кожа. Резко распахнув форточку, выбросил пригоршню мусора за окно. Бумажки, будто осенние листья, медленно планировали к земле — это уходили от меня мои друзья, знакомые, моя прежняя жизнь...
— Зачем вы так?— голос следователя донесся как из другого мира.
— А чтобы никто не касался грязными руками моей души, моих друзей,— с вызовом, идя ва-банк, ответил я.
— Мы нс настолько плохо воспитаны...
— Знаем о вашем воспитании: и телефон прослушивали, и «хвосты» ходили. Так что уж лучше не надо,— мне хотелось побольнее уколоть жирного борова, сидевшего напротив, показать, что и я не лыком шит.
Прошкин недовольно поморщился, видимо, он надеялся, что слежка не замечена. Я решил продолжить атаку:
— А эту клевету,— схватил со стола прокурорское постановление,— разве мог состряпать порядочный человек? Здесь что ни слово — то ложь,— бросил я листок назад.
Моя агрессивность выбила Прошкина из колеи, лишила уверенности, и я решил воспользоваться его минутной растерянностью.
Вообще-то я болен, вы не имеете права меня арестовывать,— я демонстративно достал из кармана талон к врачу и бюллетень.— У меня повышенная температура, постоянно болит сердце. Я нуждаюсь в лечении!
Мой выпад застал его врасплох: не зная, как отреагировать, он набрал номер старшего следственной группы. Тот, вероятно, был в соседнем кабинете, потому что, как ни прижимал Прошкин трубку к уху, я смог расслышать совет:
— Вызовите «скорую», пусть даст заключение.
Выиграв время, я стал лихорадочно соображать, что сделать, чтобы врачи подтвердили мою болезнь, сыграли мне на руку. Вспомнил, что в кармане есть термометр — купил, когда заходил в поликлинику. «Надо, чтобы он отвлекся,— составлял я план.— Быстро достану градусник, подниму температуру, это не проблема, а потом заменю врачебный». Но Прошкин настороженно глядел на меня в упор, будто вычислял, что еще можно от меня ждать...
Скорая приехала быстро. Врач предложил мне раздеться до пояса. Приставив к груди и спине стетоскоп, прослушал, осмотрел горло и произнес обтекаемую фразу:
— Есть остаточные явления.
У меня появились шансы, тем более, что тонометр зафиксировал повышенное давление.
— У него и должно оно повыситься,— взял дело в свои руки Прошкин.— Он бывший работник прокуратуры, а сейчас мы его арестовали...
Врач быстро сориентировался и, отводя от меня глаза, произнес:
— Ничего страшного...
— В поликлинике ему дали бы больничный?— тяжелый взгляд будто гипнотизировал медика.
— Не знаю, скорее всего — нет,— сдался он перед Прошкиным.
— Тогда напишите об этом справочку,— удовлетворенно пОтер руки следователь. И даже подсказал врачу, как, что и в какой форме писать...
Работники «скорой» ушли, не оказав мне помощи. Лишь запах лекарств напоминал мне о мелькнувшей было надежде.
— Что, не удался трюк?— не скрывая ехидной улыбки, осведомился Прошкин.— Подписывайте постановление!
— Прочту, потом решу, что делать,— сумел выдавить я и стал всматриваться в расплывающиеся буквы:
«... Из карьеристских побуждений... с целью скрыть неумение... изобличить преступника... в группе со следователем Журбой... незаконно привлек... невиновного Адамова Олега Васильевича...
...Сороко принуждал граждан..., применял к ним физическое и психическое насилие..., вносил заведомо ложные сведения..., допускал превышение власти...
Своими действиями Сороко В. И. совершил преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 172 УК БССР, ...ч. 2 ст. 105 УК БССР, ...ч. 1 ст. 175 УК БССР, ...ч. 2 ст. 174 УК БССР...
Следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР, старший советник юстиции Л. Г. Прошкин.»
— М-да, такой степени варварства и коварства с вашей стороны я не ожидал. Сплошная надуманная ложь, непорядочный вы человек.
— Подписывай, а то еще за оскорбление...
— Куда уж больше, подписать-то я подпишу.— Я не стал впустую ломать копья, так как знал, что это меня ни к чему не обязывает.— Но виновным себя не признаю, вы творите беззаконие,— продолжал вести свою линию, но уже более спокойным тоном.
Явно повеселев, следователь настроился на деловой лад:
— А сейчас в соответствии с УПК я должен вас допросить. Приступим...
— Я отказываюсь давать показания,— огорошил я его первым же ответом.— И это будет продолжаться до тех пор, пока вы не прекратите беззаконие.— Я сознательно напирал на слово «беззаконие», подчеркивая, что не хуже его знаю, где находится грань между Законом и произволом.— Придет время и с вас спросят за эти художества.
— Зря вы так,— как-то безразлично произнес Прошкин.— Пришло время отвечать вам — арестованы именно вы. И позу эту бросьте. Нс таким рога обламывали. Посидите, одумаетесь — и рапорт напишите: «Готов давать показания». Не вы первый, нс вы последний,— и снисходительно улыбнулся, поднимаясь из-за стола. Он навис надо мною тяжеленной глыбой, и мне стало страшно — такой, не задумываясь, раздавит и даже не заметит.
...Перевернув несколько последних страниц, внимательные читатели (а я надеюсь, что они есть) заметят, конечно, сумбурность изложения, истеричный тон. Не в порядке оправдания, но хочу объяснить, что заметки о тех черных днях я делал не за удобным письменным столом, при свете лампы с зеленым абажуром, в уютной домашней обстановке, а в камере СИЗО тайком. Мне хотелось точно зафиксировать детали, не упустить ни одного нюанса. Как мне удалось сохранить старые записи, рассказ об этом еще впереди, а пока я пытаюсь передать свои ощущения в первые дни следствия. Так, к сожалению, было...
Прошкин вызвал конвой. По мою душу явились три высоких в длинных, будто кавалерийских, шинелях милиционера. «Все трое — сержанты», почему-то зафиксировала моя воспаленная память.
— В следственный изолятор КГБ,— прозвучало распоряжение.— Все уже оговорено, там его ждут,— уточнил он в ответ на вопросительный взгляд старшего группы.
Знакомые коридоры, лестничные марши. Я молил Бога, чтобы не встретился кто-нибудь из бывших сослуживцев: можно подумать, ведут опасного рецидивиста. И когда хлопнула последняя дверь, чуть облегченно вздохнул: пронесло. СИЗО КГБ находится рядом, внутри огромного, известного всем минчанам здания, занимающего почти квартал в центре города. Первая остановка — в маленькой подвальной камере. Офицер в армейской форме изъял бумажник, ключи, часы, ремень, деньги и даже газету, выписал квитанцию. «Когда-то я получу все это назад?»— мелькнуло в голове. По крутой металлической лестнице пошли на второй этаж, остановились перед дверью. Загремели засовы — вот оно, мое новое жилище: узкий, тесный пенал какой-то странной формы, что-то напоминающий, но именно что — память сразу не подсказала. Голые стены, до половины — голубые, дальше — потемневшая побелка. Метрах в четырех от пола — электролампочка в решетчатом кожухе. Вдоль стены — двое нар. Одни уже ждут меня, другие — опущены, закреплены замком. Небольшое амбразурное окно, до решетки и стекла более метра — такие здесь стены. Первое ощущение — жуткая мертвая тишина. Нервы опять сдали — уткнулся головой в холодную стену и беззвучно зарыдал: пусто, глухо, тоскливо было на душе. Вывел из транса посторонний звук: в массивной двери открылось окошко, которое я сразу и не заметил. Кормушка— вспомнил я тюремный жаргон. В проеме этой форточки увидел довольно приветливое загорелое молодое лицо.
— Успокойтесь. Не принимайте близко к сердцу. Может, все обойдется,— услышал непривычные для этого заведения слова.
— Спасибо на добром слове. Но находиться здесь невиновному,— попытался я излить свое горе, но контролер (так называется его должность) лишь подбодрил напоследок:
— Будьте мужчиной. Не раскисайте.— И кормушка захлопнулась. Мой утешитель продолжал обход. Камеры в СИЗО КГБ расположены по кругу, будто шарики в подшипнике, и контролер постепенно обходит их, через определенные промежутки времени заглядывая в яйцевидный глазок, вмонтированный в дверь: не случилось ли что с его подопечными, не нужна ли помощь. Уже в первые часы определил периодичность: 3—5 минут — и я оказываюсь в поле зрения охранника. Почему-то мне показалось, что такая информация мне пригодится.
Открылась кормушка — пришло время ужина. Я отказался от него, но тарелку пришлось взять. Поставил на вмонтированный в стену угловой столик, рядом с которым стояла также закрепленная наглухо табуретка. Затем убедился, что за мной никто не наблюдает, вывалил содержимое тарелки в помойное ведро — парашу. Таким образом я познакомился со всем интерьером камеры — убогим, давящим и, видимо, четко продуманным.
Каждая мелочь работала на то, чтобы сломить психику человека. Измотанный, с гудящей головой, с омертвевшей душой, прилег я на так называемую кровать — нары, на которые был брошен тюфяк, одна простыня и подобие подушки. Постель издавала затхлый тюремный запах, чем-то напоминающий «ароматы» грязных вокзалов и вагонных туалетов, с которыми мне часто приходилось сталкиваться во время частых командировок. Сил, чтобы сосредоточиться на чем-то одном, не было: то вспоминал семью, представляя, как дочь, Инночка, играет в какие-то свои детские придумки с бабушкой, а жена, наверное, звонит по телефону знакомым, делится бедой. То прокручивал в памяти бурную сцену в кабинете у Прошкина, пытаясь все-таки определить: арест — это всерьез и надолго или лишь попытка «взять на испуг», показать свою силу и мою полную зависимость от следствия. Но покаянных признаний им от меня не дождаться. «Я не Адамов, чтобы заниматься самооговором»,— подумал я, уже забываясь в тяжелой дремоте.
— Полотенце положите на окно, ложку — наверх,— вернул меня в реальность голос контролера.
Трудно соображая, выполнил приказ. Лишь потом понял: чтобы не повесился и не повредил себе что-нибудь. Снова впал в тяжелое забытье... Проснулся в холодной испарине: мне почудилось, что я лежу в гробу. Оглядев воспаленными глазами стены, потолок, понял, откуда это ощущение: камера в самом деле представляла собой по форме огромную домовину. Побеленная часть была как бы внутренностью крышки, в нижней, более темной, на нарах, лицом вверх лежал я. У двери камера была узкой, всего четыре мои ступни. К окну расширялась, достигая восьми. Промерил длину — шестнадцать ступней. Так и есть: пропорции гроба. В ужасе заметался от двери к окну, натыкаясь на нары.
— Лечь!— прозвучал окрик из кормушки.
Сон ушел, в мозгу возникали какие-то галлюцинации. Отчетливо увидел лицо отца, услышал его голос:
— Плохое ты выбрал ремесло — отправлять людей в тюрьму. Не жди добра...
Получалось, что все он предвидел, все знал наперед.
...Наступило мое первое тюремное утро. Под конвоем повели в общий туалет. Неся парашу, с любопытством разглядывал двери камер-ячеек, пытаясь представить, кто за ними томится.
Следствие временно оставило меня в покое. Видимо, у Прошкина был свой расчет, свой план — дать почувствовать, что я целиком в его власти, что он может замуровать в этих глухих стенах если не навсегда, то надолго. Регулярно, особенно ночью, накатывало отчаяние, образ камеры-гроба
ощущал холод могилы. Понемногу таяли остатки воли, появилась апатия, зрела мысль о самоубийстве. Я размышлял: фжс если меня когда-либо выпустят отсюда, на мне будет бежать несмываемое пятно, шансов вновь встать на ноги (юг никаких. Значит — прозябание, дно, положение отверженного, изгоя. Вместе со мною будут вынуждены страдать кена, дочь, мать. В грязи вываляют их, моих самых близких людей. Смерть разрубит этот узел, я уйду из жизни не зреступником, не осужденным, а бросившим вызов беззаконию. Пусть тогда не спят ночами Прошкин, прокурор и вся нх компания, пусть их мучают угрызения совести, им предстоит нести клеймо злодеев.
Теперь мысль работала только в одном направлении. С упорной настойчивостью я фиксировал время, через которое открывается глазок и когда контролер заглядывает ко мне; установил, что наибольшие паузы — 10—20 минут — на стыке ночи и рассвета, под утро. За эти минуты, по моим расчетам, я успевал завязать одну штанину за решетку окна (до нес можно было дотянуться), а из другой половины брюк, разорвав, сделать петлю. Охрана увидела бы уже только мой труп... И такая ночь наступила. Уже решив- (шись на последний шаг, почувствовав облегчение, написал предсмертную записку: «Прощайте! Ухожу в мир иной. Меня оклеветали, упекли в тюрьму. Суд непременно, находясь в зависимости от прокурора СССР, осудит меня. Доказать невиновность я бессилен. Позора не смыть. Подонки повстречались на моем пути. Им вторит негодяй Прошкин. Простите меня, если сможете, моя старенькая мать, мои жена и дочь, близкие, друзья. Я старался быть честным и доверять людям. Мама, жена, дочь, сестра, брат — помните обо мне. Я люблю вас и нс хочу, чтобы грязь, вылитая на меня, запачкала и вас. Моя любимая жена! Ты найдешь для дочери второго отца, он полюбит и воспитает се. Обещай, когда Инночка вырастет, рассказать, чья кровь течет в ее жилах, объяснить, что се отец был честным человеком. Мамочка, ты уже схоронила двоих детей, перенесешь ли ты утрату третьего?! Поэтому, родные мои брат и сестра, не говорите о моей смерти маме, убедите, что уехал хом. Ухожу к отцу...»
Записку положил на стол, прикрыв несъеденным куском хлеба. Лег на нары и стал в последний раз вспоминать так быстро промчавшиеся годы. Босоногое детство, поездки в ночное на лошадях, походы в лес за грибами, ягодами, помощь родителям по хозяйству, неповторимая атмосфера школы, неудачное поступление в университет... Училище, завод, армия, возвращение, встреча с родными, вновь университет, теперь заочный, работа, встреча с будущей женой, рождение дочери, семейное счастье — картины прошлого оживали, память подсказывала новые... Незаметно воспаленный мозг соединил явь и нереальность.
...Родной деревенский дом, знакомый до последней половицы,до крохотного сучка. В одной половине — огромная печь, где всем хватало места в зимнюю стужу, место детских секретов и маминых сказок. Большой обеденный стол, широкая скамья, шест для белья, вдоль стены — столярный верстак отца, из-под которого остро пахнет смолистыми стружками. В другой, «чистой» половине — высокая грубка, обложенная кафелем, к ней хорошо прикасаться спиною, сидя на небольшой скамейке — услончике, и смотреть телевизор. Застланные покрывалами кровати, полированный, работы отца, шкаф, цветы на подоконниках. Родительский дом, мое гнездо...
...Я дома один, собираюсь в дорогу. Входит отец в строгом черном костюме. Он чем-то озабочен, задумчив. Тихо спрашивает меня:
— Что, сын, тяжело?— и не дождавшись ответа, сам продолжает.— Знаю, очень тяжело: не та у тебя работа, добра она не принесет. Люди злом тебе ответят... Но ты крепись, не сдавайся...
— Я пойду, отец, надо спешить...
— Сиди. Сейчас мой час уходить. Тебе еще рано...
— Нет, нет, не удерживай...
— Мой черед,— отец поднимается, обводит взглядом дом, стены, будто прощается, печально смотрит на меня.
— Я с тобой, отец, я должен быть рядом...
— Ты останешься...
— Я решил...
— Тогда иди один,— он медленно опускается на скамью, выжидающе смотрит на меня.
— Мы пойдем вместе, у нас одна дорога...
— Тебе на эту дорогу рано, каждому своя пора, слышишь, сын?.. Прощай!..
Несколько поспешных шагов, будто он боится, что его опередят — и отец скрывается в темном проеме двери.
...Проснулся я от собственного голоса, глухо прозвучавшего в камере. Я даже повторил свою последнюю фразу: «Отец, отец, не уходи!» Под потолком ярко светила лампочка, видение рассеялось, но душой я чувствовал присутствие отца, казалось — протяну руку и дотронусь до него... Увы, это был лишь сон. Медленно вернулся в реальность, в тесную камеру, где мне предстояло свести счеты с жизнью. За окном стояла глухая ночь, наступило время осуществить задуманное. Но будто кто-то тяжелыми цепями приковал меня к нарам, парализовал тело. Это был не страх перед смертью, я уже переступил через него,— на меня магически подействовала встреча с отцом, его запрет идти вслед за ним, вместе с ним. «Тебе еще рано..., рано..., рано...»— звучало у меня в ушах. «Рано..., рано..., рано...»— пульсировала жилка на виске. «Рано..., рано..., рано...»— пробуждалась от безысходности душа, светлела голова. Пытаясь сосредоточиться, увидел высоко в углу, под потолком, паука, который тороплило плел свою сеть. «Нет, я вырвусь из паутины. Мне еще рано уходить!»— приказал я сам себе, вспомнив слова Хемингуэя: «Человек рожден не для того, чтобы терпеть поражения, человека можно убить, но его нельзя победить». Вот так в камере следственного изолятора встретились два мудрых человека — мой отец-столяр и писатель Хемингуэй, чтобы уберечь от смерти заблудшего и отчаявшегося человека!..
Воспрянув духом, начал детально анализировать ситуацию, прорабатывать варианты, попеременно ставя себя то на свое сегодняшнее место обвиняемого, то входя в привычную ранее роль следователя. Было ясно, к делу привлекут не одного меня — напрямую причастны к нему и Журба, и Буньков, и Волжснков, и Кирпиченок. И многое будет зависеть от того, какую позицию займут работники милиции. Если они «залетят», начнут выкручиваться, «покатят бочки» на меня — мне не сдобровать. Правда, на последней встрече мы договорились держаться вместе, не давать следствию лишних козырей, но как знать, как знать... Однако ни в коем случае мне самому нельзя и думать о том, чтобы как-то переложить вину на них. «Угол падения равен углу отражения»,— вспомнил я применительно к нашей ситуации и еще — «как аукнется, так и откликнется». Да, разводить склоку нельзя, молчание в моем положении — золото. Эти всплывшие в памяти поговорки, школьные истины подтвердили, что психика моя восстанавливается, шок прошел. И напрасно Прошкин думал, что может натравить меня на дознавателей, я ему таких подарков делать не собираюсь. Но как сообщить о своей твердости на волю, как прорвать информационную блокаду? Решение оказалось довольно дерзким, но просчитанным мною до мелочей. «Напишу в ЦК КПБ, откуда, конечно, переправят жалобу в прокуратуру БССР, а там утечка неизбежна. Есть друзья, знакомые, доброжелатели — заработает система оповещения».
Жалобу составлял аргументированно, обосновывая каждую претензию, подчеркивая незаконность ареста, несогласие с обвинением. В конце написал главное: «... Я отказался давать показания по предварительному следствию. В знак протеста пояснений давать не буду. Прошу потребовать своей партийной властью от прокурора республики, так как он санкционировал арест, будучи введенным в заблуждение следователем, отменить санкцию, отменить абсурдное обвинение, восстановить мое честное имя...»
Первый шаг был сделан. Я начал борьбу.
Пожалуй, я не буду оригинальным, если скажу, что любое расследование — это своего рода шахматная партия. Противоборствующие стороны стараются запутать соперника, поставить перед ним неразрешимые задачи, подстроить ловушки, обескровить, выбить из рук аргументы и заставить сдаться. Правда, в этой аналогии есть существенный изъян: если рядовые шахматисты играют ради спортивного интереса, гроссмейстеры борются за денежные призы, порою миллионные, то за столом следователя ставки гораздо выше — свобо-
да или неволя, а иногда и жизнь. И в этой бескомпромиссной, жестокой борьбе очень важно, кто сделает первый ход.
Написав письмо в ЦК КПБ, я считал, что инициатива в моих руках. Пять дней понадобилось Прошкину, чтобы сделать ответный выпад — пять дней меня не вызывали на допрос. Возможно, это была попытка сломить меня психологически:!: голые стены, камера-гроб, полное одиночество, скудная пища, отсутствие какой-либо информации. Но мой противник допустил просчет: к такому развитию событий я был готов. Прошкин не был оригинальным. Он даже некоторым образом помог мне: арест, СИЗО, одиночка, мысль о самоубийстве, вещий сон — все это спрессовалось в непрерывный кошмар, и надо было все осмыслить, «разложить по полочкам». Провести, как говорят, домашний анализ.
...Крутая лестница, длинный коридор, обитые дермантином двери. Где-то среди них и та, где готовится к сражению- допросу Прошкин. Пытаюсь угадать, где именно меня ждут. Одна из дверей распахнута, мимоходом заглядываю: в кабинете руководитель следственной группы из Москвы и новый следователь, Игнатович, который ведет дело по обвинению Михассвича. Успеваю встретиться с ними глазами — взгляды непроницаемые, может, чуть сквозит любопытство. Впрочем, какое это имеет значение. У меня есть свой, личный, персональный враг...
Оказывается, мне подготовили сюрприз. У Прошкина ассистент — невзрачный, тощий, со странной редковолосой бородой, клочьями идущей вниз. Смотрит настороженно, вприщур. Прошкин, на правах «старого знакомого», начинает без ненужных предисловий:
— Я обязан познакомить вас с составом следственной группы. Вот список,— протянул он листок.
Быстро пробегаю глазами: в перечне около десяти фамилий, знаю две — Борисова и следователя Суханова. Смотрю на бородатого.
— Следователь Кирсанов,— представил его Прошкин.
— Прокурор-криминалист,— уточнил тот.
— Да-а, широко размахнулись, не из своего кармана Генеральный прокурор платит,— язвительно прокомментировал я многочисленность группы.
— Надо быстрее закончить,— сразу примирительно ответил Прошкин, а потом жестко добавил:— Людей безвинных из-под стражи освободить.
Я перевел разговор на другие рельсы:
— Жена звонила? Как они там?
— Конечно, конечно. Беспокоилась. Сказала, что дома все в порядке, все здоровы. Спрашивала, что передать?— в эти секунды мне показалось, что в Прошкине проскользнуло нечто человеческое. Он протянул лист бумаги, предложил:
— Напишите, что вам необходимо. Вы имеете право на одну передачу в месяц,— подчеркнул все-таки мой статус подследственного.
— Я надеюсь, что столько здесь я не задержусь,— мгновенно отреагировал я, но список необходимого составил: спортивный костюм, домашние тапочки, рубашка, писчая бумага, сало...
Кирсанов уже суетился возле магнитофона, настраивая его, делал пробы. Затем чуть ли не торжественно объявил:
— В соответствии со ст ... УПК БССР допрос будет произведен с применением звукозаписи.
«Старайся, старайся,— подумал я, глядя на приготовления криминалиста.— Но твоя «музыка» не пригодится. Показаний я вам давать не буду. Домашнир заготовки есть и у меня...»
— Приступим,— начал было Прошкин, но сразу же услышал мое решительное:
— Я отказываюсь давать показания.
Такого поворота событий они явно не ожидали. Прошкину потребовалось минута-вторая, чтобы «очухаться»:
— Вы же юрист, и знаете, что молчать вТзашём положении, по меньшей мере, неразумно. Ведь есть смягчающие обстоятельства, есть отягчающие — не разжевывать мне это все...
— Я не прошу помощи, советы оставьте при себе. Именно потому, что являюсь юристом, и выбрал такой способ защиты. Будете на моем месте, поступайте по-своему.
Показать, что он присутствует на допросе не для «мебели», решил и Кирсанов:
— Против вас собраны неопровержимые улики. Бессмысленно их отрицать. А помощь следствию пойдет в зачет...
— Еще раз повторяю: не нужна мне ваша помощь, тем более не собираюсь помогать вам,— стоял я на своем.— А обвинение считаю абсурдным, какие такие «улики» вы собрали — не знаю, их просто не может быть в природе.
Мне крайне важно было, чтобы они раскрыли хотя бы одну свою карту, показали, что у них есть в «загашнике». Прошкин, кажется, клюнул на мою наживку, стал лихорадочно искать нужную ему бумагу. Перелистав один из протоколов, спросил:
— Вы хорошо помните тот день, когда в сарае Адамовых была найдена фотография?— и не дожидаясь моего ответа, продолжил:— Вот показания понятого Черных: «Когда я нашел фото, то его не разглядывал, а передал сразу Сороко».
— Ложь, он рассматривал снимок, прежде чем передал мне,— взорвался я, забыв о намерении не отвечать.
Прошкин не обратил внимание на мой выкрик, привел еще выдержку: «Подпись Черных на протоколе осмотра фотографии выполнена нечетко, она подделана...»
— Его ввели в заблуждение, запугали...
— Зачитываю показания матери Адамова: «На найденной фотографии были изображены школьные подруги нашей племянницы...»
— Она заинтересованное лицо, она оговаривает меня,— отбивался я от наседавшего Прошкина.— И вообще, я хочу, я имею право ознакомиться с полным содержанием протоколов. А то выдергиваете куски произвольно, так можно | любую абракадабру подтасовать...
— Нам решать, как вести допрос,— осадил меня Про- | |Шкин.— Оглашаю показания свидетеля Селезнева: «Подались в протоколе осмотра фотографии сделана не мною...»
— Или вы даете мне протоколы полностью, или я отказываюсь отвечать. Требую отменить несостоятельное обвинение!
Но следователи попеременно цитировали выдержки из . многочисленных протоколов, перемежая их настойчивыми t вопросами:
— Когда вы подменили фотографию? Вы признаетесь в подделке подписей?
Теперь я на самом деле молчал, напряженно вслушиваясь в голоса Прошкина и Кирсанова, стараясь запоминать как можно больше фактов, приводимых ими, уловить общую направленность допросов, зафиксировать неточности и разночтения в показаниях. Предстояло «переварить» этот поток информации, сделать выводы.
Не добившись желаемого — я больше не проронил ни звука — вспотевший Прошкин пригрозил:
— Может, вас в институт Сербского отправить, к психиатрам? Видимо, что-то с головой неладно...
— Ничего, направляйте. Сегодня вы командуете парадом. Но придет время, все это вам отрыгнется, выйдет боком,— в ответ на хамство не стал сдерживаться и я.
На помощь москвичу поспешил Кирсанов:
— Так вы будете давать показания или...
Это многозначительное «или» совсем взорвало меня:
— Что же замолчали, продолжайте! Ведете дело о нарушении соцзаконности, а сами какими методами действуете? Где санкция прокурора на содержание в одиночной камере?— перешел я в наступление.
— Ну вот, о своих правах заговорил, а какие «чудеса» творил в отношении Адамова, уже и забыл,— повернулся к Кирсанову Прошкин.— А там ведь наглядное пособие, как нельзя вести следствие...
— Посмотрим, как вы проведете. Может, я в чем и ошибся, первое дело у меня. Но вы сразу начинаете с беззакония, причем умышленно!..
Прошкин набычился, готовый к новой атаке, но Кирсанов вдруг сменил тон:
— Поймите, вы в самом худшем положении, милиция ссылается на вас: может, и оговаривает. Давайте разберемся...
— Что-то я не вижу, чтобы вы действительно хотели разобраться. Сразу арестовали, обвиняете, запугиваете. Не верю я в вашу честность и посему показаний давать не буду,— вновь сказал я, давая понять, что ни на какие контакты идти не намерен.
— Ничего, одумается. За ним еще и другие делишки есть, раскопаем и их,— как бы не замечая меня, переглянулись следователи.— Потянем за ниточку, и клубок распутается.
— Я чист перед Законом и совестью,— несколько высокопарно заявил я,— а отвечать будете все вы.
Собрав со стола бумаги и вызвав конвойного, Прошкин напоследок предупредил:
— Вы выбрали глупейший способ защиты. Так что сидеть здесь, судя по всему, придётся долго. Думайте,— со скрытой угрозой закончил он.
Над чем поразмыслить, у меня действительно было. Если Прошкин не блефует, витебские милиционеры нарушили правила игры: ведь мы договорились, что не будем «засыпать»1 друг друга. Хотя, конечно, и раньше на них особой надежды не было. Далее: всплыл задним числом оформленный протокол осмотра фотографии. Да, прокол, но это не самое страшное. Техническая погрешность из-за спешки, неопытность — контрдоводы у меня найдутся. Но вот о каких дополнительных грешках заводили они разговор, о каких злоупотреблениях? Вроде ни в чем нечистоплотном замечен не был. «На пушку берут»— чем больше неизвестности, тем труднее, рассчитывают, что задергаюсь, замельтешу, запаникую? Нет, такого они не дождутся.
Как ни странно и ни страшно это сегодня звучит, я начал привыкать к нудной, тоскливой жизни изолятора. Ранний — в 6 утра — подъем. Затем под конвоем в туалет. На завтрак — три бульбины, несколько килек под томатным соусом. В обед приносят жидкие щи. На ужин обычно бывает каша. В общем, с голода не помрешь, но и сыт не будешь — в желудке постоянно урчит, как говорится, «кишки марш играют». Это, так сказать, о пище для тела. Не лучше и с духовной: в камере нет радиоточки, на день выдается лишь одна газета, которую прочитываешь от доски до доски. Чуть скрашивает беспросветное одиночество ежедневная прогулка во дворе изолятора, в приспособленной камере: четыре глухие стены, прикрытые сверху металлической решеткой. Неспеша меряешь эти 12—15 квадратных метров под надзором контролера, стоящего на специальной вышке, мечтая, чтобы положенный час тянулся дольше.
Несказанно обрадовался подспорью: жена передала дозволенные правилами пять килограммов продуктов и вещи первой необходимости. Долго перебирал немудреные пожитки, экономно пробовал еду. Долго не мог заснуть, представляя, как Люда гладит носовые платки, рубашку, спортивные брюки, складывает их; как готовит на кухне, как возле нее вертится Инночка и все не может понять, почему мама все время вытирает глаза... Пришло неодолимое желание поговорить с женой, и я доверился бумаге. Людмила сохранила это первое мое письмо из неволи: «Дорогие мои жена, доченька и все... все. Дела мои не так уж плохи. За меня не переживайте. Здоровье мое хорошее. Есть много времени подумать о жизни. Как вы там? Что думаете о случившемся? До суда не делайте обо мне никаких выводов. Надеюсь, что скоро мы будем вместе, надеюсь и живу этой надеждой.
Людочка, моя добрая, милая жена. Все, что я говорил тебе — это правда. Верь мне! Сейчас еще острее ощущаю и понимаю, какая ты хорошая жена. Мне в жизни повезло, что встретил тебя. Может быть, я не всегда ценил тебя. Извини. В будничной жизни многое не замечаешь и не понимаешь.
Как ты отнесешься ко мне после случившегося, не знаю. Но хотелось бы надеяться, что ты веришь мне. Не спеши с ответом и заверениями. Но лучшей жены я себе не представляю. Береги свое здоровье, не нервничай. Не жалей ничего для себя и Инночки. Не вешай нос, все будет в порядке! Инночке скажи обо мне, что папа уехал далеко, но непременно вернется
Инночка! Здравствуй, милая доченька! Слушайся маму — она у тебя самая добрая и хочет тебе всего самого хорошего. Будь внимательной в садике, учись рисовать, читать и писать. Будь аккуратной, всегда прибирай за собой игрушки. Целую и обнимаю тебя, поцелуй за меня маму!
...Не могу сосредоточиться. Мысли бегут, слова рассыпаются.. Эх, судьба! Да ладно. Как здоровье твоих матери и отца, как моя мама? Ничего ей не говорите, скажите,
что уехал. Она на слоем пеку и так намучилась. Пусть лучше ждет...
...Надеюсь, что ложь уйдет. Может быть, я наивен, но верю а справедливость.
Крепко обнимаю и целую. Постоянно думаю о вас. Ваш Валерий».
Излил душу — и стало легче. Передать письмо можно было только через следователя, с его разрешения, но после крутого разговора с Прошкиным я мало верил, что он пойдет мне навстречу. Решил выждать, а каждый день мысленно говорил и говорил с родными. Сделал к письму приписку, дополнение: «Людочка! Мне очень тебя не хватает, нужны твои советы, поддержка. Верь, что я сильный и перенесу все, что выпадет на мою долю. Все наши планы остаются в силе. Я ничуть не стану хуже, наоборот, многое переоценю, постараюсь сделать лучше. У нас есть и будет хорошая семья.
Р. S. Попроси следователя, может, разрешит свидание. Видимо, по характеру он человек добрый, не заблуждающийся».
Постскриптум, конечно, был наивной попыткой задобрить Прошкина, пробудить в нем сострадание. Но чего ни сделаешь в моем положении, чтобы увидеть жену, узнать хоть какие-нибудь вести с воли.
Через две недели появилось первое вещественное доказательство верности тактики, выбранной мной. Заместитель начальника изолятора сообщил, что не имеет права содержать меня одного и посему подселяет в камеру «сотоварища», ранее судимого уголовника. Соседство, конечно, не из приятных, но выбирать не приходится, никто моего согласия не спрашивает; к тому же — хоть живая душа рядом будет. О том, что это может быть «подсадка», думать не хотелось, да и не такой я простачок, чтобы выворачиваться наизнанку перед каждым встречным.
...Невысокий, худощавый, но крепко сбитый. Смоляные волосы, странного желтоватого, даже лимонного цвета лицо. Темные, быстрые глаза — на первый взгляд уроженец Средней Азии. Это впечатление пропало лишь позже, во время разговора, когда понял, что желтизна эта другого происхождения. Движения резкие, порывистые. Первым протянул руку для знакомства:
— Михаил.
На пальцах, запястьи, на руке — вплоть до лохтя — сплошные наколки — визитная карточка практически всех, кто окунулся в уголовный мир. Смотрит настороженно, колюче, выжидающе: то ли боится подвоха с моей стороны, то ли сам думает, как меня «наколоть». Наконец, находим общий язык — сидеть-то вместе.
Михаил разговорился:
— У меня три ходки за горбом. Четвертая светит.
— Когда же ты успел? За что садился?— подогрел я вопросом.
— Не садился, а садили!— назидательно поправил сокамерник и смачно выматерился.— Первый раз залетел из-за пустяка: увел у одного губошлепа «дипломат», а там — секретные документы. Три года и начислили. Судили здесь, в Белоруссии, а будь это в России — условно дали бы, на этом, может быть, и остановился бы. А так — зона, после зоны — пошло-поехало...
Он разудало махнул рукой, сплюнул в сторону параши, а потом вдруг остро взглянул на меня, будто бритвой полоснул:
— А ты за что здесь?
Переход был неожиданным, я немного замешкался, пока неохотно протянул:
— А, за взятки. Был зам. директора одного треста — мог трудовую книжку сделать, помочь с работой... Люди благодарили, конечно. Как говорят: за добро — добром. А в результате статья 170 УПК БССР (Я знал, что все сидевшие хорошо знают Кодекс, наизусть помнят статьи).
— Только за взятки — ив СИЗО КГБ? Что-то не тянет твоя статья на эту камеру,— он вновь изучающе уставился на меня.
— Думают, наверное, выйти на кого покрупнее. Намекают на каких-то боссов,— продолжил я свою версию, а сам опередил Михаила новым вопросом:
— Ты про первую ходку рассказал. А вторая?
— Значит, так: оттянул три года от звонка до звонка, откинулся. А тут нсскладуха — никому я не нужен. И ксивы чин-чинарем, да и сам работать хочу, рад, что из зоны вырвался. Мотался — мотался, наконец, аж в Ярославле устроился. Пашу, как папа Карло, но и поддаю, правда, после получек. Ну и, значит, заквасил один раз, а тут попался фраер под руку. Я и спер у него стольник и кожаную куртку. Дали четыре года. Батрачил в Средней Азии, на плантациях. Думал, коньки от жары откину. Температура — под сорок-пятьдесят, а мы в шмотках вкалываем...
— Чего же не раздевались?— вставил я вопрос.
— Ты что, сдурел? Там разденься — враз сгоришь. Сколько раз у меня солнечные удары были, еле откачивали,— увлекся воспоминаниями Михаил.
...Сочинял ли он, говорил ли правду, понять было трудно. Да мне, собственно, этого и не требовалось — я слышал в камере живой голос, видел перед собой не голую опостылевшую стену, а человека, пусть даже и не раскрывавшего свои истинные намерения.
— Тебе что, не интересно?— заметив, что я на мгновение ушел в себя, окликнул сокамерник.— Могу и не базарить.
— Что ты, что ты,— чуть ли не извинился я,— просто представил себе этот солнцепек...
— Тогда покатили дальше. Отмотал я и в этой Азии. Еду в поезде. Знакомлюсь с мужиком. Приняли по сто грамм, то да се. У него в руках переносная радиола, музыку слушаем. Тут как раз остановка, вышли мы с ним, завернули в сортир. Мне моча в голову ударила, потянуло на подвиги, я этому мужику по кумполу врезал, отключил, а сам за музыку — и на пяту. Прикинул: поезд три минуты стоит, он очухается, быстрей в вагон, а я — вольный казак. Только прокол получился. Стоянка затянулась, мой новый «друг» не в вагон попер, а в ментовку. А я, как фраер, прогуливаюсь вдоль вокзала, думаю, поезд укатил. Тут и загребли меня свеженького и влепили еще пять лет.
— Что-то много за грабеж,— нечаянно проговорился я, вспомнив о своих юридических познаниях, но тут же спустил оплошность на тормозах, вскользь заметив:— Впрочем, тебе-видней, я в Кодексе профан.
— То-то же,— с удовольствием подчеркнул свое превосходство Михаил.— У меня статья не за грабеж, а за разбой: я ему сначала кулаком заехал, а потом для верности еще и приемником, железным кантом... Если бы чуть ниже попал, в висок, хана ему была бы. Да и мне побольше сунули бы, так что еще повезло...
— Ничего себе — повезло: из зоны в зону. И на воле не побыл...
— Что теперь жалеть... Я же говорю: одурел от водки, отвык от свободы — вот и влип. На зато географию изучил — на этот раз заслали на лесоповал. Там еще похуже Средней Азии — холодина, мошка, а ты пашешь как проклятый, чтобы норму сделать. Мало кто выдерживает...
— Ты же выдержал?
Он смерил меня пронзительным взглядом, небрежно сплюнул:
— Я что, зазря две ходки имел? Знал, как устроиться. Переквалифицировался на игрока, на меня пахали трудовики, а я им бабки отваливал...
— Игроки, трудовики... ничего не понимаю. Я на зоне не был, поделись опытом, может, пригодится...
— За науку платить надо,— подначил Михаил.— Ладно, продаю за солому — что с тебя взять...
Мой сокамерник устроился поудобнее и начал лекцию:
— Трудовиков на зоне большинство. Они хотят выйти быстрее, вот и пашут, не разгибая спины — зарабатывают зачеты, досрочное освобождение или выход на вольное поселение. Они и на воле самый большой воз волокут, срок получают случайно, стремятся домой. Мы же,— Михаил самодовольно ухмыльнулся,— карячиться не намерены. Играем, кто во что горазд: карты, домино, шахматы, шашки, хоть на спичках. Выиграл — нанимаю трудовика, он и дает две нормы. А чтобы начальство кипиш не поднимало — и ему отстегиваем. Все довольны, каждому — свое.
— Говоришь: плачу, а трудовик пашет. Деньги-то откуда, не на воле же ты их отдаешь после освобождения?
— Темнота. Там тысячи ходят, за них все и каждого купить можно. Бывает, с первого раза на зону проносят, а кто повторно или, как я — третий раз, тому никакой шмон не пронос. Н заднем проходе.
Меня, признаюсь, передернуло от этого откровенного признания, но вида не подал. Продолжал внимательно слушать. Сокамерник вспоминал:
— Был у меня один кент. Золотые руки у человека. Никакой скульптор ему в подметки не годится: по дереву резал, как Бог. Сам хозяин зоны ему заказы делал. Так вот: определили его в котельную, там и потеплее, и работа — не бей лежачего. Напарник кочегарит, ишачит, а он резьбой занимается. Вырежет игрушку, фигурку, целую композицию — отдает работникам зоны, те выносят, продают, доход — пополам или как договорятся. Однажды залетел я на целый кусок — тысячу. Прихожу, говорю: «Дай в долг. За мной не заржавеет». Вспарывает матрац, достает пачку: «На, бери». И ни слова о том, когда отдам. Знает, никуда не денусь, а попробую слинять — на краю света найдут. Я как- то пошуровал в этом матраце — так он полностью деньгами набит. Хотел прихватить — да раздумал...
Михаил потянулся, размял плечи и с неожиданной тоской произнес:
— Скорей бы следователь закончил дело. Я ему все выложил, как на духу, ничего нс скрыл. А там суд, этап — и «вот моя деревня, вот мой дом родной». Там я человек, а здесь кто?— и он зло ударил кулаком в стену, затем угрюмо уставился в зарешеченное окно.
«Если его подсадили, чтобы он уговорил меня давать показания, то их номер не пройдет,— думал я, глядя на умолкнувшего соседа.— Так что пусть «травит», что ему заблагорассудится. Все мне веселей...» Молчание затягивалось, я уже подыскивал предлог для продолжения разговора, как Михаил сам повторил:
— Да, надо скорее в зону. Там все свои, а здесь чужие.
Почувствовав, что душою он опять в местах не столь отдаленных, я открыто попросил его рассказать какие-либо истории из его богатой лагерной биографии. Он охотно согласился и начал вновь об игре, о картах — это, видимо, было самым ярким в его жизни.
— Надрал я одного клиента. Нс химичил — там это не проходит, просто мне пофартило. А у него бабок нет. Не моё* дело, говорю, плати. А он, гад, меня копытом в живот — еле медицина откачала. Сам после быстро смылся на другую зону, он с хозяином, говорили, кентовал. Но ничего, я переба- зарил с этапами, найдут, долг у зубах принесет, да еще сверху доплатит. Со мной такой номер не пройдет.
Игрок злорадно потер руки, представляя, что ожидает должника, и добавил, видимо, для большего эффекта:
— Деньги — что, вот когда на кону жизнь, тогда выкрутиться сложнее.
— И что, бывает и такое?
— Как нечего делать! Играют на любовниц, жен, сестер, невест. Тут шутки в сторону.
— Дико все это,— вырвалось у меня.— Играть на родных людей, распоряжаться их жизнью...
— Родная только мать,— с непривычным в его устах пафосом возразил Михаил.— Остальные — так, знакомые.
— Есть еще жена, дети,— не сдавался я,— Кстати, где твоя семья? Не хочешь, не рассказывай, я не лезу к тебе в душу,— смягчил я лобовой вопрос.
— Ништяк, я не из обидчивых. Были и жена, и ребенок. Были, да сплыли: баба замуж вышла, ребенок толком и не видел меня. Сам посчитай: мне сейчас 35 лет, 12 из них по зонам ошиваюсь. Какая уж тут семья, какие дети... Пусть лучше забудут про меня.
— И что, больше никого?
— Не, братан еще. Вот передачу жду от него, обещал сварганить. Баранок хочется...
На него что-то накатило, он сморщился, будто от боли, заскрипел остатками зубов, выматерился...
— А, что сопли размазывать. Давай лучше побазарим про житуху на зоне. Вот я третий раз с этапом прибыл, а меня уже встречают: знают, что Басмач собственной персоной явился. Басмач — это кликуха моя. В бане кореш подваливает, говорит: место в бараке приготовлено, в компанию берем — идешь игроком без вступительного взноса. Класс — да и только.
— Слушай, кстати, а откуда в лагере карты? Они же запрещены?
— Это семечки,— отмахнулся Басмач.— Один раз вообще комедия была. Опер обшмонал все: матрацы вывернул, стены простучал — кругом голяк. Он ко мне: покажи — где, разрешу открыто играть. А я ему: начальник, отвечаешь за свой базар? Тот по-нашему: «век воли не видать». Тут я и говорю: посмотри в своем кармане. Он руку засовывает, смотрит — а там листы. Я ему в начале шмона засунул колоду, он и не почувствовал. Вот так-то: ловкость рук...— Он был явно в ударе, вспоминая, как провел лагерное начальство.
К вечеру его кураж пропал, он как-то обмяк, нетерпеливо ждал ужина, беспричинно раздражался. В конце концов, воровато оглядываясь на глазок в двери, распорол в телогрейке какой-то шов, вытащил из ваты тоненький, в виде пластины, сверток, высыпал оттуда чай, и, набив рот, начал смачно жевать.
— Привык чифирить,— пояснил мне.— На зоне только этим и держался. Требует душа, хоть лопни.— Лицо его постепенно светлело, морщины разглаживались — он на глазах оживал. «Ну, чаем его, конечно, здесь угостили,— подозрения мои не пропали.— Но потратились оперы зря — меня он на откровенность нс вытянет. Так что плакали их денежки, должок за ним будет числиться. Да ладно, это заботы их».
— А тебя-то каким ветром в КГБ занесло? Вроде бы ты не их клиент, как говорят...— Я решил воспользоваться его благодушием.
— На наркотиках попался. Когда последний раз откинулся, загулял — карман полный, корсфанов много. Потом спустил все, прибился к одной компании. Посылали в больницы, аптеки, на склады. Забирал там пакетики с «колёсами» (это таблетки с наркотиками), отвозил нужным людям. Платили, что надо.
— А ты сам не пробовал?
— Ширяюсь потихоньку, когда есть чем. Кайф просто балдежный. Ни с чем нельзя сравнить!— видя мое недоумение, попытался объяснить:— Ну, после бани сто пятьдесят примешь да пивка кружечку. Понимаешь? Так после колес в сто раз лучше, как в рай попал. Правда, отход хреновый — прямо выворачивает всего, хоть вешайся...
— Зря ты это, здоровье не вечное,— посочувствовал я.
— Это точно. После чифиря мотор,— он постучал по груди,— дает 200—300 ударов в минуту. Кажется, что выскочит. Да и зубов не осталось,— он раскрыл рот, где редко торчали полусгнившие корни.— За все платить надо. И нутро все гнилое — и печенки, и селезенки.
— Стоит ли?
— «Есть только миг, ослепительный миг»,— неожиданно пропел он, нещадно фальшивя.
— Там не про такой миг поется...
— Каждому свое,— опять неожиданно выпалил Басмач.— Я беру на этом свете все, что идет в руки. Для меня главное — мгновения. Я тут на земле человек временный, после черви съедят. Сколько ухватил — то мое.
Речь его стала какой-то отрывистой, малосвязной. Он разжевал еще одну порцию чая, громко чавкая, подхватывая с бороды слюни, отрыгивая. Улегшись на нары, продолжил:
— Вот тут я в соседней камере сидел с полицаем. Лет под восемьдесят деду — деловой, хитрый, башковитый.
— С кем, с кем ты сидел?— мне показалось, что я ослышался.
— Я же говорю: с полицаем, начальником карательного отряда. Базарил, что Хатынь — дело его рук. Нс немцы спалили деревню, а свои же — полицаи-каратели. Устроили облаву, обложили, как волков флажками, согнали в кучу, в хату или сарай, и подпалили. Кого постреляли, кто заживо сгорел. Говорят, что какой-то старик с внуком уцелел.
— Я был в Хатыни, на том пепелище. Страшная картина!
— Этого деда-полицая туда колом не загонишь... Так вот, значит,— Михаил не хотел терять нить рассказа,— немцев поперли, а он зашился где-то на Украине. Ксивы (документы) липовые достал, приженился — попробуй, достань его. Двое детей, внуки — все чин-чинарем. Стал бугром в колхозе или совхозе, мужик разворотливый. Так бы и на тот свет пошел — передовиком и уважаемым, но случайно засветился: узнал кто-то из бывших подельников... Тот v ж с (мое от( йдсі, а дела взял и заложил... Загребли, теперь НОГ ПЫІІШК1І боится...
Что заслужил, то и получит! Я бы таких не расстреливал — это легкая смерть, а заставил бы в муках умереть, да публично, на виду у всех, чтобы другим неповадно было!
— Да, гад он и есть гад. Сидел со мной, все молился, детей своих вспоминал, внуков. А про загубленных в Хатыни — молчал. Приказ, говорит, был. Немцы, мол, условия поставили: или ты их, партизан, к стенке поставишь, или мы тебя в расход пустим. Выбрал первое, жизнь, базарит, дороже. Да чтобы кусок пожирнее перепадал...
...Позволю себе нарушить хронологический ход повествования. Наверное, рассказ рецидивиста (тихаря?) Басмача о поджигателе Хатыни и предложение офицера СИЗО переселиться в камеру к бывшим полицаям так и остались бы лишь неприятным эпизодом моей тюремной жизни. Кое- кто, возможно, даже предположил, что эти ситуации придуманы для сгущения красок, чтобы вызвать сострадание к бедному арсстантику. Фамилий изменников Родины я тогда действительно нс знал, о их злодеяниях мог судить с чужих слов... И вот совсем недавно, в июне 1993 года, наткнулся в «Народной газете» на удивительную по силе воздействия подборку «Правда о Хатыни». С одной из фотографий по волчьи повернувшись исподлобья смотрит старик. Страх смерти уже сковал его лицо. Это и есть главный палач Хатыни Григорий Васюра.
А вот и правда о трагедии 50-летней давности, установленная на процессе 1986<!!!) года. Рассказывает председатель военного трибунала Виктор Глазков.
— В угоду идеологическим постулатам наша история напоминает кривое зеркало. Но всегда появляется время, когда люди спешат очиститься от слоя лакировки и лицемерной лжи. Семь лет назад мы могли всему миру поведать правду, которая была такой жестокой и звучала на суде. Процесс был открытым, а в зал заседаний военного трибунала пускали не всех. Бывший заведующий идеологическим отделом ЦК КПБ С. Павлов самолично «сортировал», кому из журналистов присутствовать, а кому нет. Только два корреспондента были допущены: из БЕЛТА — Евгений Горелик,
ИЗ «известий» — Михаил Шиманский. По в «Известиях» не было опубликовано ни строки, хотя очерк стоял в номере. Руку к тому, чтобы материалы о Хатыни не опубликовались, приложили первые лица двух республик — Беларуси и Украины — Слюньков и Щербицкий. Судя по неопубликованному материалу в «Известиях», бывший член Политбюро ЦК КПСС Щербицкий был осведомлен, что 118-й карательный батальон, уничтоживший Хатынь, сформирован в Киеве, а главный заправила Васюра — украинец. Решил, что это скажется на отношениях двух республик. Тем более работал Васюра заместителем директора крупного совхоза в Киевской области, слыл преуспевающим номенклатурным деятелем районного масштаба, снабжал Киев овощами. Жил припеваючи, двум дочкам-учительницам отстроил терема. Как фронтовика-связиста, роль которого он играл, его даже зачислили почетным курсантом одного из киевских военных училищ и к каждому Дню Победы награждали ценными подарками.
А на самом деле — Иуда. Попав в плен, Григорий Васюра, начальник связи укрепрайона 67-й стрелковой дивизии, перешал на службу к фашистам. Прошел учебу и стал начальником штаба 118-го полицейского батальона, сформированного для борьбы с партизанами. И вот эта правда, что Хатынь жгли доморощенные палачи, бросала тень на внешний лоск социалистического образа жизни и громко декларируемую дружбу народов. Васюра руководил многими карательными операциями, жег и расстреливал деревни Сме- левичи, Котели, Заречье, Боброво, Маковье, Уборье.
...В полдень 22 марта батальон оцепил Хатынь, окружил двойным кольцом полицаев. Всем распоряжался Григорий Васюра. Приказал согнать жителей в большой амбар, закрыть и поджечь, а сам вооружился автоматом и пистолетом и стрелял в людей. Напротив дверей сарая поставил пулемет и приказал пулеметчику Катрюку (кстати, он жив и безбедно доживает старость в Канаде) расстреливать всякого, кто попытается выскочить из огня.
...Во время следствия по делу Васюры работники прокуратуры и органов госбезопасности отыскали всех оставшихся в живых полицейских и вместе с ними прошли по тем местам, где оставил кровавый след 118-й батальон. То было страшное признание... Нашли сотни потерпевших и свидетелей, имели неопровержимые доказательства злодеянияй Васюры и его подручных. Так что любая попытка скрыть правду — это преступление против своего народа.
...К сказанному судьей В. Глазковым трудно что-либо добавить. Но я все-таки возьму на себя смелость провести аналогию, сколь бы рискованной она ни казалась на первый взгляд. Какую часть правды о хатынской трагедии знать людям и знать ли ее вообще решали, как видим, в партийных кабинетах. Даже на публикацию в «Известиях» — органе Верховного Совета СССР — было наложено вето. «Витебское дело», участником и жертвой которого я стал, получило, наоборот, широкую рекламу. Для освещения его были предоставлены страницы самых популярных изданий, привлечена электронная пресса. Такова была коньюнктура тех первых перестроечных лет... Дозированная по партийным рецептам гласность... Но вернемся в 1986 год, в камеру СИЗО КГБ.
Басмач в эти минуты совсем не был похож на уголовни- ка-рсцидивиста, которому ничего не стоит напасть на незнакомого человека, ударить, ограбить, из-за карточного долга посягнуть на чью-то жизнь. Видимо, где-то в глубине души у него остались, нс заглохнув совсем, вечные, непреходящие чувства — ненависть к насилию, сострадание, вера в справедливость. Вот только проявить их ему, скорее всего, уже не суждено...
Как часто бывает с зэками, он вдруг совершил поворот на 180 градусов, начав на чем свет стоит клясть нынешнюю власть:
— Да разве я валялся бы полжизни по нарам, мотался бы по этапам, если бы меня первый раз не на зону загнали, а дали условно? А теперь каждый мент, чуть что — ко мне... Им до лампочки, виноват я или нет, повяжут — и кранты. После доказывай, что ты не верблюд. И так всегда было... На зонах я многое повидал. Еще сейчас сидят деды, которых при Ежове и Берии брали. Один даже Беломорский канал строил. Там, говорит, охотились на людей, как на зверей. Приедет начальство, показательную облаву для него устроят. Спроврцируют побег и стреляют, как на охоте. А сколько конвойные на тот свет отправляли?! На спор пулю в затылок пускали. Так что мы, сегодняшние, у них научились: мы в карты проигрываем, а они...— Михаил задумался, подбирая нужные слова, а затем грязно выматерился и подвел черту:— Суки они, вот кто!
— Придет время, и до них доберутся. Не все ж правду хоронить.
Сокамерник нервно повел шеей, смачно сплюнул:
— Где правда была, знаешь, что выросло?
...Спустя несколько дней ему действительно принесли передачу. От брата ли, от свата — не знаю, может, позаботились, чтобы поддержать легенду, и мои следователи. Но баранки, о которых Басмач вспоминал, действительно были.
— Дома килограмм за один присест схавать мог,— перекатывая в беззубом рту баранки, шепелявил он.— Брат знает мою слабость.
Уводили его и на допрос. Во всяком случае, так было сказано при мне. Вернулся немного обозленный.
— Дуру-аптекаршу на очную ставку приводили. Она тоже здесь сидит. Я у нее товар брал... Колется вчистую, я ей знаки подаю — ни хрена не сечет. Мне-то до лампочки, все равно на зону — сам решил, а она загремит под фанфары...
Так тянулись, скрашиваемые разговорами, наши с Михаилом камерные дни. Он был словоохотливым, я больше молчал, отделываясь незначительными фразами, полунамеками. Сам того не предполагая, приобщил соседа к физзарядке. Размять мышцы, суставы, запастись кислородом — это было крайне необходимо после тесной камеры. Я вспомнил свое спортивное прошлое (когда-то всерьез занимался боксом), придумал специальный комплекс и стал регулярно выполнять упражнения. Басмач вначале посмеивался, подначивал, а потом неожиданно для меня стал отжиматься от скамейки. Сила в руках у него оказалась недюжинная — запросто делал несколько десятков отжиманий. Многое в нем было заложено, на хорошую бы дорогу его...
Не обошлось и без конфликтов. У Михаила была привычка спать, разбросив руки. Камера же была узкой, и он перегораживал ее, будто шлагбаумом. Мне часто не спалось, тяжкие думы нс давали покоя, и я вышагивал по камере от окна к двери. Рука, естественно, мешала — я цеплялся за нее.
— Ты что кимарить не даешь?— спросонья буркнул сокамерник.
— Убери руку, и все в порядке...
— Как хочу, так и сплю!
— Не психуй. Повернись на бок...
— Что, падла, ты мне, Басмачу, права качать будешь? Да я тебя по стенке размажу!
— Попробуй,— принял я боксерскую стойку.— Последние зубы не соберешь!
Басмач немного притих, лег на нары, хотя и продолжал сыпать угрозами, похваляясь былыми подвигами.
На утро мы не вспоминали о ссоре — сделали вид, что ничего не произошло. А вскоре Михаила и вовсе «выдернули» из камеры с вещами, и больше наши пути не пересекались...
Михаил Басмач был первым из многих сотоварищей, с которыми мне довелось впоследствии делить камеру и тюремную баланду. Правда, тогда, в 1986, я еще надеялся, что находиться под стражей буду недолго, что Прошкин и К° одумаются, убедятся в несостоятельности сйоих обвинений, поймут, что именем Закона творят беззаконие. На мой взгляд, следствие само испытывало известные затруднения: я отказывался давать показания, а весомых аргументов против меня у него все-таки не было, не считая, конечно, все той же злополучной фотографии. Прошкин экспериментировал — запирал меня в одиночке, подсаживал разговорчивого рецидивиста (вдруг и я выложу свои карты), угрожал, но пока дело у него шло туго. Я это понимал: подсказывал и собственный прошлый опыт, и интуиция.
Но это, как говорят, чужие беды, чем их больше у Прошкина, тем легче мне. Мне бы со своими разобраться. Я все чаще склонялся к мысли, что обвинение во многом базируется на показаниях Адамова. Зная его неустойчивость, двуличие, трусость, понимал, что Прошкин сможет получиить все, что только пожелает. Но все-таки теплилась надежда, что у Адамова остались хотя бы крохи человеческих чувств, что у него заговорит совесть. Перебирая в памяти выезды на место убийства Кацуба, детали следственных экспериментов, я не находил в своих действиях грубых нарушений Закона. В конце концов: он написал явку с повинной, я доводил дело до логического завершения, тем самым уводя его от высшей меры наказания.
Укротив свою гордыню, много раз корректируя и редактируя самого себя, написал письмо Адамовым... Затем сделал копию для Прошкина, чтобы тот приобщил к делу. Конечно, одолевали сомнения: достучусь ли до озлобленной души Адамова, передаст ли письмо следователь... Оставалось надеяться и ждать...
Прошкин отреагировал быстро. Внимательно прочитав письмо, недовольно буркнул:
— Ищите варианты нападения?
— Нет, защиты. Хочу, чтобы расследование шло объективно. И передайте письмо Адамову лично.
— Подумаем...
Видимо, а скорее всего — точно, у него были свои планы в отношении Адамова, а я каким-то образом расстраивал их, вносил путаницу, перекраивал. Решил поднажать на следователя:
— Передать письмо Адамову — в ваших интересах. Будет он говорить правду, не придется вам после расплачиваться за перегибы.
— Не перекладывайте с больной головы на здоровую. И на испуг не берите. О себе лучше подумайте. А письмо... Скорее всего, оставлю оба экземпляра в деле. Нечего склонять потерпевшего к изменению показаний. Это, сами понимаете, своего рода воздействие. Так что — выстрел ваш холостой!
— В таком случае еще раз заявляю: никаких показаний я давать следствию не буду. Больше ни слова от меня не услышите!
Расстались мы еще большими врагами, чем были. Он жестко прерывал все мои попытки запастись контраргументами. Я, в свою очередь, ни в чем не шел навстречу ему. Нашла коса на камень. Правда, у Прошкина было гораздо больше шансов в этой борьбе — за его спиной стоял аппарат
прокуратуры, к нему стекалась информация, ловушки расставлял он, а мне оставалось надеяться лишь на собственные силы да уповать на справедливость.
У Прошкина, видимо, была своя система работы с подследственными. Информационную блокаду я уже почувствовал, помологическую атаку отбил, испытание одиночной камерой прошел, с разбитным уголовником пообщался, но следователь ничего не добавил в свой актив. Пришел, видимо, черед окунуть меня в другую среду...
— Как вы относитесь к тому, что мы переведем вас в камеру к двум бывшим полицаям?— выжидательно-вежливо глядя на меня, спросил заместитель начальника изолятора.— Мы не можем держать вас в одиночке, прокурор сделает замечание, зачем нам неприятности...
Меня передернуло от отвращения: я вспомнил, как отхаркивались на прогулке какие-то старики, да и вообще, мне, чья мать стояла под расстрелом у предателей-отщепен- цев и лишь чудом спаслась, делить камеру с ними — это было бы пределом унижения.
Заметив мою реакцию, работник изолятора начал рассуждать:
— Вас, юриста и бывшего прокурора, нельзя помещать лишь бы с кем. Кто-то вас узнает, кому-то вы дадите совет, как себя вести на следствии, а нам за все отвечай... Беда с вами... Да ладно,— сделал он выбор.— Пойдете к двум веселым парням, в камеру № 2. Собирайте вещи.
В похожей камере-ячейке гигантского подшипника меня встретили две пары любопытных глаз.Пышноволосый красавец чуть постарше меня и прыщеватый длинный юнец лет 19—20. Не могу утверждать, но мне сразу показалось, что именно Красавцу отведена роль «подсадки»— уж больно он засуетился, уступил мне свои нары, а свой матрац перекинул на приспособленный помост. Так принимают обычно известных в уголовном мире паханов, но только не случайного встречного...
— Малахов Валерий,— ослепительно разулыбался гостеприимный старожил.
— Владимир,— кивнул второй.
Назвал себя и я. Чтобы не вызывать лишних вопросов, коротко рассказал новую легенду. Попался, мол, на спекуляции автомашинами. Суммы немалые, вот и определили в СИЗО КГБ. Сам того не зная, зацепил тему, близкую Малахову. У него был свой «Жигуленок», он знал рыночную конъюнктуру; интересовался машинами и я — повод для знакомства был.
Красавец, как определил я Малахова, не умолкал ни на минуту, хотя неприятности его ждали большие. Его обвиняли в спекуляции валютой, а это в те времена, лет десять назад, считалось одним из тягчайших преступлений. Он называл рестораны, места встреч, имена валютных проституток; сравнивал официальные и рыночные курсы долларов, марок, фунтов стерлингов, франков, показывал мне и третьему сокамернику — Владимиру-Весельчаку, что такое «кукла с деньгами». Он знал все скупки Минска, прекрасно ориентировался в ценах на золото и серебро, мог отличить ювелирные и промышленные драгоценные камни... По его словам, объехал всю страну — от Владивостока до Одессы — и все скупал, перепродавал, крутился, стараясь обойти Закон. Дважды «прокололся» и дважды сидел. В общем, знает вкус баланды и марочных коньяков, второе, естественно, ему нравится больше. А тут — на носу третья ходка, да еще годков на десять, по его прикидкам...
Слушая бесконечные и — не скрою — красочные рассказы Малахова, я изредка вставлял слово-два, чтобы не казаться «белой вороной» в новой компании. Меня не покидали подозрения и даже некоторая уверенность, что Красавец не зря заливается соловьем, не зря говорит о деталях, в которых в его положении лучше молчать. Все-таки две ходки за спиной, знает, что треп к добру не приводит. А тут чуть ли не наизнанку выворачивается, чуть ли не явки и адреса называет бандсрш, зондерш и подельников. «Надо с ним ухо держать востро,— решил я.— Может, он хочет выяснить что-либо о тех неведомых мне «грехах и делишках», на которые намекали Прошкин и Кирсанов. Возможно, ищут дополнительный компромат на меня, раз не складывается основное обвинение... И хотя все это — напрасный труд, но... береженого Бог бережет.»
Совсем по-другому воспринимал байки Малахова еще один его невольный слушатель — Владимир. У парня загорались глаза, когда Красавец называл огромные по тем временам суммы, живописал похождения и попойки с девицами, показывая, как можно надуть доверчивого клиента. Особенно суетливым и возбужденным становился он при упоминании о валюте, драгоценностях, иностранных шмотках. Он, оказывается, пытался бежать за рубеж. Дезертировал из армии (служил в Литве), добрался до Бреста, переоделся в какую-то рвань и стал ждать своего момента. План у него был до примитивности простой, но, по его убеждению, полностью реальный. Облюбовал платформу, на которой везли в Польшу трактора. После того, как состав проверили на пограничном КПП, сумел пробраться в кабину одного из тракторов и спрятаться там. И когда желаемая цель была совсем близка, расслабился, одурел от счастья: вылез из укрытия, захотелось поговорить с поляком-машинистом, который обходил состав. И — влип. Встреча с зарубежьем откладывается надолго: пять лет за дезертирство и попытку перехода государственной границы СССР. Теперь вот ждет, какой результат принесет кассационная жалоба в военный трибунал.
А вообще-то парень он был довольно интересный, только совсем «без царя в голове»—дерганный, взвинченный, с приступами беспричинного веселья. Уроженец Крыма, он рано усвоил, что «Бог не ровно делит». Приезжие курортники сорили деньгами, которых катастрофически мало было у него. Он приспособился браконьерить: ночью выходил с друзьями в море на запрещенный лов, а потом втридорога сбывал свежую рыбу. Потом сколотили небольшой музыкальный ансамбль — платили им, как он считал, сносно: на вино и девочек хватало. После школы работать не пошел, колхоз казался чем-то вроде тюрьмы, только без решеток на окнах. Родителей рядом не было: отец умер, мать завела новую семью, а дед с бабкой — это анахронизм, на них равняться нечего. Тянуло к музыке, чувствовал, что это если не призвание, то дело, которое близко его душе. Но опять-таки надо учиться, а получится ли... А тут море — свое, рыба — бесплатная, наоборот, за нее еще и платят, компания своя... Только плохо одно — милиция стала присматриваться, особенно после большой драки. Еле-еле дед с бабкой отмазали, обошлось условным... И тут будто стукнул кто по голове: надо слинять за море, за кордон — там-то уж он развернется, найдет применение и музыкальному таланту, а то и предпринимательскому — рыбу-то он загонять умеет. От «черноморского» варианта пришлось отказаться, хотя успел изучить карты, течения, направление ветра — готовился всерьез. Но... мало было шансов на успех: море бурное, погранзона широкая, контроль строгий. И будто в подарок — служба в стройбате в Прибалтике, близость границы, Брест...
Владимира было видно насквозь — нахватался вершков о сладкой жизни за рубежом, начитался или наслышался о баснословных гонорарах музыкантов — вот и решился на отчаянный шаг. Таких, как он, было тогда немало, да и теперь не поубавилось. Существенная разница лишь в том, что в 1986 году такие мысли, а тем более поступки квалифицировались как антисоветские. Вот в какую компанию определил меня Прошкин: один сокамерник — валютчик, второй — несостоявшийся перебежчик. Им было что отрабатывать...
Хотя, возможно, я и зря грешу на Владимира и Красавца Малахова. Может, и они и поглядывали на меня с подозрением, думая, что именно я работаю на «контору». Впрочем, мне хорошо запомнился один чуть ли не теоретический спор, инициатором которого стал Весельчак, а первую скрипку играл Красавец.
Горе-музыкант из Крыма в очередной раз стал расписывать райские кущи, в которые попал бы, доберись до желанного Запада.
— Наслушался всяких «голосов» и Би-Би-Си,— не выдержал я,— думаешь, что тебя ждут с распростертыми объятиями. Там, чтобы чего-нибудь добиться, пахать до седьмого пота надо. У них своих безработных хоть пруд пруди. И не чета тебе: с дипломами, со специальностью...
— Ну и что?— заступился Малахов.— С голода не подохнет, зато будет свободным!
— А кто ему здесь не давал быть свободным? Сам ведь загнал себя сюда.
— Да я не о той свободе говорю,— отмахнулся Красавец, сразу посерьезнев.— Там у него будет внутренняя свобода.— Он постучал по татуированной груди.— Слыхал о такой?
Я хотел возразить, но вспомнив, где нахожусь и какую легенду себе придумал, лишь неопределенно пожал плечами.
— Правда, я не могу это грамотно выразить, не хватает слов, но там человек — сам себе хозяин. Никто ему не долбит: делай так, иди туда, повторяй, как все. А у нас, сам знаешь: «Партия сказала — комсомол ответил: есть!»— вдруг вспомнил он.— Так вот: мы все, как комсомольцы — что нам скажут, то мы и делаем. Будто стадо овец: чуть отбился — собаку натравят, чтобы назад загнала. Что, не так?
— Но и там существуют правила, законы, причем не менее жесткие...
— Да, там Закон. А у нас вчера — Сталин, Хрущев, Брежнев, теперь — перестройка. И каждый, кто наверху, тот и крутит по-своему, твоей судьбой распоряжается, за тебя думает, а ты думать «не моги»...
— Какая же тут свобода — как были быдлом, так и остались,— нс захотел отставать от старшего и Весельчак.— А кто музыку заказывал, тот и сейчас заказывает... А чуть рыпнешься — вот тебе четыре стены и решетка.
— Тебя временно ограничили в свободе,— пошел я на примирение, но Владимир искоса посмотрел на меня, с неожиданной злостью процедил:— Что-то ты не из той оперы поешь...
Провоцировали они меня на откровенность, говорили ли искренно — Бог знает, но я твердо придерживался своей тактики: лишних козырей следствию давать не буду, каждое слово может стать известным Прошкину, а как тот его интерпретирует, я не сомневался...
После такой негласной проверки на лояльность дважды уводили Малахова.
— Ну, баба дура,— возмущался он, возвратясь в камеру. Увидев наше недоумение, пояснил:— Была очная ставка с женой. Так она явилась в бриллиантовых серьгах да золотых перстнях. Это ж надо, чтоб так мозги не варили... На свиданку с хахалем, можно думать, пришла...
Я не сомневался, что скоро и меня вызовут на допрос. И не ошибся. Короткий переход по гулким ступенькам железной лестницы — и я в служебном кабинете кого-то из работников изолятора. Видимо, его временно «арендует» Прошкин. Не успели мы сказать и несколько фраз, как вошла элегантная женщина. Следователь с неожиданной для его слоновьей фигуры прытью бросился ей навстречу, галантно помог снять пальто. Потом представил:
— Эксперт-почерковед Всесоюзного научно-исследовательского экспертного института.
«Ну и шикарно живут. Из Москвы специально вызывать человека для такой несложной процедуры — это уж слишком. Ведь моей рукой заполнены десятки, сотни листов протоколов. Чего же тут еще мудрить, копаться. Хотя, ладно. Попрошу Прошкина при ней передать жене письмо — авось, не откажется.»
Прошкин, выслушав просьбу, вначале замялся, но я настойчиво продолжил:
— Можете прочесть — здесь ничего о ходе следствия нет. Никакого криминала. Так что, пожалуйста, услуга за услугу,— довольно прозрачно намекнул я на свое право отказаться от проведения экспертизы почерка.
Намек был понят, следователь согласился. Я воспользовался моментом, чтобы узнать о доме:
— Как жена? Как дочь? Как мама? Какие новости?
— Все в порядке. Жена звонила, просила успокоить, сказала, что будет ждать, что дождется...
— Начнем, пожалуй,— прервала нас московская гостья.
Метод и смысл экспертизы стал понятным сразу: в разных вариантах в тексте встречалирь фамилии, состоящие из букв, которые, в свою очередь, составляли фамилии понятых Черных и Селезнева. Следствие искало подтверждение своей версии, что подписи в протоколе осмотра фотографии подделаны. Я писал то медленно, то быстро, затем эксперт просила наклонить буквы, встать и писать стоя, облокотившись на стол, увеличить размер букв... Мне изрядно надоело переливать из пустого в порожнее, когда москвичка прекратила работу и подсчитала листы:
— Тринадцать. Может, продолжим? Хотя бы еще один...
— Я не суеверный. Хотя послушаешь, что против меня нагородили, так и в чертовщину поверишь...
Прошкин пошел провожать гостью, а вернулся ... с Адамовым. Я знал, что без этой очной ставки следствие не может обойтись, но, признаюсь, в тот момент я не был готов к ней. Еще больше усилил мое замешательство поток брани, который грязным потоком обрушился на меня:
— Что, попался, скотина безрогая? Теперь узнаешь, как надо мною издеваться. Покормишь вшей, попьешь баланды. Я бы тебя задавил своими руками. Чтоб твои кости собаки глодали!..
Все это густо сдабривалось нецензурной бранью. Адамов вошел в раж, брызгал слюной, задыхался от ярости и злорадства. Я почему-то вспомнил своего недавнего сокамерника Михаила, рецидивиста Басмача — тот, со всей своей лагерной выучкой, и то не был настолько изощрен в ругательствах.
— Прекратите оскорбления,— повернулся я к Прошкину,— я протестую!
Но тот лишь ехидно улыбался, явно поддерживая распоясавшегося Адамова. И тут перешел в наступление я ими свей пыл. Не ори. Ты что, думаешь, мне здесь вечно сидеть.'’ Еще посмотрим, чем суд закончится. А даже если посадят, выйду — встретимся, никуда не денешься!— Я знал, что Адамов — трус, что и сейчас он в душе боится, и потому не давал ему опомниться:
Помнишь, как валялся у меня в ногах, просил спасти от расстрела? Клялся, что говоришь чистую правду? А теперь выкрутился, считаешь? Ничего, настоящая правда — она одна. Ты еще узнаешь, почем фунт лиха, подонок!
Прошкин продемонстрировал свои права:
— Я вам запрещаю оскорблять потерпевшего! Хватит, поиздевались над ним...
— Вранье! Я над ним не издевался. Он теперь с чужих слов говорит, научили... А вы, следователь, ему потакаете...
Мой отпор ему и Прошкину видимо, озадачил Адамова. Он притих, нервно закурил, и я смог, сам успокоившись, разглядеть его получше. Щеки округлились, вид самодовольный, сытый... Чем-то напоминает Прошкина, вдруг пришло мне на ум. Хотя и совсем разные, но что-то общее есть. Может, откормленность... Я понимал, откуда эта самоуверенность. Как же: сделали чуть ли не национальным героем, невинно пострадавшим от злодея Сороко, дали возможность покуражиться над милицией и прокуратурой. Списали и кражи, и халтуру, извиняются перед ним на каждом шагу. А как был подонком, так и остался.
— Проводим очную ставку,— взял бразды правления в свои руки Прошкин,— Адамов, расскажите о встречах с обвиняемым, его поведении при проведении следственных действий, о его отношении к вам.
На давних допросах я хорошо изучил Адамова, мог безошибочно определить, говорит он правду или лжет даже по мелочам. Сейчас он сидел, вольготно облокотившись на спинку стула, вытянув ноги; на губах играла полуулыбка, которая, как я знал, появлялась в тот момент, когда он лгал. Говорил быстро, заученно, попыхивая табачным дымом.
Но эта спесь с него моментально слетела, едва вопросы начал задавать я. Видимо, Прошкин решил, что цель уже достигнута, никакие мои старания уже не изменят ситуацию, и поэтому, чтобы сохранить видимость объективности, вроде бы пошел мне навстречу. У меня чудом сохранился лист, на котором я набросил основные вопросы, ответь на которые Адамов искренно, версия следователя рассыпалась бы в прах.
— Скажите, Адамов, протоколы очных ставок составлены объективно?.. Под каждым из них стоит ваша подпись. Значит, вы были согласны с изложенным в них?
—...Чем вы можете подтвердить, кроме голословных заявлений, что мы с Журбой оказывали на вас физическое и моральное воздействие?
—...Помните ли вы, как во время одного из допросов сказали, увидев в окно проходящую женщину: «Мало ли я их давил»? Что вы имели в виду; чем можете объяснить эту фразу?
—...Были ли вы искренни перед отцом, когда на свидании сказали ему, что именно вы убили Кацуба?
—...Почему постоянно меняли места, в которых якобы находятся вещи Кацуба?
—...Вы указали, что вещи Кацуба выбросили в колодцы возле железной дороги. Кто подсказал вам эту версию?
—...Каким образом вы смогли точно указать сумку, которая была у потерпевшей?
...Ни на один из этих простых вопросов Адамов не смог ответить четко и конкретно. Он ходил, как говорят, вокруг да около, уверенным становился, лишь когда переходил на откровенную матерщину. Здесь он был мастак — грязь лилась из него рекой.
Прошкин ему многое разрешал: Адамов время от времени вставал, расхаживал по кабинету, небрежно сбивал пе- j пел в пепельницу и, приближаясь ко мне, всякий раз злобно шептал сквозь зубы:
— Я бы тебя задавил...
Следователь, делая вид, что не замечает этих провокаций, старательно записывал показания. В них многое было поставлено с ног на голову, чувствовалась рука опытного режиссера, а Адамов, в силу своих способностей, следовал сценарию. Я несколько раз пробовал вклиниться, опровергнуть явную ложь, но на меня этот дружный тандем не обращал внимания. Они были явно довольны друг другом.
— Вы подтверждаете все вышесказанное?— выжидательно уставился на меня сквозь выпуклые стекла очков Прошкин, автоматически поправляя оправу на переносице, хотя она плотно сидела на мясистом носу.
— Нет. Потерпевший дал лживые, оговорительные показания. Он заинтересован в незаконном обвинении, потому что...
— Я не спрашиваю вас о причинах,— оборвал меня следователь.— Отвечайте: вы подтверждаете сказанное Адамовым?
Но не тут-то было. Я все-таки окончил начатое:
— Он заинтересован в незаконном обвинении, потому что хочет укрыть истинных виновников, сообщивших ему заранее информацию по делу Кацуба и склонивших к признанию.
Фраза была детально продумана. Если на Прошкина и могло что произвести впечатление, то именно четко сфор
мулированная юридическая конструкция, готовая лечь в протокол. Однако он гнул свою линию:
— Меня не интересуют ваши догмы. Дайте свои пояснения, контрдоводы к показаниям Адамова.
«Да, так я и выложу тебе все свои аргументы. Хочешь знать, чем я располагаю, на что надеюсь. Остаться без козырей на руках — так дело не пойдет»,— все это мгновенно пронеслось в голове, а вслух я решительно заявил:
— Вы тенденциозно, пристрастно ведете следствие, стараясь приписать мне преступление, которое я не совершал. Я отказываюсь давать показания.
— Опять за свое. Необъективно, необъективно... В чем эта необъективность?
— Адамов распоясался, наговаривает на меня, оскорбляет. А мне вы затыкаете рот, не даете задать вопрос, чтобы он, не дай Бог, не отказался от показаний. Что он, не видит, на чьей вы стороне?
— Впрочем, как угодно. Можете не давать показаний,— разозлился и Прошкин.— Вам же хуже: очная ставка закончена.
— Как закончена? У меня есть к нему вопросы. Я имею право...
— А я вас лишаю этого права. Условия здесь диктую я: не хотите отвечать на мои вопросы, значит, оставьте при себе и свои.
— Это грубое нарушение моего права на защиту, попрание Уголовно-процессуального кодекса. Я буду жаловаться!
— Хоть самому Богу,— пренебрежительно ответил следователь...
...В камере я сказал своим соседям:
— Буду объявлять голодовку. Извещу администрацию, напишу в прокуратуру СССР. Пусть следователь покрутится...
— Ему твоя голодовка, что слону дробь,— поубавил мой пыл Малахов.— Да о ней, если хочешь знать, никому и не сообщат. А самое главное, кто тебе разрешит это делать? Объявление голодовки — это нарушение порядка в СИЗО, ты же еще и виноватым будешь...
— Но есть правила содержания...
— У них свои инструкции, свои законы. Когда я первый раз сидел в изоляторе УВД, один сокамерник тоже объявил голодовку. Знаещь, где он очутился? В карцере. А там мокрый цементный пол, голые стены. Даже нар нет. Вот и голодай в сырости и холоде. Как, нравится?
— А вот пишут в газетах, если за рубежом голодают заключенные, узнает общественность, протестует...
— Наивняк. Тебя дубинкой быстро отучат от демократических замашек. Я же тебе долблю: любой протест — это злостное нарушение порядка, понятно? Вот смотри: нельзя подавать коллективные жалобы... А что ты в одиночку можешь? Впрочем,— сделал он безразличное лицо,— твое дело...
В том, что Малахов прав, я вскоре удостоверился. Сотрудник СИЗО, офицер, который снимал у меня отпечатки пальцев, на мой осторожный вопрос о голодовке недоуменно переспросил:
— Вы это всерьез? Не советую. Шланг в ноздри всунем и накормим. Ощущение не из приятных. Хотите попробовать?
— Это же насилие над личностью!
— Соблюдайте порядок. И не будет никакого насилия. А с нарушителями мы обязаны и будем бороться. Так что не надо испытывать наши нервы...
После такого откровения у меня, признаюсь, отпала охота мучить себя понапрасну. Но что-то противопоставить Прошкину я был должен. Больше всего мне не доставало информации. Вакуум, которым окружило меня следствие, давил, не давал определить ориентиры, выработать четкую концепцию защиты. Я решил воспользоваться услугами адвоката и написал об этом заявление на имя Генерального прокурора СССР. По закону адвокат имеет доступ к материалам дела с момента предъявления обвинения, а я, обвиняемый, лишь по окончании следствия. И Прошкин с Кирсановым, не только не скрывали, а даже подчеркивали, что работники милиции основную вину перекладывают на меня, утверждая, что находились в зависимости, что я оказывал на них давление. Нельзя было исключить, что это тактическая уловка, стремление вбить между нами клин, чтобы спокойно ловить рыбу в мутной воде. Вот тут-то и необходим адвокат, который бы служил связующим звеном, своего рода координатором действий.
Противник, впрочем, как я и ожидал, не дал мне этого шанса. Ответ был иезуитски вежливым, даже комплиментарным: «В связи с тем, что вы являетесь юристом и сами способны защищаться от обвинения, в ходатайстве о предоставлении защитника с момента предъявления обвинения отказать...»
Будь у меня на руках все необходимые материалы, можно было бы потягаться с Прошкиным, и еще неизвестно, каким бы оказался результат поединка. Но мы с ним были в разных весовых категориях, причем и в прямом, и в переносном смыслах. И с каждым днем он наращивал преимущество — добывал (каким путем — дело его совести) новые факты, сильнее сжимал вокруг меня кольцо осады. И чтобы не оказаться в полной блокаде, не дать завершить окружение, я решил, что в моих интересах ускорить ход следствия. Чем больше будет у Прошкина неясностей, неточностей, недоработок, тем больше у меня шансов на успех в суде. Инстанцию для новой жалобы выбрал самую высокую: ЦК КПСС и Президиум Верховного Совета СССР. Повторив претензии к Прошкину, я копнул глубже. Следствие, писал я, ведется уже год, бессмысленно тратятся огромные деньги (я подсчитал — около 200 тысяч рублей), от работы на местах отрываются специалисты, оплачивается проезд свидетелей, а конца делу не видно. Пусть это прозвучало демагогически, но упомянув о перестройке, о борьбе за экономию государственных средств, я предвидел, что мое послание напрямую зацепит генерала-руководителя следственной группы, да и многих повыше...
Оказалось, что ситуацию и реакцию на нее я просчитал точно. На пятый день после подачи письма в камеру явился сам заместитель начальника изолятора. «Собирайтесь,— чуть ли нс дружески обратился он ко мне.— И вещи не забудьте.»
Это было настолько неожиданно, что я наивно спросил:
— Что, может, домой?
— Домой, домой,— поторапливал меня офицер.— Не задерживайтесь.
Прихватив нехитрый скарб, распрощался с сокамерниками, чуть ли не бегом выскочил на площадку.
— Не торопись,— сдержал меня сопровождающий.
— То быстрее, то не торопись,— возмутился я и впервые прямо взглянул на своего, так сказать, конвоира. И неожиданно узнал в нем студента-заочника юрфака университета, с которым не раз встречался на экзаменационных сессиях. Узнал меня и он, я это понял сразу, но однокурсник сделал непроницаемое лицо и лишь деланно вздохнул:
— Служба она и есть служба. Каждому свое,— повторил свежие в памяти слова уголовника Басмача.
И вот снова та же полуподвальная этапная камера, куда я был доставлен из прокуратуры БССР. «Какой маршрут мне выпишут теперь,— терялся я в догадках.— Может, и вправду домой? Одумались, изменили меру пресечения?» Традиционный досмотр вещей и личный обыск — и вот УАЗик выкатывает из негостеприимных ворот КГБ.
г. Минск, ул. Володарского
Некто Прошкин, Л. Г.
Михасевич против Адамова
На кону “Наполеон”
До мелочей знакомый Минск показался мне необычно нарядным. Сверкающие гирлянды инея н^липах, румяные от легкого морозца лица прохожих, круговерть на переходах, пестрые пятна светофора — все сливалось в панораму радостного дня. Месяц заточения обострил чувства, и сквозь толстые стекла и железо машины я, казалось, слышал и смех детворы, и музыку из распахнутых настежь форточек квартир; внятно ощущал аромат духов промелькнувшей за oj^hom женщины...
Вот она, свобода, рядом, стоит сделать шаг — и ты вновь сольсшся с тысячами тебе подобных, станешь частицей родного города...
— Приехали,— сказал один из моих сопровождающих.— С новосельем! - Передо мною темнели ворота следственного изолятора УВД.
Первые же минуты в новом «доме» принесли неожиданную встречу: у одной из дверей стоял Владимир Буньков — хмурый, безразлично поникший. Тяжелое зимнее пальто, ондатровая шапка, черный «дипломат» делали его фигуру мрачной, будто он собрался на похороны. Правда, здороваясь и подавая руку, он попытался изобразить на лице улыбку, но она получилась жалкой и вымученной. Я сделал вид, что не заметил протянутой руки — они там, в Витебске, все валят на меня, а он, как ни в чем ни бывало, делает хорошую мину. Возникла заминка, которую разрядил мой сопровождающий:
— Разговаривать нельзя! Разойдитесь!
— Так уж и нельзя. Свои мальцы, одни дела,— тихо проговорил Буньков.
— Тебя что, арестовали?— растерялся я.
— Да, сегодня. Вот иду в камеру...
— А еще кого?
— Вчера Журбу. Видимо, и Волженкова, и Кирпиченка заберут. Обвинение уже предъявлено.
— Прекратите разговоры!— уже более резко предупредили нас. А потом помягче:— Взрослые мужики, законы знаете...
Подчиняясь приказу, я отошел в сторону, но успел сказать главное:
— Держись, Володя! Я показаний не даю...
Бунькова обыскали и увели. Дошла очередь и до меня. И тут мне был преподнесен очередной сюрприз. Заместитель начальника изолятора КГБ на прощанье протянул исписанные моей рукой листы бумаги.
— Что это?— боясь поверить в догадку, опешил я.
— Ваши жалобы. Наш генерал отсутствовал, а без его подписи отправить не можем,— невозмутимо произнес офицер, правда, не глядя мне в глаза.
— Да, Прошкин продолжается,— нашел я силы невесело пошутить...
Надо признать, Прошкин недаром так высоко поднялся по служебной лестнице. Он отлично изучил казуистически запутанные подзаконные акты-инструкции, дополнения к ним, хорошо ориентировался в разной их интерпретации различными ведомствами. В этом я вскоре еще раз убедился.
...— Что будем делать вот с этим вашим наследством?— спросил меня полковник, начальник учреждения, в которое меня определили на новое «место жительства».
— Как что?.. Отправлять адресатам,— нс задумываясь ответил я, сразу узнав мои письма в ЦК КПСС и Президиум Верховного Совета СССР.
— Не имеем права нарушать инструкцию. Вот ознакомтесь...
Инструкция гласила, что все жалобы на неправильное ведение следствия в трехдневный срок отправляются... в прокуратуру, поскольку я числюсь за ней.
— Что же: Прошкину — на Прошкина?.
— Почему же? Можете писать на имя самого Генерального прокурора. Это ваше право. Мы препятствовать не будем.
— Но это же нонсенс — дело о моем обвинении как раз и ведет прокуратура СССР. Где же логика?
— Ничем вам помочь не могу,— начальник СИЗО прихлопнул рукой увесистую папку с инструкциями.— Так что заберите жалобы.
— Нет уж, не для того я их писал. Направляйте «по этапу», возможно, и дойдут до Кремля,— мало надеясь на такой исход, вздохнул я.
Однако недаром говорят, что капля камень точит. Жалобы и заявления писал, конечно, не только я — не давали покоя следственной группе и другие мои подельники. И группа Прошкина вынуждена была форсировать работу, обрубать «незавершенку», торопиться. Наверное, поджимали и сроки, к тому же, дело было на контроле у ЦК КПБ и КПСС, а там долго ждать не любили и шутить не умели.
Без особой надежды на успех Прошкин все-таки провел еще один допрос, скорее — для проформы. Держался на этот раз он уверенно, самодовольство так и перло из него.
— Что, удался маневр, объехали меня по кривой?— не удержался я от попытки сбить с него спесь.— Промариновали жалобы в СИЗО КГБ, а теперь вообще похороните их в прокуратуре? Нечего сказать, законность восстанавливаете...
— На том и стоим, что законы блюдем. Закон — он и щит наш, и оружие. Вот обойдись вы с Адамовым по закону, не имел бы чести быть с вами знакомым...
— Да, сейчас ваш верх, пинаете меня, как вам заблагорассудится. И ниже пояса бьете — ведь рефери на ринге из ващей команды. Но ничего, еще не вечер... Отрыгнутся вам мои муки, даст Бог, и вы баланды похлебаете...
— Ай, Моська, знать, она сильна...
— Тут-то вы правы. Как слон в посудной лавке, крошите и топчете без разбора.
— Особо и разбирать нечего. Факты — упрямая вещь, а они против вас.
— Вот я и хочу посмотреть, что вы наскребли. Где материалы дела? Я хотел бы с ними ознакомиться. Видимо, жидковат улов, вот и тянете резину...
— Не торопитесь, посидите, отдохните, наберитесь сил. Зачем горячку пороть?— Прошкин прямо-таки купался в своем могуществе. Сытая физиономия лоснилась, глаза за толстыми стеклами очков жмурились, будто у кота, поймавшего мышь, толстые пальцы лениво разминали сигарету. С удовольствием затянувшись дымом, как-то невнятно сказал о главном:
— Можете подыскивать адвоката.
Это вскользь брошенное замечание говорило о многом: значит, следствие пришло к финишу, все, что успели, суммировали, подготовили заключение. И будет этот документ с существенным изъяном — без моих показаний по существу дела. Какую бы весомую «телегу» ни настрочил на меня Прошкин, ей суждено пустопорожно громыхать на любом ухабе — моей поклажи на ней не будет. И суд, конечно, это установит сразу. В общем, кончалось мое вынужденное бездействие, совместно с адвокатом я мог вырабатывать тактику защиты, открывался доступ к материалам дела.
— Я напишу заявление,— ответил Прошкину.— Жена найдет адвоката. Я ей доверяю.
— Это уж ваши заботы.— Следователь поднялся из-за стола, и вновь мне показалось, что передо мною не человек, а каменная глыба, которая может раздавить любого, кто встретится на ее пути; бесчувственный, бездушный, еле отесанный камень...
— Я заявляю ходатайство об ознакомлении меня с делом по обвинению Михасевича. Меня интересуют убийства, сопряженные с изнасилованием, в районе ст. Лучеса. А также настаиваю на очной ставке с Михасевичем. Уголовно-процессуальный кодекс дает мне это право.
— Ишь, чего захотел,— недовольно буркнул Прошкин.— Ты же его видел.
— Когда?
— Тебя вели на первый допрос. Игнатович допрашивал Михасевича, а ты шел мимо этого кабинета. Дверь была открыта.,,
Я напряг память и увидел перед собой Игнатовича, на- нроійв котором) сидел небритый рыжеволосый мужчина. Случайно подстроили встречу,— мелькнуло в голове,— чтобы поиздеваться.»
— Это что за эксперименты?.. В любом случае настаиваю па своем. Обвинение Михасевичу затрагивает мою судьбу, а ваш главный козырь — невиновность Адамова и виновность Михасевича. Я категорически заявляю, что считаю виновным Адамова в убийстве Кацуба. Вы обязаны опровергнуть мои утверждения. Но вы это сделать не можете, так как это прерогатива суда. Приговора по Михасевичу сегодня нет, и, значит, привлечение меня к уголовной ответственности незаконно. И я требую освободить меня из-под стражи. А в знак протеста отказываюсь давать показания и объявляю голодовку.
Прошкин бросил на меня недовольный взгляд, повел бровями и задумался, подыскивая аргументы. Затянувшееся молчание нервировало обоих, но ближе к срыву был я.
Он, видимо, понял мое состояние.
— Дело Михасевича секретное, и никто тебя с ним знакомить не будет. И я не соглашусь устроить вам очную ставку. А насчет голодовки?.. Это грубое нарушение заключенным под стражу Правил содержания... Администрация СИЗО этого не любит, подумай... Взыскание занесется в личное дело, это тебе, по-моему, ни к чему. Суд требует от изолятора характеристику. Она влияет на меру наказания. К тому же вам не видать условно-досрочного освобождения. И молотить от звонка до звонка. Так что думай хорошенько.
— Вы не следователь, а палач! Нарушаете мое право на защиту. Ведь фактически из-за Михасевича я здесь нахожусь, гнию в этом вонючем изоляторе, унижен и оскорблен, публично приговорен к позорному столбу. Где же ваша объективность? Где презумпция невиновности, о которой вы так печетесь. Вам бы улицы подметать, а не работать следователем.
— Это не тебе решать. И слава Богу. А то бы и меня, как Адамова, под расстрел подставил. И кто из нас негодяй, ска- кет суд. Но в дальнейшем прошу вести себя корректно, а то...
— Что «а то...»?— перебил я.— Будете бить? Плевать я хотел. Обливаете меня грязью, а я должен вас еще благодарить.
Прошкин вызвал конвой и приказал увести.
Обдумывая грядущие перемены, я неизбежно натыкался на один и тот же подводный камень. Возникла дилемма — что лучше для меня: получить какой-то срок (желательно, естественно — минимальный) и вырваться из этих тюремных стен в лагерь или добиваться доследования, отказывая следствию в доверии, затягивать разбирательство, сознательно запирая себя в СИЗО? Я не сомневаюсь, что вся наша так называемая правоохранительная система и задумана так, чтобы попавший в ее лапы уперся в этот риф. Ограничения в переписке с родными, в свиданиях, в еде и в элементарном жизненном пространстве в изоляторах намного жестче, чем в исправительно-трудовых колониях. И подследственного прямо-таки подталкивают к мысли: «на зоне лучше, чем в СИЗО, сознавайся, это же в твоих интересах, ты ведь себе не враг...». Выдержать под таким двойным прессом — и внешним, и внутренним — далеко не просто, человек все-таки создан для того, чтобы каждый день видеть над головой небо, а не потолок тюремной камеры...
...На двери кабинета, куда меня привели, красовалась цифра 13. «Прошкину другого и не положено»,— успел подумать я и в самом деле увидел его бычью фигуру, рядом с ним Кирсанова и еще двух незнакомых мне цивильных людей.
— Адвокат Данилов,— быстро подошел ко мне и представился один из них.— Ваша жена попросила осуществлять защиту.
Внимательно, с пристрастием разглядывал я человека, от которого теперь во многом зависела моя судьба. Рукопожатие жесткой костлявой руки было по-мужски твердым, при знакомстве нс отвел взгляда. Нс первой молодости: видимо, жизнь успела изрядно причесать его железным гребешком — глубокие морщины, густая седина в когда-то черных усах, выразительный нос... Одет небрежно: довольно поношенный костюм, галстук не в тон, невыглаженная сорочка, но... начищенные до блеска, хотя и видавшие лучшие дни туфли. О таких обычно говорят:бывшие... В общем, доверия нс вызвал, скорее — наоборот.
— Работал судьей, теперь в юридической консультации, клиенты претензий нс высказывают,— продолжал рассказывать о себе Данилов, сам, видимо, оценивая меня: темные глаза из- под дергающихся век цепко приглядывались ко мне.
«Ладно,— переборол я первое впечатление,— раз жена выбрала этого Данилова, значит, человек надежный и толковый. Судейский стаж, адвокатский — должны быть связи. Людмила, конечно, все просчитала».
Наверное потому, что впервые за долгое время увидел не Прошкина и форменные мундиры работников СИЗО, а нормального человека, к тому же пришедшего по просьбе жены, горло перехватили спазмы, на глаза навернулись слезы, наружу рвались рыдания.
— Все будет хорошо, успокойтесь. Домашние желают вам добра, верят в вас... Поберегите эмоции.— Интуитивно почувствовав, что семья сейчас интересует больше всего, начал не очень конкретно, но все же говорить о доме:— Видел вашу дочь, Инночку. Веселая, умная малышка. Говорит, что папа в командировке. Мать, правда, по-прежнему нездорова. Ждет, что скоро встретитесь, переживает. Сестра ваша с женой приходила, тоже беспокоится, верит в хорошее. Друзья нс забывают, привет передавали, говорили, что все должно наладиться.— И Данилов назвал несколько фамилий.
— У вас еще будет достаточно времени, чтобы поговорить, даже наедине,— прервал адвоката Прошкин.— Надо решить организационные дела. Как вы будете читать обвинительное заключение: вместе или по отдельности?
— Вместе,— опередил я.— Я подскажу, на что обратить внимание, где расставить акценты. В общем, две головы лучше!
— Раздельно,— возразил адвокат. И, видя мое недоумение, поспешил разъяснить:— У меня своя методика: я не буду читать все подряд, пройдусь по эпизодам. А потом соберем замечания, согласуем их. К тому же,— добавил он совсем уж некстати,— в этом месяце я очень занят — несколько процессов, времени в обрез.
— Материал объемный, вам одному не разобраться,— настаивал я.
— Ладно. Выкрою время — читаем вместе, буду занят — по отдельности,— предложил он компромисс.
— Договорились,— подвел черту Прошкин.— Второе: вам нужно все дело? В нем тридцать томов почти...
— Желательно,— тут мы с Даниловым были единодушны..
— Размножать мы его не будем,— дал справку Прошкин.— А ознакомиться должны все обвиняемые и их адвокаты. Так чтр. решайте: читаете по частям или ожидаете, пока сможете получить все тома сразу. Это ваше право, но тогда суд отодвинется на несколько месяцев. Это не в ваших интересах...
— По частям,— сразу согласился со следователем адвокат.— Чего резину тянуть.
Я промолчал, хотя был иного мнения.
— Тогда составим график: какие тома и кто читает,— удовлетворенно продолжал Прошкин.— Во всем должен быть порядок.
— Что, сроки поджимают?
— Я же говорю: порядок есть порядок,— не стал он ввязываться в спор со мною и обратился к Данилову:— Я нахожусь в Минской транспортной прокуратуре, в кабинете №3.
— Хорошо. Я попозже к вам забегу. А теперь мне в суд надо,— заторопился тот.
— Так вы все-таки придете ко мне?— настоятельно переспросил я, совсем недовольный первым визитом адвоката.— Мне хотелось бы, чтоб вы подробно узнали о планах жены. И передайте семье: я чувствую себя хорошо, пусть не беспокоятся, берегут себя. Скажите спасибо друзьям, всем, кто верит в меня...
— Передам, передам, все сделаю.— Пожав мне руку на прощание, защитник буквально выскочил в коридор.
Во мне накопилось раздражение; своего адвоката я представлял совсем иным: более солидным, а, главное — более внимательным, и потому не сдержался, бросил вызов Прошкину: IU и> 11> I и. собрали, наворотили аж тридцать томов.
— Не задирайтесь. Для вас все могло окончиться и хуже.
— ???
— Не хватило времени, чтобы полностью охватить вашу «деятельность».
— Что, таланта маловато?..
— Куда мне до вас...
— Не ерничайте. Я знаю свои минусы: мало опыта, иногда тороплюсь, несдержан. Но умышленно Адамова под статью не загонял. У меня был другой умысел — наказать зло, чтобы оно, не дай Бог, не проявилось в другом месте. И, кстати, нашел поддержку: сколько меня проверяли, перепроверяли — все сходились в том, что Адамов — убийца. А теперь крайний — я.
— А как вы думали? По вашей версии раскручивается дело, безвинному дают 15 лет, а вас, что, по головке гладить? Пальчиком погрозить? Ай, как не хорошо поступил? Да это же пятно на все правоохранительные органы, на всю нашу систему... Из-за таких и недоверие растет, и недовольство! Это же мина под весь наш строй, если нет веры в правосудие, в правду!
Голос Прошкина грохотал в кабинете, его лицо побагровело, казалось, его вот-вот хватит удар или он сомнет меня в лепешку. Закурив, он немного сбавил пар, отдышался и произнес совсем другим тоном:
— Впрочем, следствие закончено. Что теперь дебаты разводить. Мне просто хочется поговорить начистоту, не для протокола, если у вас есть, конечно, совесть...
— Вот как? Про мою совесть заговорили? А у вас хоть капля ее найдется? Я в этом не уверен!
— Но ведь по вашей вине человеку дали 15 лет, могли и расстрелять. Вы хоть представляете, что он пережил?
— Если есть моя вина, так только в том, что поверил Адамову, поверил, что в нем заговорило раскаяние. Вот вы говорите о его страданиях, переживаниях, муках. Это все человеческие чувства, так почему же вы отказываете ему в праве на покаяние? И отказываете мне в праве поверить в его искренность. Да, потом он испугался кары, дал задний ход, но это уже свойства его натуры — неуравновешенность, трусость, двуликость. Опять-таки, к сожалению, и это все человеческие качества. А вы этого или не понимаете, или умышленно не хотите понять. Рубите сплеча, так, что щепки летят... Выслужиться хотите, что ли? Полковничьего звания мало? А потом, я вправе требовать предъявить мне дело по обвинению Михасевича. Я считаю, что убийство совершил Адамов, и опровергнуть мое утверждение, основанное на достоверно собранных доказательствах, может только суд, признав виновным другого. А как можете вы до суда уже предрешать? Абсурд! Я не исключаю, что вы подтасовываете доказательства по обвинению Михасевича... И хотите заранее предопределить не только общественное мнение, но и решение суда в отношении работников следствия и дознания Белоруссии. Дали информацию в ЦК КПСС, в ЦК КПБ, а сейчас необходимо подвести материальную базу...
— Никто вам не даст знакомиться с делом по обвинению Михасевича, оно секретное. А что до моего хлеба и масла, то мне их достаточно, не голодаю. Это вам, выскочке, хотелось быстрее «из грязи — да в князи». И Адамову об этом говорил, и к Борисову в компанию набивался, на всю гостиницу в Витебске шум стоял: раскрыл преступление, герой! А герой, как тот король, оказался-то голым!
— Да, я действительно, как вы говорите, из грязи. Но только из самой чистой — из деревенской. Паркетная грязь — это ваша привилегия, но только я ей не завидую. Все, чего добился и что вы сейчас топчете, я добился честно, а не лизал подметки, как некоторые. Вот у вас, наверное, тоже где-нибудь «волосатая» рука есть?— неожиданно для Прошкина выстрелил я вопросом.— Ведь в Москву, в прокуратуру Союза просто так не попадешь?
Прошкин на мгновение даже отстолбснсл от моей неприкрыто, чего греха таить, наглости. М чувствовал, что ему ХОчетСЯ если подвинуть мне по физиономии, то хотя бы прекратить бессмысленный разговор. Но он сдержался, видимо, у него был какой-то план, он на что-то надеялся.
— Понимаю ваше состояние,— примирительно сказал пн. ае 'і.ііо I кидку на молодость и горячность. Меня вот что йніереіуеі Вы все время твердите, что не виноваты. Ну а I го же пином.Iг? Подскажите...
Вы сами же сказали, что дело закрыто, поздно что-ли- 11|I добавлять, поезд, мол, ушел. Двести тысяч рублей выле- I ели в трубу, вам больше ни копейки никто не даст...
— Согласно УПК следствие можно возобновить на любой I гадии, вы это должны знать. Сроками мы не ограничены, так что снова начать — не проблема. К слову, откуда вы взяли эту сумму — 200 тысяч? Вы что, главбух прокуратуры?
— Тут ума много не надо. Любой школьник может подсчитать, во что обошлись командировки, выезды такой группы. Да свидетели еще... Так что, пожалуй, затрачено еще больше...
— О, какая забота о государственной казне! А сам-то сколько в Витебске пробыл? А каков результат? Адамова осудили, потом освободили, сам вот здесь... Из-за кого все расходы?!
— Да, я провел в Витебске 140 дней, но 90 рядом со мной пробыл и Самохвалов. У него стаж — 30 лет, у меня — кот наплакал. Если уж он поверил Адамову, не усомнился, как вы утверждаете, в самооговоре, так мне и сам Бог велел. Вот за это и готов отвечать, что не смог установить истину, что пошел по ложному пути. Но согласиться, что я делал это умышленно, преднамеренно, что хотел построить на чужой беде карьеру — это уж, извините, слишком. Признаваться, что я подлец, чуть ли не фашист? Нет уж, увольте, я до такого маразма нс дошел!
— Нс надо все списывать на непрофессионализм. Дело вы склеили довольно прочно. И психологию судей учли, и реакцию, как говорят, общественности. «Насильника и убийцу — к ответу!»— попробуй тут что-нибудь возрази. А что Адамов отказывается... Что ж, за свою шкуру боится, чего уж тут его слушать, тем более — верить. Разве не так?— Прошкин выжидающе уставился на меня стеклами очков.
— Против него говорили факты. Я их только суммировал, квалифицировал в силу своих знаний и возможностей...
— Но ведь он неоднократно говорил, просил, умолял: «Убийство я не совершал!» И что же? Все это оттскакивало, как горох от стены. Вам нужен был убийца, и вы добились от Адамова признания, а после — хоть трава не расти.
— Позвольте, но вы противоречите себе. Я также отвергаю ваши обвинения, который раз твержу, что не виновен, вы же стоите на своем. Десяток асов-профессионалов не могут найти истину... Где же ваша хваленая логика, что-то пм не вспоминаете о презумпции невиновности? I
— Истину установит суд.
— Опять нестыковка. Только что я от вас же слышал, что суды часто идут на поводу у общественного мнения, что и они подвержены кампанейщине. После Витебского дела многие судьи наказаны, отстранены. И что, найдется хоть один смельчак, который посмеет защитить нас? Вы вдумайтесь: следственная группа прокуратуры СССР и один-един- ственный следователь Сороко, к тому же запятнавший честь не только своего мундира, но и бросивший тень на все правосудие! Ату его, злодея, в камеру, на зону! Что, не так?
— Суд независим, и никакого давления на него следствие оказывать не может. Как и любое общественное мнение. Так гарантирует Конституция.
— Бросьте изрекать прописные истины. Может, еще вспомните, что «советский суд — самый гуманный суд в мире»? То, что подавляющее большинство судебных решений носит обвинительный характер, вам рассказывать не надо. Сами этого добиваетесь — иначе вся ваша работа идет псу под хвост. Сопоставьте: постановление о взятии под стражу подписывает прокурор БССР, затем срок содержания в СИЗО продлевает зам. Генерального Союза, ходом следствия целенаправленно интересуются парторганы... Что, разве есть хоть один судья-самоубийца? Подскажите, я предложу его кандидатуру!..
— Всю эту кашу запарили вы, нам ее и расхлебывать. Бумеранг возвращается...
— Но раз вы утверждаете, ставите мне в вину, что я нарушил Закон, используя его в корыстных целях, почему такие же, даже более грубые нарушения допускаете вы? Разве ши ІМЦІІІОІІ1 ис гречу с Адамовым можно назвать очной став- кой7 Им ра (решили ему оскорбить меня, вылить ушат гря- ш. а и in I Mm задать ему ни одного вопроса, вернее, ни на один он не in ж I ил. Как же тут обстоит дело с Законом, с его соблюдением?
— Ваши права Закон трактует неоднозначно. А вообще- ю, можно иногда и отступить от него, если он противоречит общественным интересам.
— Это что-то новое. Тем более — из уст работника прокуратуры СССР, высшего надзорного органа страны.
— Многие правовые нормы требуют пересмотра,— пошел на попятную Прошкин, поняв, что сказал лишнее.— Время идет, требования меняются. Жизнь...
— Да, хороши перемены. Человеку отказывают в его законном праве на защиту, и это в порядке вещей, новое веяние, так, что ли?
— Вы лучше вспомните, сколько раз нарушили Закон, когда допрашивали Адамова,— не выдержал все-таки моего натиска Прошкин.— Угрозы расстрела, обещание сделать психбольным, намеки на физическую расправу, правда, косвенные, но все же...
— Адамов теперь на коне. Он все, что угодно, может говорить. Понимает, не дурак, что это в ваших интересах. Вот вы и подогреваете ажиотаж вокруг дела, которое и выеденного яйца нс стоит. Как же — приобщились к процессу века, может, какая премия или — вдруг повезет — даже меда- лишка перепадет. Вот и накрутили, насобирали, приправили общественным мнением и подсовываете суду эту стряпню, от которой дурно пахнет.
— Поберегите свое красноречие, не растрачивайте пыл,— не принял вызова Прошкин.— Они вам еще пригодятся.
— Ничего. Это моя забота. Я хочу, наконец, понять: то ли вы слепо выполняете жесткую установку, то ли это ваша самодеятельность, желание выслужиться. Порой мне кажется, что попал в эпохр Вышинского, о которой столько читал и даже слышал от очевидцев.
— Не забывайтесь, Сороко! Попридержите язык!
— А что? Аналогия налицо: еще не доказано, что я преступник, это дело суда, а вы добиваетесь, чтобы меня содержали в одиночке. Потом подсаживаете ко мне уголовника, затем переводите еще к двум своим агентам... Думаете, я не понимаю, зачем они со мною так откровенничали? Я лишен связи с женой, адвоката мне предоставляют лишь после завершения следствия. Где же пресловутая презумпция невиновности, где права, гарантированные Конституцией, о чем вы недавно пытались разглагольствовать? Вы зациклились, у вас зашорены глаза (тут Прошкин невольно поправил очки), ваша цель — не истина, а оценка, которую вы получите. Вот вы и стараетесь заслужить «хорошо» или «отлично», а каким способом — вам наплевать. Лишь бы попасть в струю, отрапортовать. Отсюда и явный обвинительный уклон, предвзятость. Вам важна не суть, вам важен результат.
— Чего же тут мудрить: вы нарушили Закон, обвинили и посадили невиновного, теперь за это будете отвечать. Все логично, все справедливо.
— Что справедливо? Вы не хуже меня знаете: работники дознания подготовили Адамова к признанию и подсунули нам его уже «готовенького». Мы, к сожалению, заглотили наживку. Адамов написал повинную, показал место преступления — все говорило против него. Если он не виноват, откуда у него такие сведения, кто его научил, кто ему показал, где убита Кацуба? Вас это не интересует?.. Ухватились за тех, кто был на виду, а истинных виновников прохлопали...
— Каких истинных виновников?
— До поры до времени я их не назову. Хотя, впрочем, вы и сами не хуже меня их знаете...
— Намек на милицию? Вынужден вас разочаровать: милиционеры не гнали лошадей, не высовывались; сопоставляли, анализировали, а отрапортовали о раскрытии убийства Кацуба только в декабре. Заметьте: не в мае, когда Адамов признался, даже не в октябре, а лишь в декабре. Вот так-то!.. А вы уже давно трезвонили об успехе...
— Как, впрочем, и вы сейчас. Не сомневаюсь, что уже пошел рапорт к Генеральному прокурору и в ЦК КПСС: арестована группа социально опасных преступников, порочащих правосудие, советскую власть, они изолированы от общества. Дело сделано, товарищи начальники, кто там следующий?!.
Инстинкт самосохранения подсказывал, что мне лучше остановиться, сбавить обороты, не нарываться на неприятности, но желание хоть как-то достать, уколоть, даже унизить Прошкина брало верх. Впрочем, это была, как говорят, адекватная реакция — следователь со мной тоже не церемонился.
— Вот видите, вы абсолютно точно охарактеризовали себя: социально опасный. От вас пострадали Адамов, Самсонов, Зорин, совсем молодые девчата. А какой вред причинен правоохранительным органам?! Так что мера пресечения — самая что ни есть разумная и справедливая.
— Опять вы о справедливости! Да как можно о ней говорить, если моя жалоба на вас обязательно должна пройти через ваши же руки?! Если мне в буквальном смысле слова перекрыли кислород и принуждают дышать затхлым воздухом тюремной камеры.
— Извините за грубость, но... «за что боролись, на то и напоролись»,— Прошкин разрешил себе плоско пошутить.— Хотя, в принципе, некоторые ваши рассуждения не лишены смысла. Конечно, следствие должно быть выделено из прокуратуры, которой целесообразно оставить только функции надзора. Да мало ли что надо сделать: и народных заседателей обучать, а то темные в юриспруденции, как южная ночь. Если начистоту, то в первую очередь я бы отключил телефоны, по которым правосудию дают ценные указания,— ни с того, ни с сего разоткровенничался Прошкин.
— Гражданин следователь, вашими устами глаголет истина,— снова прорвало меня.— Если все будет так, как вы только что сказали, первым на скамье подсудимых должны оказаться вы. И даже не по совокупности преступлений, а только за издевательство надо мной.
— Смените пластинку, Сороко. Ваша вина доказана следствием. Против вас говорят и результаты экспертиз, и показания причастных к делу. Того же Журбы, работников милиции. Вы же не так глупы, чтобы нс понимать, насколько это все серьезно. Так лучше уж сознаться, раскаяться. Это же в ваших интересах.
— Не ищите дураков. Нельзя доказать то, чего в действительности не было.
— А как тогда быть с Адамовым?
— Говорил и говорить буду: я не исключаю его причастности к убийству Кацуба.
— Опять за старое. Убийство Кацуба совершил Михасе- вич, это доказано. В 9-м томе дела сможете все подробно прочесть, сейчас же только напомню: Михасевич точно указал место, куда выбросил сумку убитой, а Адамов этого не смог сделать, сколько вы его ни принуждали. Вот так и лопнула ваша версия, вернее — рухнул карточный домик, когда вынули «липовую» подпорку.
— Легко рассуждать, когда появились новые обстоятельства, если на руках дополнительные материалы. На тот момент, когда я предъявил Адамову обвинение, я ни на йоту не сомневался, что преступление — дело его рук.
— Именно в это ваше утверждение я и не верю. Вы заведомо знали о его невиновности, но упрямо и сознательно подтасовывали факты, доказательства, недозволенными средствами принуждая Адамова к самооговору. Вот, если хотите, суть вашей вины. Сознательно и умышленно!— он дважды, будто обухом, пристукнул по столу.
— Этому нет доказательств,— не сдавался я.— Голословные утверждения...
— Нечего зря тратить время,— решил, видимо, закончить разговор Прошкин.— Подумайте и сознайтесь. Меньший срок получите.
— О каком сроке вы говорите?— с вызовом ответил я.— Суд не пойдет у вас на поводу, не надейтесь...
— Надежда покидает последней, так, что ли?— решил продолжить неравную игру следователь.— Должен предупредить: все настроены против вас.
— Надо понимать, что всех настроили вы?..
— Почему же. Против вас факты, а не я. А они, эти факты, таковы, что срок вас ожидает немалый...
— Какой же?
— Суд решит, это его прерогатива.
— А все-таки?
— Лет восемь, не меньше, я думаю...
— Сколько, сколько?..
— Лет восемь!
— Побойтесь Бога, откуда же столько? Даже если суд полностью поверит в вашу галиматью (в чем я сомневаюсь), по моим подсчетам никак не больше пяти лет выходит. Первая судимость, положительная характеристика, преступление нс корыстное...
— Это как считать... А если: из карьеристских побуждений?
— Вот это уж ни при каких обстоятельствах в суде не пройдет. Не захотят же судьи даже под самым сильным нажимом с верха полностью терять свое лицо. Самое большое,— тут я сплюнул через плечо,— лет пять.
— Не обольщайтесь,— неожиданно включился в затянувшийся спор незнакомый мужчина, до сих пор разбиравший какие-то бумаги.— Вы получите .лет восемь, а, может быть, и все девять.
Увидев мой вопросительный взгляд, пояснил:
— Старший следователь из Свердловской области Андреев. Мою фамилию вы видели в составе следственной группы... Так вот, не скрою, меня все время мучает вопрос: или вы настолько наивны, или...
— Что же вы не продолжаете? Оканчивайте — «или дебил»? Так?
— Я про другое. У вас нет никаких шансов, а вы лезете на рожон. Зачем эта бравада? На что вы надеетесь?
— На объективность суда. Мой козырь — моя невиновность.
— Слышали уже. Но вернемся к спору. Я утверждаю, что суд определит вам, как минимум, 8 лет.
— При самом плохом стечении обстоятельств, при всем давлении прокуратуры СССР, максимум, что мне грозит,— это 5 лет. Ставлю бутылку «Наполеона».
— Согласен!— протянул ладонь Андреев.
Прошкин разбил рукопожатие, став рефери в этом необычном споре.
— Плакали ваши денежки,— подвел я черту.— Когда и где изволите рассчитаться?
— В Нижнем Тагиле,— охладил мой пыл Андреев.— Наверное, знаете, что там находится?.. Правильно, лагерь для таких, как вы, бывших работников правоохранения. Это недалеко от моего Свердловска. Так что ждите и готовьте заранее коньяк.
— Надеюсь встретиться в другом месте, более привлекательном. Туда мне не надо.
— Другой дороги для вас нет, дражайший бывший коллега.
— Не кажите «гоп»... Суд отправит дело на доследование, это факт, поскольку показаний вам я не давал.
— Доследуем, нас много...
— А я подброшу новые доказательства своей невиновности. Значит, еще одно доследование, но уже без вас, будет новая группа. А сроки, отведенные на наше дело, уже давно «того»— пролетели. И не поможет ни зам. Генерального прокурора, ни сам Генеральный...
— Есть еще Президиум Верховного Совета,— втянулся в дискуссию и молчаливо сидевший пока Кирсанов.
— Там вам дадут от ворот поворот, потому что и так более двух лет в общей сложности возитесь. Кто-то же все-та- ки стоит на страже Закона!
— Не вам об этом говорить!— показал свои права старшего Прошкин.— Суд сам проверит все ваши заготовки и выдумки, а что ему покажется лишним, просто отметет, как мусор. Так что, попросту говоря, не дурите нам голову — никаких доследований не будет, не тешьте себя иллюзиями.
— У него состояние обреченной эйфории,— показал свою ученость Адамов.
— Агония, так будет и правильнее, и проще,— то ли поправил его Прошкин, то ли больнее уколол меня.
— Все это слова, слова, слова,— не сдавался я.— Еще раз повторяю: пытаясь доказа ть, что я вел следствие якобы не- законмыми методами, сами творите воистину беззаконие. Строите дом на песке.
— Ладно, коль следствие закончено, могу сообщить несколько интересных для вас фактов.— Кирсанов вопроси- іелыіо взглянул на Прошкина, тот согласно кивнул головой.
Гак вот, слушайте и сопоставляйте. Михасевич изна- с nniii.i l п убил в районе Лучесы не только Кацуба. На его совести еще три жертвы.
Он перелистал бумаги, нашел нужную и начал цитировать:
«15 апреля 1972 года, около 22 часов, на окраине города Витебска, вблизи района «Лучеса», Михасевич Г. М. путем сдавливания шеи руками совершил умышленное убийство гражданки Сазоновой А. Ф., сопровождавшееся ее изнасилованием».
Кирсанов внимательно взглянул на меня, будто проверяя мою реакцию на прочитанное, затем продолжил:
«Впервые о совершении этого преступления Михасевич упомянул на допросе 9 января 1986 года: «Эту... женщину я задушил наверху насыпи, внизу которой проходила железная дорога... Впереди этого места виднелся Витебск, вблизи какой-то дом или сарай. На насыпь ее тащил... Когда я задушил эту женщину, то труп оттащил в сторону к... кустам, частично раздел, и когда она потеряла сознание, то мне удалось совершить половой акт, обнажив ее половые органы.»
— Точно, как произошло с Кацуба,— заметил Прошкин.
— С вашего разрешения продолжу,— перевернул страницы Кирсанов.
«... 30 июля 1972 года, в дневное время, на поле, на окраине города Витебска, вблизи района «Лучеса», Михасевич Г. М. путем сдавливания шеи руками и затягивания на ней жгута из стеблей ржи совершил умышленное убийство гражданки Евдоченко Г. О., сопровождавшееся ее изнасилованием. О совершении этого преступления стало известно от самого Михасевича, который об этом показал: «... увидел женщину, шедшую мне... навстречу. Когда поравнялся с ней, то... набросился... и стал душить руками за шею, повалил... вправо от тропинки по ходу моего движения.»
— Хотите еще детали?— спросил у меня Кирсанов.— Пожалуйста: «Плащ и платье были приподняты кверху, обнажая нижнюю часть туловища, трусы обнаружены в стороне... Помню, что брал... какую-то сумку и... выбросил ее где-то по дороге...»
— Видите, Сороко, помнит о сумке, что брал, что выбрасывал... Но и это еще не все. Слушайте дальше: «11 апреля 1973 года, в вечернее время, неподалеку от дачного поселка «Лучеса», на дороге к деревне Шпили Михасевич Г. М. путем сдавливания шеи руками совершил умышленное убийство гражданки Гетмановой Л. А., сопровождавшееся ее изнасилованием. После этого похитил ее вещи и продукты... а также деньги...»
Обвиняемый Михасевич пояснил следующее: «Нападение на эту женщину я совершил... вечером... Снега не было... Сначала ехал на трамвае до конечной остановки... потом на автобусе. Шел... по тропинке... Мне навстречу попалась женщина... Я напал на нее и задушил... руками за шею... В руке у нее была... сумка. Задушив женщину, спустил с ног... трусы и совершил с ней половой акт... После этого перетащил труп в сторону, а потом... забросал хворостом... Сумку взял и, когда шел обратно, выбросил...»
— Какое это все имеет отношение ко мне?— прервал я Кирсанова.
— Самое прямое. «13 января 1984 года в 20-м часу вечера, у насыпи, недалеко от станции Лучеса Михасевич путем сдавливания шеи руками, затягивания на ней петли-удавки из косынки потерпевшей и заталкивания в полость рта ее варежки, совершил умышленное убийство гражданки КаДУ- ба Т. Л., сопровождавшееся изнасилованием. После этого похитил вещи на сумму 51 рубль и деньги в сумме 8 рублей.
Впервые о совершении этого преступления Михасевич Г. М. рассказал на допросе в качестве подозреваемого 13 декабря 1985 года: «... Поехал на окраину города..., увидел шедшую вдоль железной дороги девушку, пошел вслед за ней... Настиг..., зашел сбоку и столкнул с насыпи... Задавил руками за шею..., забросал снегом и ушел... В руках у девушки... была сумка... Учебники, конспекты. Идя вдоль железной дороги, побросал в какие-то колодцы из железобетонных плит...»
— Будьте внимательны!— Кирсанов поднял вверх указательный палец.— «...21 декабря 1985 года при выходе на место убийства... в 7-м по счету железобетонном колодце-Лот~ ке были обнаружены... тетради и учебники, а в 11-м вмерзшие в грунт листы бумаги с типографским текстом и остатки сумки...»
— Адамов первым сказал о колодцах, только я не там искал, времени было мало...
— Вот последняя цитата, чтобы не утомлять вас. Михасевич показал: «Убийства Сазоновой, Евдоченко, Гетмановой и Кацуба были совершены мной в одной и той же местности.
— Получается, что это его излюбленное место. А вы ухватились за Адамова... Незаконно задержали, заставили признаться, запугав до предела. Что, хотели выслужиться? Наверное, уже и кабинет себе в прокуратуре БССР облюбовали?..
— Он на памятник золотой в родной деревне надеялся. Как спаситель человечества...
Вначале я не понял, о чем сказал Прошкин. Лишь потом дошло, что это Адамов рассказал им о давнем допросе, где я упомянул о золотом бюсте, обещанном тому, кто излечит человечество от рака.
— Хотел «повесить» на Адамова еще два убийства и стать героем,— продолжал издеваться Кирсанов.
— И это вы называете доказательством моей вины?— я нашел в себе силы даже улыбнуться.— Собираете какие-то сплетни базарные, чушь собачью. Что ж, мне легче на суде будет — там разберутся в ваших «художествах».
— Ему, наверное, не давали покоя лавры Жавнеровича. Читал, конечно, информационные и рекомендательные письма с обобщением его опыта. Как же, десятки убийств расследовал, орденом награжден. Вот и выбрал себе кумира. А тот на поверку оказался изощренным садистом. Выбивал показания, люди ломались. Кто десять лет получил, а кто и под расстрел пошел... Не того героя вы нашли, Валерий Илларионович...
— Не вижу никакой связи. Допустим, я ошибся, Адамов не насиловал и не душил Кацуба. Пробыл он за решеткой двадцать месяцев, но у него, заметьте, есть статья за кражу госимущества, там ему четыре года положено. Так что сидел он, в общем-то, пока за дело.
— К чему вы клоните?
— А вот к чему. Восемь лет получил за грубейшие, доказанные в суде, нарушения какой-то карьерист, и столько же вы обещаете мне, не так ли?— посмотрел я на Кирсанова.
— Не мы писали уголовное законодательство,— ушел Кирсанов от прямого ответа.
— Данайтс посмотрим с другой стороны,— продолжал я гнуть свою линию.— Вот вы, ударная бригада прокуратуры Союза, навалилась на нас, провинциальных для Москвы, работников — оплеуха налево, зуботычина направо. В общем, восстанавливаете социалистическую законность, не так ли? А что, Закон не писан для высокопоставленных чинов, партийных боссов?
— Не обобщайте, Сороко,— поморщился Прошкин.— Кого надо, того и выводят на чистую воду. Вот в Узбекистане, например, серьезное дело разворачивается: крупные хищения, взятки, миллионы...
— Ага, вы сказали: «кого надо»,— уцепился я за оброненную фразу.— Что, перед Законом не все равны?
— Не занимайтесь демагогией...
— Это ваш метод доказательств... А не трогаете вы, то есть прокуратура Союза, больших начальников потому, что силенок нет до них добраться. Без разрешения нельзя, а дать его может... Сказать, или сами знаете?..
— Перестаньте, подследственный!
— Нет уж, договорю. Партия родная, вот кто! Меня она вышвырнула за борт, а их трогать не велит. И сам Генеральный прокурор бессилен что-либо сделать без санкции даже какого-то райкома, не говоря уже о ЦК. И утверждают прокуроров и в глубинке, и в столицах на разных партийных заседаниях, а не смотрят на их деловые качества...
— Недаром его исключили,— проговорил Кирсанов.
— И боится, грубо говоря, любой прокурор нс столько вышестоящего начальника, который назначает его на должность, а плюгавого инструктора райкома. Потому что косой взгляд «партайгеноссе» означает гораздо больше, чем служебный выговор. А исключат из партии, считай, волчий билет выписан.
— Сколько в нем зла накопилось,— опять резюмировал Кирсанов.
— Это не только зло, это, понимаете ли, правда. Сидит какой-нибудь старый хрыч или молодой пачкун в кабинете, рожает в потугах новое ценное указание. Сегодня это, скажем, борьба с хозяйственными злоупотреблениями. По просьбе народа, от имени народа, конечно. Вызывают про-
куроров, милицейское начальство, судей. Те, конечно: «рады стараться!» И полетели головы председателей колхозов, директоров заводов, всех, кто чуть-чуть думает о простых людях, кто умеет крутиться, короче, настоящих хозяев. Штампуются приговоры, люди в панике... Рыба покрупнее рвет сети — законы писаны не для нее, вернее, эти киты сами и пишут законы...
— Закончили дискуссию, Сороко. Думайте о себе,— перебил Прошкин.
—...Или вот — борьба с пьянством. Бывшие алкоголики или закоренелые язвенники решили «оздоровить» общество. Снова прежний ритуал: постановления, указания так называемому правосудию — машина закрутилась. Без устали работают милиция, прокуратура, не успевают разбирать сфабрикованные и надуманные дела суды. Порок не лечится, а загоняется внутрь, но на это наплевать — маховик вращается. Пока «мозг класса» не надумается «осчастливить» еще чем-нибудь. Так что без работы наше родное правосудие не будет. Но сказать об этом — упаси Бог, жаловаться — бессмысленно...
— Вы правы, подследственный. К жалобам родителей Адамова вы отнеслись безобразно,— вернул меня на грешную землю Кирсанов.— Ни на одну из них вы не дали ответа по существу. Затем такими же отписками стал заниматься зам. транспортного прокурора Самохвалов, следом за ним — ваш куратор из прокуратуры БССР. А ведь никто из вас, подчеркиваю: никто, не имел права этого делать, ведь жаловались на ваши неправильные действия. Вот так-то, теоретизируете, а коснется дела, и красноречие пропадает...
— Почему же... Следствие должно быть независимым, прокуратура осуществляет надзор. Тогда все станет на свои места.
— Да, великий вы реформатор. И слова вроде правильные произносите, только на практике делаете, вернее, делали наоборот. Так что реформы, пожалуй, будут проводиться без вашего участия.
— Кто знает, кто знает... Еще не вечер, как говорят...
— Не пижоньте. Вы не мальчик, чтобы не понимать: ваша песня спета. Как вы могли убедиться, мы поработали серьезно. В отличие от вас, не стали искать никаких «подпорок», подстраховочных улик. Хотя (не вас учить!) это элементарно просто: сделать у вас дома обыск, найти какой-нибудь патрон или, скажем, нож... Эксперт относит его к холодному оружию... Статья готова, не так ли? А мы даже обыска у вас не делали...— Прошкин пытался изобразить благородство.
— И на том спасибо. Хотя семья и так задергана...
— Продолжим все-таки о ваших методах работы. Когда увидели, что дело Адамова начинает рассыпаться, состряпали обвинение в продаже земляного грунта, хотя земля, в данном случае, стоимости не имеет, ее никто не оценивал.
— А строительный песок? Ведь он соответствует определенному ГОСТу, на него есть прейскурант...
— Чтобы это утверждать, нужно заключение экспертизы. У вас оно было?
— Песок использован покупателями, он в фундаментах, где угодно... Какая тут экспертиза...
— Значит, нет и доказательств, что песок именно строительный. Ваши аргументы в этой части и рассыпались, как песок,— скаламбурил Прошкин.
«Ничего, этот песок я попробую превратить на суде в бетонную плиту, которой прищемлю твой хвост»,— подумал я, не желая заранее выворачивать свой «загашник».
— Хорошо смеется тот, кто смеется последним,— не остался я в долгу, будто состязаясь с Прошкиным в остроумии, хотя, по правде говоря, мне было не до шуток. Единодушие всех трех следователей, их безразлично-спокойная манера разговора, лишь изредка выстреливающая начальственным окриком, даже своего рода откровенность — все это настораживало. Чувствовалось, что обвинительное заключение они согласовали во многих инстанциях, даже, может быть, и в суде. Отсюда и снисходительность, и желание подискутировать — дело сделано, почему бы и не расслабиться...
Но... «что положено Юпитеру, не дозволено быку», как говаривали древние. У них сейчас своего рода отдых, а мне надо накапливать силы для защиты.
— У меня прямой вопрос,— обратился я к Прошкину.— Не могу избавиться от мысли, что у вас ко мне какая-то личная антипатия. Чем она вызвана, понять не могу...
— Слишком хорошо о себе думаешь... Да я тебя впервые на допросе увидел,— пренебрежительно перешел на «ты» Прошкин.— Не такая уж ты важная персона, чтобы я испытывал к тебе какие-то особые чувства. Ты — подследственный, я — следователь. Вот и все, что нас временно связывает...
— Разрешите не согласиться. Расследование об убийстве Кацуба я вел под руководством Самохвалова, он сам провел несколько допросов Адамова. Отчитывался я перед начальником отдела Ковшаром, затем доследование вел Казаков. В конце концов приговор выносили судьи! Никто меня не поправил, никто не высказал недоверия. Но против них уголовное преследование прекращено, чему — честное слово — я рад. Они невиновны, как и я... Только вот я в камере, ожидаю суда...
— Совершенные ими деяния к настоящему времени перестали быть общественно-опасными,— не задумываясь, процитировал Андреев.
— Будь моя воля, я бы и их рядом с тобою на скамью посадил.— У Прошкина было свое мнение на этот счет.— Да вот начальство посчитало, что и так слишком многие проходят по делу. Хотя эта формулировка — «перестали быть общественно-опасными»— фиговый листок, не более, за которым спрятана грубая следственная ошибка.
— Но это палка о двух концах: следствие походя обвинило человека, а потом вроде бы сжалилось — ладно, мол, не до тебя. Печать нарушителя закона, почти преступника, есть, а вот доказать в суде, что ты, как говорят, не верблюд, нельзя — дело прекращено. А последствия, они тут как тут: увольнение с работы, понижение в должности, партийные неприятности... Куда же смотрит Закон?
— У вас будет время хорошенько обдумать судебные законы. После можете предложить новую их редакцию,— съязвил Андреев.
— С вами советоваться не стану... Вам из Свердловска в Тагил ближе, не зарекайтесь!
— Ого!
— В отличие от вас я никогда не был бездушным роботом. И о своих бывших коллегах вспомнил не потому, что желаю видеть их рядом с собой, а потому, что даже по отношению к ним вы поступили несправедливо. По сути, дали возможность злым языкам, недоброжелателям сплетничать по углам: выкрутились, мол, «замазали»... Это еще в Российской империи была такая формулировка: «оправдать, но оставить под подозрением». Они невиновны — так и пишите: «Состав преступления отсутствует». Так нет, надо плеснуть помоями...
— Что же, лучше направить дело в суд, пусть срок получат?
— А почему вы за судей решаете? И мне уже восемь лет «выписали», а может, меня оправдают?
— У вас же хорошая память. Вспомните, много ли оправдательных приговоров вынес Верховный суд БССР?
— Мозырское дело, теперь вот Витебское...
— Эти аргументы не в вашу пользу. Одних оправдали, другие займут их место... Тем более, что судьи, как вы догадываетесь, не очень к вам будут расположены. Из-за вас пострадали их коллеги из Витебска, члены Верховного суда БССР. Хотя, конечно, я это зря вам говорю...
— Спасибо за откровенность. Но это я и сам знаю. Однако сдаваться не собираюсь.
— Закон предоставляет вам право на защиту. Наша же обязанность, в данном случае, доказать, что вы виновны. Поскольку наши дороги скоро разойдутся, суммирую все, изложенное в нашем обвинительном заключении. Вы положили в основу обвинения Адамова лишь его собственное признание, добытое противоправным путем. Никакими другими материалами ваши выводы не подтверждаются. Значит, вы сознательно и предумышленно придали следствию обвинительный уклон, чтобы достичь желаемого результата, преследуя при этом корыстные, карьеристские цели. Более того, вы опорочили нашу правоохранительную систему, убеждая Адамова, что его ожидает только обвинительный приговор. Вы вступили с подозреваемым в сговор, обещав ему в обмен на признание вины сохранить жизнь, запугав возможностью расстрела. Так что букет совершенных вами преступлений настолько пестр и пышен, что надеяться на оправдание в суде вряд ли стоит. Своим же отказом от дачи показаний вы усугубили свое и без того тяжелое положение. Косвенно вы лишь еще раз подтвердили, что в органах правосудия вы — случайный человек.
Эту отрепетированную, видимо, заранее тираду Прошкин произнес традиционным прокурорским тоном. Наверное, он представлял себя в зале Верховного суда, на трибуне, и что внимают ему многие сотни людей. Громоподобный голос, огромная фигура, обкатанные безликие слова — он и в самом деле олицетворял собою в те минуты все наше правосудие, перед которым человек с его правами и интересами — ничто, главное — охрана системы, которой верно служит советская Фемида.
...Не помню, кто из мудрых сказал, что надо расстаться с человеком, чтобы ощутить, как он тебе дорог. Наверное, в этом есть много жестокого, но мудрец, к сожалению, прав. Счастье воспринимается, как должное, забота — как обязанность, доброта — как слабость, любовь — как Богом данное. Моя изоляция от близких — я был под следствием и ждал суда в изоляторах КГБ и МВД — была, конечно, самым трудным испытанием. Понимаю, что я совсем не оригинален — об этом написаны многие тома художественных и документальных книг. Но это — истинная правда, а правду, я уверен, надо повторять вслух как можно чаще. Бог не даст солгать: каждый день, каждую ночь я разговаривал с I женой — Людмилой, с дочерью — Инночкой. Можно назвать это сентиментальностью (после в одной газете меня назовут «человеком-танком»), но мне в тюремной камере казалось, что стоит услышать дыхание дочки, взять ее полусонную на руки, поцеловать ее теплый нос — и все беды пройдут...
Полную зависимость, чувство полного бесправия испытал я на свидании с женой. Такая удача вообще-то редко выпадает обитателям СИЗО. Привилегиями пользуются там работники хозбригады — это несколько десятков человек; старшие в камерах малолеток, отбывающие наказание таким образом; по усмотрению следователя могут разрешить свидание и подследственному; иногда может посчастливиться и перед этапом на зону. Ни к одной из этих категорий в конце марта 1987 года я не относился и потому даже растерялся, когда работник изолятора сказал мне собираться на свидание. Гардероб мой состоял из костюма и трех рубашек, переданных мне раньше женой, хранился в специальной кладовой. Накануне я с грехом пополам побрился, кожа на лице была багровой, воспалилась, и я долго выбирал сорочку, чтобы она хотя бы чуть-чуть скрадывала мой болезненный вид.
— Будто в ЗАГС собираешься,— поторопил меня сопровождающий.— И так сойдет...
Длинные, кажущиеся бесконечными коридоры и переходы, перекрытые железными дверьми. Перед каждой из них я поворачивался лицом к стене, и мой спутник гремел связкой ключей. Иногда где-то срабатывала сигнализация, и лишь после ее отключения мы следовали дальше. По пути встретили несколько таких же неразлучных пар — заключенный и сопровождающий. Знакомая уже процедура: я или мой товарищ по несчастью поворачиваемся к стене... «Ни взгляда, о друг мой, ни звука...»
И вот наконец обитая дермантином дверь, за ней — довольно большая светлая и прохладная комната с зарешеченными окнами. Длинный, метров 4—5 стол, разделенный надвое толстым оргстеклом. Перед столом, с интервалом в метр, наглухо вмонтированные в пол табуретки; в столешнице отвсрс I им, своего рода переговорные устройства — одновременно и микрофоны, и усилители звука.
В противоположной стене открывается дверь, и я вижу взволнованное и растерянное лицо жены, Людмилы. Мы будто слепые идем по обе стороны длинного стола, натыкаемся на свободные табуретки, автоматически опускаемся на них и доли» не можем вымолвить ни слова. Первым справляюсь с нервами я и спрашиваю о здоровье мамы, дочери... Она успокаивае г меня, а сама, глядя на мое похудевшее лицо, на запавшие глаза, беззвучно плачет. Ни дотронуться до родной руки, ни вытереть слезы — между нами массивное, будто бронированное, стекло, рядом, в одном шаге, работник изолятора. И как-то стесняешься произносить нежные слова в присутствии чужого человека, тем более — в намозолившей глаза форме. Долгими бессонными ночами я тщательно строил фразы, предложения, десятки раз переделывая их, чтобы сказать и узнать о главном, подбодрить близких людей, поднять их дух. Позже Людмила рассказывала мне, что и она не раз репетировала сцену свидания со мной, но... все перечеркивала казенная тюремная обстановка. Мы обменивались какими-то ничего не значащими сведениями, уточняли второстепенные детали, постоянно перебивали друг друга... Положенный по инструкции час пролетел незаметно, и когда охранник объявил, что свидание окончено, я с недоумением посмотрел на него: «Неужели все?» Он выразительно щелкнул по циферблату наручных часов и приказал вставать. Дорога назад с остановками у закрытых дверей, с поворачиванием к стене показалась вечностью, ноги будто налились чугуном, в висках непрерывно стучали невидимые молоточки... Давило сознание, что так мало успел сказать, что не смог скрыть свою растерянность, что добавил тревог... Угнетала мысль, что приходится возвращаться в опостылевшую камеру, где встретят те же мрачные стены, спертый воздух и, чего греха таить, надоевшие до чертиков юнцы — каждый со своими фокусами. Да, мелькнул на мгновение светлый лучик — и погас, вновь вокруг вязкая и липкая мгла.
...На плечи огромной тяжестью легла неизвестность, неопределенность. В килограммах, тоннах на квадратные сантиметры эту не поддающуюся точному определению тяжесть измерить нельзя. Давил свет электрической лампочки — безжалостный, круглосуточный, не дающий ни секунды остаться наедине с собой. Меня не покидало ощущение, что за мною постоянно наблюдают — нет, не юные сокамерники, они засыпали быстро; кто-то неведомый, выше моего понимания, кто старается подавить во мне все личное, сокровенное или, может быть, вывернуть меня наизнанку. Я чувствовал на себе чужой взгляд, когда снимал штаны, укладываясь спать, когда отправлял малую и большую нужду, когда читал книгу... Мне казалось, что подслушивают, подсматривают даже мои сны, в которых я ласкал жену, целовал свое последнее сокровище, свою кровиночку — дочь...
Даже в молитвах моих, обращенных к Богу, покаянных мольбах к маме постоянно, помимо моей воли .присутствовал некто чужой.
Месяцы заточения — это месяцы тяжелой болезни. И самое странное, что в этом мучительном процессе все вывернуто наизнанку, поставлено с ног на голову. В больнице лечат, а здесь, в тюрьме, зачастую доводят болезнь до логического финала — смерти. Пусть даже не до физической (лишние трупы в СИЗО не нужны), но морально человека низводят в изоляторах до ничтожества. Вонючий воздух, ржавая вода, особый хлеб, выпекающийся неведомо где, гнилые огурцы в миске с баландой — пропорции и дозировки всей этой адской кухни были рассчитаны до граммов в какой-то людоедской лаборатории Дьявольского научного института. Роль подопытных кроликов выполняли в этом бесчеловечном эксперименте мы, живые люди — еще не определенные судом, как преступники.
Сила усталости начинала гасить, давить во мне противоборствующее начало. Многомесячное сопротивление, которое держалось на вере в торжество справедливости, теряло опору. Пока я возражал, боролся, спорил, порою отвечал хамством на хамство Прошкина, жила надежда, хотя и призрачная, что кошмар окончится, что однажды в камеру зайдет прокурор по надзору и скажет элементарную фразу:
— Валерий Илларионович, Вы свободны. За воротами Вас ждут жена и дочь... Виновные в Вашем незаконном аресте будут наказаны.— Причем все обращения на «вы» будут не казенными, а именно такими, к которым я привык, какие положены в нормальной человеческой жизни.
Но просыпаясь среди ночи, я видел те же глухие стены, ту же решетку на окнах, дышал той же вонью от унитаза. Закрывал глаза и с отчаянием думал, что никому в этом крохотном застенке не могу рассказать правду, ни у кого не могу попросить совета... Даже самые спокойные, самые неиспорченные пока сокамерники, узнай они, что я их враг — следователь, окрысились бы без всяких раздумий. И начхать им будет на мою доброту, на попытки защитить слабого. Одно упоминание о том, что я — «мент», превратило бы мою жизнь в кошмар. Я и так с трудом отбивался от их назойливых вопросов, отделываясь туманно-многозначительными фразами:
— Дело у меня запутанное, много неясностей. Обстоятельства выясняются и скоро выяснятся. Не каждый следователь может разобраться....
Не привыкший никогда и никому лгать, считавший ложь первопричиной всех зол и несчастий, в камере я вынужден был изворачиваться, хитрить, обманывать. Наверное, в этом заключается еще одна задача нашей системы так называемого перевоспитания — отучить людей от искренности, от честности, от порядочности.
...Дни ожидания казались бесконечными. «Сколько понадобится Верховному суду БССР, чтобы ознакомиться с тридцатью томами нашего дела? Кто будет судьей? Как настроены «верха»?» Эти и десятки других, более мелких проблем не давали отдыха измученной душе. «Тридцать дней, наверное, будет достаточно... Жалеть нас вряд ли будут... По нынешней версии мы подвели судей под монастырь. Подсунули, так сказать, скользкое дело Адамова. Значит, попробуют рассчитаться с нами, со мной. Но, одновременно, не последний же день они живут на свете?! Пропустят «липу» Прошкина, а завтра их снова к ответу?.. Как это так, граждане судьи?.. Вы что, в прокуратуре СССР служите, зарплату там получаете?.. Вы что, не можете отделить плевела от зерен, в двух соснах заблудились?.. Во имя Закона нельзя творить беззаконие!..»
Мучительные сомнения прервал в один из дней неожиданный вызов к воспитателю СИЗО.
— Ознакомьтесь!— Он протянул мне несколько машинописных листов.
Бегло, по диагонали, попытался уловить суть бумаги... Сердце екнуло: вот оно! Наконец-то свершилось! Нашлись умные люди и разобрались, поняли, увидели, что все навороченное против меня — сплошной бред. В определении Верховного суда БССР, которое дали мне для ознакомления, значилось: «расследование дела проведено некачественно, доказательства по многим эпизодам обвинения неубедительны». И решение — «отправить дело на доследование». Подумалось: ткнули Прошкина и его подручных рылом в собственное дерьмо. Дурно пахнет ваша стряпня, господа!..
В камере эйфория начала улетучиваться. «Доследование — это лишние дни в этих стенах! Недели две, а то и три на это уйдет. Значит, неизвестность остается. А главное — кому поручено доследование, кому доверили разбирать завалы, навороченные Прошкиным?..»
Поручили... самому Прошкину. У меня язык отнялся, когда контролер привел на допрос, открылась дверь, и я увидел жирную физиономию своего врага.
— Вот видишь, никак мы с тобою расстаться не можем,— как ни в чем не бывало, деловито приветствовал он меня.— Суд говорит, что малый срок мы для тебя просим. Потребовали добавить...
«Рано или поздно окончится все это,— думал я, пока Прошкин перелистывал какие-то бумаги, делая вид, что ищет в них нечто архиважное.— Минует кошмарное время, выйду на волю. Встречусь с этим питекантропом, обязательно встречусь... Интересно, сможет ли он посмотреть мне в глаза?.. Испугается?.. Сделает вид, что не узнал?.. Трусливо бросится наутек, вопя, чтобы его спасли от уголовника?.. Предложит распить бутылку коньяку?.. А если его к тому времени выгонят со службы?.. Он может зашиться в какую-нибудь заштатную контору, будет протирать штаны, боясь, чтобы никто не узнал, сколько подлостей на его совести... Найти, плюнуть в жирную харю?.. Дожить бы до той минуты!»
— Ну что ж, начнем сначала, Сороко!
Прошкин вошел в прежнюю роль, и я вдруг ощутил, что я для него — нуль, пустое место. Его абсолютно не интересует, кто перед ним, ему безразличны мои доводы, аргументы, ему все равно — прав я или виноват. Он выполнял приказ, точнее — заказ, и отойти от требований заказчика не может. Он взял аванс, надеется на щедрый расчет, а остальное мелочи, которые не стоят и гроша. Сороко перед ним, Иванов ли, Петров — любой, на кого ему укажут, на кого натравят, станет виновным. Глухая ненависть к Прошкину, которая зародилась еще на первом, казалось бы, невинном допросе, разгоралась все с большей и большей силой. Я не мог примириться с тем, что мне не верят, что нагло «шьют» абсурдные эпизоды, что моя судьба, судьба честного человека, зависит от прихоти какого-то Адамова... Не верит или не хочет верить Прошкин, не верят еще недавно уважаемые мною руководители прокуратуры БССР, не верят бывшие товарищи по партии... (Хотя в те дни я сам еще верил в силу и справедливость партийной власти.) Порою мне казалось, что, попади моя жалоба на стол к истинному партийцу- большевику, и вся пирамида лжи рухнет в одночасье, И несправедливость будет сурово Покарана; не сдобровать тем, кто слепо и тупо выполняя чьи-то указания, выслуживаясь, стряпал дутые дела и штамповал нелепые обвинения.
— Не витайте в облаках, Сороко, спуститесь на грешную землю!
— Если земля грешна, то только из-за таких, как вы!..
— Ого, как ты поумнел за эти полгода.
— Дурнее не был... Можно встречный вопрос, гражданин следователь?
— Только один.
— Почему доследование ведете вы? Насколько я понимаю, Верховный суд БССР поставил под сомнение ваш профессионализм. 1 Іалйцо явный брак в работе. Не стыдно? За это обычно по головке не гладят...
— Молод еще меня учить!— Прошкин вновь глыбой вырос над столом.— Молоко на губах не обсохло, а умничать начинаешь...
— Все-таки где справедливость?.. Дело Адамова доследовал не я, а другая следственная бригада... Ради объективности. Так принято, вы знаете. А у вас столько нестыковок, так лезут «уши» из каждого эпизода, а доследование — опять-таки в ваших руках. Как это понять?
— Был бы умнее, давно бы понял.— Прошкин опять открыто хамил.— То, что я тебе обещал, будет. А доследование еще добавит. Я свою работу знаю, не в пример тебе. И запомни: приговор будет по моему обвинению. От меня так просто не уходят. Не надейся, мой бывший коллега.— Последнюю фразу он произнес с явной издевкой, сам не зная того, что я ни разу за все наши долгие «свидания» даже в бреду не позволил себе назвать его юристом, стражем законности, просто — человеком. Простите за грубость, даже нужду отправлять с ним рядом было бы для меня противно.
— Тебе же хуже. Еще раз повторяю: ты идешь «паровозом», просто так я тебя не отпущу. А твои комариные укусы мне — мелочь. Я толстый, как видишь!— И Прошкин самодовольно рассмеялся.
Знакомый охранник отвел меня в камеру. Беспросветная жизнь, как ни странно, продолжалась, и противопоставить ей я мог только свою выдержку, волю и отчаянную веру, что правда должна восторжествовать...
Будто в липкой паутине, которая парализует не только всякое движение, но даже и мысль, пробыл я в СИЗО Минска восемь месяцев. Судьба свела меня за это время более чем с десятком несовершеннолетних преступников. Юрка — Сопливый, Сергей — Лопоухий, Олег — Бегемот, Владимир — Шустрый, Димка — Красавчик, Василь — Шакал, Андрис — Котис, Валера — Лис, Владимир — Мастер — эти да и многие другие юнцы с исковерканной судьбой делили со мной скудную тюремную пищу. С некоторыми бывали конфликты — на меня бросались с ножами; хотя и грех в этом признаваться, иных приходилось учить кулаком. Кого отправили на зону, кому посчастливилось вернуться домой, кто остался в вонючей камере ожидать решения своей судьбы...
С надеждой на справедливость, а больше опять-таки на Бога, покинул я камеру. Восемь месяцев провел я в этих сырых глухих стенах; каторжных, кошмарных двести сорок пять дней. Но, как это странно ни покажется, уходил я из этого каземата, тысячекратно проклятого, с непонятной тоской. Ведь впереди была полнейшая неизвестность, и кто мог сказать, в какую конуру меня загонят завтра, в каком застенке придется мне провести следующую ночь.
Тяжелым было и прощанье с юношами.
— Всех благ вам, дети мои,— с трудом проглотив комок в горле, ответил я, навсегда покидая унылый и мрачный приют.
В так называемом отстойнике, где мне пришлось ожидать отправки на этап, неожиданно увидел... Ивана, моего недавнего сокамерника. Обрадовались, будто родные.
— Плохо дело, старшой. Три года впаяли.
— Быть не может, Иван...
— Я и сам до сих пор не врубился, за что. Ну, побились, ну, забрали магнитофон, так отдали же. И мне, и подельникам на полную катушку. Судья, как змей... Ничего слушать не захотел.
— Подавай жалобу...
— Гори оно все синим огнем... Это менты, гады, отомстили. Те, которые мне хотели машины подсунуть, будто я угонял. Надо было соглашаться, может, меньше дали бы...
— Нет, Иван, лучше правду всегда говорить. Зачем тебе чужие грехи. Вот за свои ответишь и вернешься домой. Ты парень нормальный, у тебя все будет хорошо.
На такой оптимистической ноте я расстался с ним, хотя у самого скребли на душе кошки. Мне предстоял этап в Ригу, куда Генеральный прокурор СССР направил дело по моему обвинению. Это был очередной тактический ход власть предержащих, и теперь мне предстояло держать ответ перед Верховным судом Латвии.
Чужая сторона, чужие люди, чужие законы...
Вагон столыпинский, этапный
Своя рубашка
Знакомые незнакомцы
Рижский централ
Вечером, когда уже совсем стемнело, закрытые машины, «воронки», доставили этап к поезду. Солдаты внутренней службы с автоматами наготове, рвущиеся с поводка овчарки... Старший конвоя привычно объявил:
— Все команды выполнять беспрекословно. Шаг назад, шаг вперед, шаг в сторону будет считаться побегом. Стреляем без предупреждения.
По команде сели на сырую землю. Дул сильный ветер.
Он был сильным и порывистым, гудел и свистел не только в проводах и трубах зданий, но даже в ушах. Шел бесконечный, моросящий, набегающий волнами не по-летнему холодный дождь. Нас, группу арестованных, только что выгрузили из спсцмашины-«автозака». Облегченно вздохнув, я попытался расправить плечи, размять затекшие ноги. В металлическом отсеке спецмашины было очень тесно, низкий потолок не позволял выпрямиться даже человеку среднего роста. К тому же охранник-солдат постоянно смотрел в глазок и малейшую попытку встать пресекал грозным окриком: «Сидеть тихо!»
На привокзальной улице было темно. Только у места выгрузки неярко светили уличные фонари, в их лучах косые нити дождя то расширялись, то сужались пучками перламутровой пыли. Невдалеке поблескивали рельсы железнодорожных путей.
Я стал оглядывать окрестности, пытаясь сообразить, куда нас привезли. Подъездные пути вокзалов и многих близлежащих станций мне были знакомы; не раз пришлось побывать на них или, по крайней мере, разглядывать их проездом из окон электричек. «Ага, это станция «Минск-Вос- точный». Видно двенадцатиэтажное здание СКВ»,— сообразил наконец и обрадовался я. В этом здании мне приходилось бывать лет пятнадцать тому назад, когда, работая на заводе, носил туда чертежи для корректировки... Внезапно раздавшийся рядом громкий окрик прервал мои воспоминания и вернул на землю: «Не вертеться! Смотреть прямо перед собой! Быстро и беспрекословно выполнять все команды караула!»
Прибыло еще несколько спецмашин с арестантами. И теперь нас выстраивали в колонну, состоящую из семи или восьми шеренг по восемь человек в каждой. Со всех сторон слышались громкие команды охранников.
Осторожно оглядывая собравшуюся публику, пытаясь увидеть кого-либо из знакомых, я прикинул, сколько нас, невезучих, набралось. «Примерно 55—60 человек»,— успел только подумать я, как услышал зычную команду: «Десять шагов вперед!». Лейтенант военной охраны командирским голосом обратился к нам: «Вы поступили в распоряжение караула. Обязаны неукоснительно исполнять все его команды. Любое неподчинение: шаг в сторону, нападение на караул будут рассматриваться как попытка к бегству. Оружие применяется без предупреждения. А сейчас — всем сесть. Сидеть, держа руки за спиной. Всякое движение запрещено!»
Арестованные недоуменно посматривали то на мокрую, усыпанную щебнем площадку, то на офицера. Но команда есть команда, ее надо выполнять, и почти каждый выполнял ее по- своему: кто-то стал на колени, кто-то сел, поджав под себя ноги, а кто-то просто присел на корточки. У меня в руках было два целлофановых мешка с вещами, поэтому я положил их на землю и сел на них. Струйки нудного дождя текли по лицу и скатывались за воротник. Хорошо, что на голове у меня была шляпа, а тело прикрывал плащ из искусственной кожи. Они-то во многом спасали меня от дождя. Большинство же арестованных было без головных уборов и плащей: преобладали легкие куртки и даже рубашки. Все уже давно промокли до нитки. «Да, не сладко зэкам живется»,— мелькнула у меня банальная мысль. Рядом со мной на коленях стоял широкоплечий парень лет двадцатипяти в летней тенниске-безрукавке. Он наклонил голову и, низко пригнувшись к земле, дрожал мелкой дрожью, как осиновый лист на ветру. По лицу, спине и груди его струилась вода. Можно было догадываться только, какими молитвами поминал он начальство и свою злосчастную судьбу, угрюмо уставившись в землю. Изредка он шумно фыркал губами, стремясь избавиться от соленых капель дождя, густо скапливавшихся у рта. А время будто остановилось. Сколько нам ждать под дождем, никому, кроме Бога и караула, не известно. А спрашивать нам не полагалось...
Вокруг неподвижно застывшей группы выстроилось оцепление солдат с автоматами наизготовку. На небольшом удалении от нас также виднелась вооруженная охрана со служебными собаками на поводках. Специально натасканные мокрые овчарки равнодушно и безучастно глядели на нас, но по первой же команде своих хозяев они преобразятся в яростных хищников, мощным, стремительным броском кидающихся на указанную жертву.
Тишину дождливой ночи нарушал лишь свист ветра да кашель, хрипы отверженных жизнью людей...
По ближнему пути пронеслась, не сбавляя хода, электричка. В ее окнах виднелись профили свободных людей. Какое это было бы счастье — оказаться вместе с ними! Не слышать этих унизительных и презрительных окриков! Неужто и моим мучениям настанет конец? Когда? Как-то решит и решит ли мою судьбу Верховный суд Латвии?.. Сомнительно. Вот — родная республика, а как холодно и равнодушно провожает она меня... Сколько раз бывал в этих местах, но никогда, даже в страшном сне не снилось, а тем более не думалось, что придется сидеть неподвижно под дождем да еще под дулами автоматов... Эх, жизнь-жизнь, что же ты сделала со мной?..
Вдруг впереди во мгле закружился неяркий сноп лучей. Оказалось, что это солдат-наблюдатель сигналил круговыми движениями карманным фонариком. Снижая скорость, прибыл поезд. Один из неосвещенных вагонов остановился прямо напротив нас. Солдаты тут же выстроились перед его дверьми, образовав живой коридор, по которому мы по команде по одному проходили в вагон. Озябшие, промокшие и злые, поднимались арестованные по ступенькам. Когда очередь дошла до меня, я встал и, на мгновение пошатнувшись на онемевших от долгого сиденья ногах, побрел к вагону. Стоявший у входа солдат подтолкнул меня сзади и помог забраться с вещами в тамбур. Другой повел по узкому коридору в нужное купе. Усевшись на место, я осмотрелся. Купе отделяла от коридора металлическая зарешеченная дверь, на которой снаружи болтался огромный амбарный замок. Нижние две полки были как в обыкновенном пассажирском вагоне, верхние же представляли сплошной настил во всю ширину и длину купе с небольшим проемом посредине, чтобы «пассажир» мог подняться наверх. «Для увеличения посадочных мест. Там, наверху, очевидно, может разместиться до десяти человек»,— сообразил я. Купе заполняли все новые заключенные. Некоторые из них, деловито осмотревшись, лезли наверх занимать «спальные» места.
— Сейчас тронемся. Заморозили, собаки!— зло проворчал усаживающийся рядом со мной мужчина средних лет, снимая пиджак и стряхивая с него воду.
— А кто зэка за человека считает?— язвительно подхватил другой.— На зоне в мороз всех выгоняют на улицу и часами держат, выясняя зачинщиков каких-либо беспорядков. И работу дают самую тяжелую, а половину выработки «хозяин» забирает. Помню, пять лет назад в Сибири лес валили. С утра до ночи — по пояс в снегу, мокрые, голодные. Ни обсушиться, ни согреться, ни пожрать нормально...
— Оно и я горя хлебнул, хотя и не на Севере. В Средней Азии отбывал. Там — сорок градусов жары, а мы на хлопковой плантации, не разгибая спины, пашем. На голове — теплая шапка, рубашка и штаны — мокрые от пота. В горле все пересыхает. Солнце так жжет, что некоторые в обморок падают, а у других через рубашку кожа сгорает, потом клочьями сползает...
— Да, черт. Невеселая наша жизнь,— вставил слово третий...
Так постепенно завязался дорожный разговор. Потом начались знакомства, поиски общих «корефанов»...
Поезд медленно тронулся, постепенно набирая ход. Я в тепле вагона понемногу приходил в себя, освобождаясь от сковывающего озноба. В разговор не вступал, задумался, но сам не понимал, о чем. Бывает такое тяжкое, подавленное состояние ума и души, когда, кажется, думаешь, а спроси — о чем, и сам себе не ответишь...
Как-то механически, апатично-безразлично, хотя и внимательно, слушал я разговоры попутчиков. Устроившись на месте, снял шляпу и плащ; засунул все в целлофановый мешок. Я, конечно, заметил, что добротный штроксовый костюм и туфли на застежках-молниях выделяли меня среди других арестованных. Большинство было одето небрежно, кто во что горазд. Одни — в темные хлопчатобумажные костюмы, многие — в видавшие виды пиджаки и брюки, отличавшиеся друг от друга лишь расцветкой и фасоном. Этот контраст в одежде, как я вскоре заметил, сказывался и на отношениях внутри бокса. Обратил я внимание и на то, что ко мне никто не лез с вопросами, зато иноща я замечал на себе косые любопытные и очень выразительные взгляды, которые можно было понимать так: «Попался, гусь. Не из простых, видать, зэков». В купе преобладали ранее судимые, прошедшие жестокую школу тюремной жизни. Некоторые неоднократно испили из ее чаши, многие пригубили вторично. «Публика пестрая... Неужели всю дорогу придется ехать с ними? Как бы неприятности какие не произошли. Конфликт ведь может возникнуть из-за пустяков... Всякое бывает. По идее, меня должны бы везти отдельно. Но открыто нс попросишься же у охраны: попутчики сразу поймут, кто я такой. А это неизвестно, как обернется»,— размышлял я. На прежней следственной работе мне приходилось неоднократно читать сводки о различных уголовных преступлениях в этапных вагонах: избиениях, мужеложстве и даже убийствах. Определить, кто я среди них, очень просто: стоит только заглянуть в мой мешок, на дне которого лежат конспекты по делу. Скоро полночь, пора укладываться спать. А ночью-то как раз самые безобразия и творятся... Тусклый свет частично освещал узкий коридор, по которому размеренно ходил солдат из азиатов, на форменном кителе которого выделялись погоны красного цвета с желтыми буквами «ВВ» — «внутренние войска». Проходя мимо камеры, он узкими глазами-щелочками периодически заглядывал в зарешеченные клетки, чтобы определить, что там происходит. В разговоры ни с кем не вступал. Отдельные попытки наиболее шустрых заключенных вступить с ним в контакт пресекал резким окриком: «Малчат!» Поздно ночью, когда многие пассажиры уже улеглись спать, за решетчатой дверью купе вдруг возникла фигура с погонами прапорщика.
— Кто здесь Сороко?— выкрикнул он, глядя в раскрытую папку, очевидно, мое личное дело. Я вскочил.
— С вещами на выход!— последовала команда. Дверь отворилась, и я отправился следом за прапорщиком в конец вагона. Меня поместили в такое же, но пустое купе с металлической зарешеченной дверью и амбарным замком на ней. Вскоре я услышал, как выкрикнули знакомую фамилию: «Кирпиченок!» Вскоре по коридору прошагал прапорщик, а за ним — мой подельник. За стенкой загремел замок, хлопнула, открылась, а затем закрылась дверь. «Значит, его поместили рядом»,— обрадовался я. Мы с Кирпиченком не виделись уже восемь месяцев: с тех пор, как меня заключили под стражу. Валерия арестовали на месяц позже, об этом я узнал из материалов дела, при ознакомлении с постановлением о заключении под стражу, датированным декабрем 1986 года. Когда арестованные сидели под дождем в ожидании поезда, я видел его сзади себя, но в другом ряду и сбоку. Тот печально смотрел вперед, плотно сомкнув тонкие губы, очевидно, тяжко задумавшись. Несколько раз мы перекинулись взглядами, молча, стараясь быть незамеченными, кивнули друг другу. И вот мы рядом, через стенку слышно дыхание, шарканье ног. Улучив момент, когда курсирующий по коридору солдат-охранник удалился в дальний конец вагона, я спросил подельника:
— Валерий, как настроение?
— Хреновое! Везут, и не знаем, что ждет нас впереди, в чужой стороне...
— Не вешай нос. Знаешь пословицу: что ни делается в этом мире, все — к лучшему. Может, и нам повезет. Всюду есть люди.
Разговор прерывался, как только охранник проходил мимо нас и косился в нашу сторону. Как только он удалялся, мы продолжали нашу черезстеночную беседу:
— Уже скоро семь месяцев, как посадили, и пока ничего хорошего не видно. Быстрее бы все это кончилось! Надоело ждать...— Я услышал тяжкий вздох товарища.
— Что надоело, то надоело... А где наши Журба и Буньков?
— А их раньше нас недели на две увезли. Я узнал об этом из разговоров во дворике. Они теперь уже в Риге... А Волжснкова не арестовали. Знаешь?..
— Да, дело читал...
— Ну и долго же ты его изучал? Наверное, больше месяца?
— Почти полтора, с перерывами, 25 томов накопили. Наворотили столько, что черт ногу сломает. Еле разобрался, что к чему. Ну и накрутили, наглецы: все сплетни собрали в кучу. Многие показания потерпевших, свидетелей для меня по настоящее время — открытие. Ума не приложу, как они могли на меня такое наговорить?..
Опять воцарилось вынужденное молчание: подозрительно покосившись на нас, солдат прошел мимо...
— Да я и сам не пойму. На меня тоже столько всякого собрали, что не знаю, как и отвертеться. Из ничего сделали проблему и — преступника.
— Да, чего-чего, а грязи на нас вылили много, не знаю, отмоемся ли сразу? Но постепенно — должны. Истина одна, двух не бывает. За нее и надо бороться. Ты как настроен?
— Каяться, как Журба, не буду и нюни распускать не стану. Буду доказывать, что я не виновен. А там пусть решает суд.
Опять прошел мимо, медленно и тихо ступая, охранник.
— Ты жалобы писал?
— Всего две написал. Какой смысл? Бесполезно. Писал на имя Генерального прокурора СССР, чтобы возбудили дело на Адамова за оговор меня, и туда же — заявление с просьбой об отстранении от ведения уголовного дела, из-за их необъективности, Прошкина и Андреева. Дали отписку, что оснований не доверять этим следователям нет, а в отношении Адамова вопрос будет решаться во время доследования дела. Но и доследование прошло, а результат — тот же. Никто не вник и не захотел разобраться...
— Я тоже писал заявление и десятки жалоб Генеральному прокурору, в ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР на несостоятельность предъявленного обвинения, на тенденциозность следователей. Но в партийные и советские органы жалобы и заявления подследственных администрация СИЗО не направляет, а лишь тому органу, за которым ты числишься. Получается замкнутый круг.
— А почему?
Выждав, пока пройдет мимо солдат, возобновили разговор:
— Я был у начальника СИЗО на приеме. Он мне инструкцию-приказ показывал: направлять жалобы подследственных только тем, кто ведет следствие. И еще можно — прокурору, даже в закрытом виде, в запечатанном конверте. А так как наше дело ведет следственная группа прокуратуры СССР и срок содержания под арестом продлевал заместитель Генерального прокурора СССР, то нам жаловаться фактически некуда. Все письма поступают в тот же орган, на необъективность которого мы жалуемся. В этом плане дела наши — хуже некуда... Будем надеяться на установление законности в суде.
— Они и Верховный суд Латвии задавят: никто не хочет признавать своих ошибок. Да еще на таком уровне.
— Всякое может быть. Времена меняются. В стране идет перестройка. Вон какой резкий поворот сделала партия: летят с постов зарвавшиеся чинуши, независимо от их должностного положения. Бюрократизм, волокита, беззаконие все более пресекаются. Может, дойдет очередь и до наших обидчиков...
— Прекратить разговоры! Еще раз услышу — сообщу начальству,— раздался рядом грозный окрик охранника. На этот раз мы проморгали его приближение...
Пришлось укладываться спать. Да и время, очевидно, приближалось к полуночи. Положив плащ под голову, я снял только туфли и, не раздеваясь, лег на голую полку. Жесткость «спального» места меня не беспокоила, донимал пронизывающий купе сквозняк. Пришлось одеть пуловер, натянуть на ноги еще одни носки.
— Головой ложиться только к двери!— зло крикнул солдат-охранник.
— Дует же из двери: холодно...
— Отставить разговоры! У меня такой приказ.
Делать нечего, приходилось подчиняться. Но как только улегся, от сквозняка стала мерзнуть голова, потом начало знобить. Пришлось извлечь из мешка кожаную, с натуральной черной каракулевой опушкой, зимнюю ушанку. Натянул ее поглубже на голову, завязал тесемки под подбородком. И получил сразу две выгоды: голове тепло и стук колес почти не слышен. «Вот и пригодилась форменная прокурорская ушанка»,— улыбнулся я своим мыслям. А ведь когда их выдавали, многие работники прокуратуры были недовольны: не модно. Выдавались эти шапки на два года, но никто их не носил и не ценил. Стоила она по прейскуранту более пятидесяти рэ, а сбывали рыбакам да охотникам — за десять-пятнадцать.
— Э-э-э, разоспался!— почуял я слабый толчок в голову.— Вставай, подъезжаем!— по голосу я узнал вчерашнего прапорщика.
Быстро вскочил, с трудом разлепив тяжелые веки. Прислушался. Судя по быстрому, ритмичному стуку колес, поезд скорости еще не сбавил, а шел на всех парах. Я попытался размять одеревеневшее тело: потянулся и несколько раз присел. Крикнул в дверь, чтоб пустили в туалет умыться.
— Дойдет очередь — сходишь,— равнодушно взглянув на мое приплюснутое к решетке лицо, отозвался стоящий напротив сержант.
— По проходу следовать держа руки за спиной!— предупредил подошедший солдат, снимая замок с двери моего купе.
Освежившись холодной, приятно обжегшей лицо водой, я по привычке стал шарить по карманам в поисках расчески. Но вздрогнул от резкого окрика:
— Не мешкать! Не один: другие ждут. Выходи!
«Да, кончились времена, когда можно было не спеша собраться с мыслями»,— подумал я.
Оказавшись в купе, решил позавтракать. На дорогу всем арестованным выдали по буханке черного хлеба и по одной селедке. Механически достав паек, я вздохнул: «Не густо. Но в желудке — пусто. Надо заставить себя есть.» Хлеб и селедку резать, конечно, было нечем. Наивно было бы обращаться с этой просьбой к охране. Есть руки — ломай, зубами — жуй, рви, кусай. Хлеб нам выдали особой зэковской спецвыпечки: он быстро черствеет, становясь твердым, как камень, но, как ни странно, кислота его не только не уменьшается, а даже многократно возрастает. Прожевав каменный кусок хлеба, по привычке свободной жизни обнюхал селедку. Вроде без запашка. Попробовал есть — сырая, кажется, совсем не соленая и оттого безвкусная, как трава... До голод — не тетка, есть надо. Позавтракав, чем Бог и казна послали, я уселся поближе к зарешеченной двери и стал рассматривать коридор. Окна были сплошь закрашены желтой краской. Кое-где на стекле краска была процарапана, и сквозь эти просветы можно было заметить быстро мелькающие за окном деревья, столбы, строения. По коридору сновали солдаты, весело переговаривались между собой. «И солдатская служба для меня сейчас раем показалась бы,— невольно подумал я.— Отношения там совсем другие, да и для окружающих солдат — это не то, что зэк. Первому каждый встречный с удовольствием руку подаст, а от второго даже хорошие знакомые отворачиваются, в лучшем случае делая вид, что не заметили. Судьба... У каждого она своя...»
— Подъезжаем, приготовиться с вещами к выходу!— донеслась громкая команда.
Поезд стал потихоньку замедлять бег. Стук колес становился все медленнее и отчетливее. Наконец вагон несколько раз сильно дернулся и остановился.
Теперь в суматохе опять появилась возможность переброситься несколькими словами с Кирпиченком:
— Валера.
— Я здесь. Как доехал?
— Нормально. Куда это нас так быстро привезли?
— Может, Витебск? Солдаты упоминали в разговоре.
— Скорее всего! На родину, значит, попали. Да, не ожидал я приехать сюда в таком качестве.
— Это и моя родина: я же родился в Витебской области. Мать в деревне живет. Как она без меня мается, старушка? Уж скоро год, как сына не видела,— печально вздохнул я и почувствовал резь и влагу в глазах...
— У меня семья в Витебске: жена, сын. Мать рядом, возле города, живет. Не знают, что меня привезли, а то где-нибудь рядом стояли, обязательно прибежали бы, чтоб хоть мимоходом увидеть. Много дал бы я сейчас, чтобы с ними парой слов перекинуться. Как они там без меня — ума не приложу,— не менее печально говорил Валерий. Он часто заморгал и отвернулся, плечи его подергивались. Глядя на него и я чуть не расплакался, но превозмогая себя, постарался утешить его:
— Держись, казак — атаманом будешь. Все переживем, все пройдем. Не вечно же нам в конце-то концов сидеть?— Вплотную прижавшись лбом к холодному металлу дверной решетки, я пытался увидеть какой-нибудь знакомый ориентир, чтобы определить точно, где мы находимся.
— До двери не дотрагиваться!— прикрикнул, пробегая мимо, молодой солдат. В конце коридора я увидел еще несколько таких же молодых солдат. Затем появился офицер.
— Готовы?— спросил он.
— Так точно, товарищ лейтенант.
— Приготовились!— еще громче крикнул он. Теперь это уже относилось ко всем, находившимся в вагоне.
— Пошел первый блок!
Мимо меня прошли несколько арестованных с угрюмыми, помятыми после сна лицами. Потом — еще и еще. Дошла очередь и до меня. Идя в тамбур, увидел задний борт автозака, подогнанного к самой двери вагона, чтобы прямое площадки можно было прыгать внутрь машины.
— Смелее! Чего тянешь?!— торопил меня стоящий у выхода солдат.
Как только я вошел в тесную клетку одиночного отсека автозака, дверь его захлопнулась. Для надежности меня, кроме засова, опять закрыли на висячий замок. Рядом слышались голоса других арестованных, запиханных в такие же низкие и узкие отсеки-клетки. Оттуда потянуло папиросным дымком. Когда в машину вскочило несколько вооруженных солдат, в салоне зажегся свет.
— Прекратить разговоры, курить нельзя!— скомандовал один из них, старший по званию.
— Да брось, начальник, глотку рвать! Не взорвемся: не дети же мы.— Зычный голос доносился из левого блока.
— Отставить разговоры!
— А что ты с этими узкоглазыми чурками разговариваешь? «Мая твая не панимаить. Твая бэжить, мая стрыляить. Твая падаить — мая в отпуск едить>>,— острил грубый бас из соседнего отсека. Кто-то пискляво хихикнул, и стало тихо...
Заурчали моторы, по их шуму я догадался, что рядом стояли две автомашины. Задребезжав, моя автотюрьма рванула с места. Судя по доносившемуся снаружи шуму транспорта, ехали по центральным улицам города. На вынужденных остановках я отчетливо слышал мужские и женские голоса. За тонкой металлической стенкой спецмашины шла обычная, свободная жизнь. Закрыв глаза, я попытался представить эту сладкую жизнь, но никак не удавалось сосредоточиться и объединить в воображении отрывочные детали в целостную картину. Память подсовывала лишь отдельные, несвязные эпизоды: панорамы улиц, отдельные лица, виды транспорта, фасады и дворики домов... А все-таки, какое это счастье и наслаждение — быть независимым, идти, куда захочешь, делать, что душа пожелает... Встречаться с родными, друзьями, близкими, не опасаясь постоянно следящего за тобой чьего-то глаза, ловящего каждое твое движение, вздох, слово... Не сидеть вот так молча и тихо, как мышь, согнувшись в неудобной позе под замком, ничего не видя, кроме тускло светящего фонаря над головой... А в дверном отверстии, размером чуть больше куриного яйца, периодически мелькает любопытный глаз... Машина в который уж раз дернулась и остановилась... Через некоторое время я услышал, как лязгнули и заскрипели металлические ворота. Приехали. И узнал тюрьму, куда год назад не раз приходил в качестве следователя, будучи в должности прокурора следственного отдела Белорусской транспортной прокуратуры. Приходил, допрашивал обвиняемого Адамова об обстоятельствах приписываемого ему убийства... А теперь я сам обвиняемый, да уже и подсудимый, а Адамов признан потерпевшим. Как круто все перевернулось, поменялось местами! Никогда, ни во сне, ни наяву, не ожидал я такого поворота судьбы...
«Стало быть, это этапная остановка. Сколько дней здесь продержат? Мне неизвестно. Из Витебска до Риги ходят прямые поезда, значит, на этом пути больше этапных тю-
рем у меня не предвидится. И на этом спасибо. Меньше будет унизительных процедур: обысков с раздеваниями, сдач- получений вещей... Хорошо, если бы в камеру больше никого не подселяли. У меня же есть работа: надо окончить жалобу, начатую в Минске, и сделать кое-какой анализ доказательств по делу...»
Встал, походил по камере, кажется, только прилег на койку, как усталость взяла свое, и я мгновенно уснул. Приснилась мать. Будто она совсем состарилась: еле передвигает больные ноги. Откуда-то со стороны я вижу, как, опираясь на палку, она вышла на улицу. Кругом тишина. Ярко светит летнее солнышко. Она задумчиво присела на скамейку возле дома и, склонив седую голову, медленно провела рукой по лбу. Понимаю, что она вспоминает обо мне, своем любимом сыночке — Валерочке. Она откуда-то знает, что у меня большие неприятности. Вижу: беззвучно плачет, по ее красивому, хоть и морщинистому лицу струятся прозрачные слезы. Вот она вытерла их рукавом и звучно, как в детстве, зовет: «Валерочка, сынок мой ненаглядный, где ты затерялся? Приходи скорей. Я уж устала тебя ждать... Без тебя я совсем уж состарилась и ослабла... Слышишь, сынок? Почему ты не отзываешься? И днем и ночью мои думы о тебе. Где ты? Как твое здоровье?.. Что случилось с тобой? Почему ты так долго молчишь?..»
«Мама, мама»,— потянулся я к ней и проснулся, охваченный ознобной тревогой. «Вот, мама, ты мне снова приснилась. Какие-то всего семьдесят километров разделяют нас сейчас. А увидеться еще долго не придется... Хорошо, если к концу года все кончится и справедливость восторжествует... А если засудят лет на пять? Дождешься ли ты меня, больная, старенькая, столько пережившая и перенесшая на своем веку?.. Успеть бы тебя увидеть живой... И письмо написать тебе не могу: запрещено. Только после осуждения. Ах, если бы можно было сейчас оказаться рядом с тобой, мамочка! Просто молча посидеть, посмотреть в твои чистые, многократно омытые слезами глаза! Ну, продержись еще немного, собери все силы и продержись. Слышишь меня, мам? Я вернусь! Я буду изо всех сил стремиться поскорей увидеть тебя и обнять. Только не спеши оставлять жизнь...
Прошу тебя, не спеши... Рано или поздно мы все там, в сырой земле, окажемся... Верь только: твой сын никогда не был бандитом, злым и жестоким человеком. Паутина, опутавшая его, порвется. Да что об этом говорить? Ты, мама, меня знаешь лучше, чем я сам... Только не плачь! Живи, радуйся пока другим своим детям... И я вернусь. Только жди, и я вернусь. Непременно.»
С улицы донесся лай собаки. Зверь приближался к окну, ему стал вторить другой. Вскоре я отчетливо услышал возню и ворчанье псов, а потом своеобразные шлепающие звуки: псы лакали какую-то жидкую пищу. Значит, под окном находится их кормушка, а бегают они вдоль здания на привязи... За дверью заскрипели колеса, и я понял, что прибыла раздаточная тележка с едой. Значит, наступило время обеда. В кормушке показалась голова баландера:
— Сколько человек?
— Один.
Появилась миска с первым. Как и в Минске, это был кислый рассольник, состоящий из воды, картошки и загнивших соленых огурцов. Через силу съев несколько ложек этой вонючей жидкости, я отодвинул миску. «Да, кормежка всюду одинаковая. Да и чего хорошего можно придумать на тридцать копеек в день?..» А есть все-таки хотелось. Переборов отвращение, хлебнул еще несколько ложек. Потом решительно встал и вылил содержимое в раковину унитаза, сполоснул миску холодной водой... Подали второе. Это была перловая каша, сваренная на воде... От постоянных перловой и пшенной каш, от протухшей картошки да кислых рассольников у меня на четвертом месяце пребывания в изоляторе сдал желудок: появился хронический гастрит. Поэтому теперь, съев несколько ложек каши, я почувствовал, что в желудке заурчало, появилась отрыжка, предупреждающая о том, что хватит есть: вечером может появиться вздутие живота и резкие боли. Не принимал мой желудок и тюремный хлеб, после которого появлялась изжога... Остатки каши вслед за рассольником полетели в отхожее место: обратно баландеры продукты не забирают.
Обед кончился. Можно садиться за жалобу. К этому времени я уже успел написать десятки жалоб в различные инстанции — с мольбой, с просьбой о помощи, с информацией о нарушениях соцзаконности, допускаемых следственной группой прокуратуры СССР. Но только на некоторые из них получил стереотипные ответы: ваша вина доказана показаниями таких-то свидетелей. На большую же часть жалоб ответов вообще не последовало. При этом, если внимательно прочитать показания свидетелей, на которые ссылались мои обвинители, то они не только не доказывали вину, а снимали ее; часть из этих показаний вообще никакого отношения ко мне не имела. Вот об этом-то я неоднократно и писал в своих жалобах, упорно настаивал разобраться, вникнуть в суть несостоятельного обвинения, отменить его как незаконное, изменить меру пресечения... Наконец я понял, что бессмысленно писать жалобы и опровержения в ходе следствия: во всех случаях они поступали в тот же орган, который ведет следствие. Теперь же я решил заготовить объемные жалобы и направить их в суд, который будет рассматривать мое дело. И чтобы они были убедительными, требовался детальный тщательный анализ объемного, многотомного дела. Что я и завершал, сидя в камере Витебского СИЗО № 1. Новую жалобу, как и две предыдущие, я изложил на сорока страницах. В ней я последовательно излагал аргументы, подтверждающие мою невиновность. В заклю- чениие я убедительно просил объективно отнестись к рассмотрению уголовного дела в ходе судебного разбирательства, не поддаваясь влиянию высокого авторитета следственной группы, громких титулов и званий ее членов. Указал конкретные факты грубого нарушения Закона, норм Уголовно-процессуального кодекса следователями маститой группы.
Окончив писать, облегченно вздохнул: еще один многодневный труд окончен. А через мгновение уже засомневался: не будет ли это снова гласом вопиющего в пустыне? Способны ли тугие уши высокопоставленных чинов воспринимать истину? Что для них судьба мало кому известного человека, особенно когда справедливое решение бросит тень на признанных «волков» правосудия? Но интуитивно, подсознательно я все-таки верил в конечное торжество справедливости и честности. Оставалось еще доработать мою речь в предстоящем суде, которую я собирался произнести, когда мне как подсудимому дадут слово. Она также получилась очень объемной — почти две общих тетради. Но меня это не смущало, ибо обвинительное заключение, с которым я ознакомился, составляло около 400 страниц печатного текста. Оно было неконкретно, изобиловало гипотезами и домыслами. И чтобы разбить такое обвинение по всем статьям, требовался не менее объемный текст доводов и контраргументов, обнажающих тенденциозность и необъективность доказательств. Таким детальным анализом я планировал заняться завтра. А сегодня, с дороги, надо было хорошо выспаться. Но сон не шел ко мне. Мне обычно удавалось быстро уснуть только после сильной физической усталости. Но теперь сильнее физической усталости оказались нервное напряжение и переживания последнего времени, постоянные тоска и тревога, сковывавшие мою душу. Если мне огромными усилиями воли и самовнушением удавалось победить их, я крепко спал. И только во сне я был счастлив. Но чаще я грустил, переживал, проклинал свою судьбу, перебирал в уме все новые варианты и способ) ! защиты, готовясь любому, даже непредвиденному повороту обвинения дать неотразимый ответный удар. Тогда мне было не до сна и мозг работал на износ. Огромную свалку расплывчатых, нередко притянутых за уши, грязных, бездоказательных обвинений я должен был расчистить, провеять, отделить мусор и плевела клеветы от чистых зерен истины и, перемолов эти зерна, испечь добротный хлеб, укрепляющий душу и тело, нужный не только мне, но всем, кто свято верит в победу добра над злом, света над мраком. Иного выхода я не видел. И надеяться мне приходилось в этой работе адовой на себя и только на себя...
Слышно было, как под окном камеры бегали собаки. Когда мелкий топот прекращался, они скребли лапами, с треском грызли кости... Они рычали. Это был отголосок жизни, доносившийся в мою пустынную темницу, отвлекавший меня от горестных дум. По топоту собачьих ног, рычанию, лаю и другим звукам я пытался представить их окрас, как говорят охотники, и даже возраст и нрав. В эту ночь сильнее моих постоянных переживаний, тревог и волнений, связанных с предстоящим судом, сильнее всего оказалось притяжение родного края, родной земли, страны моего детства. Она вот тут, за стеной заточения. Кажется, закрой только глаза, протяни руку и ощутишь ее ласковое прикосновение.
С чего началось мое детство? С какого момента оно мне помнится? Закрыв глаза, я явственно, предельно отчетливо увидел дом, где родился и вырос. Дом разделен на две половины. Одну почти полностью занимают русская печь до потолка и большой столярный верстак отца. В другой, светлой и большой, много людей. И знакомых, и незнакомых. Меня держит на руках молодой паренек, а я — маленький, голенький — громко плачу. На стуле стоит тазик с водой, над которым наклонился огромный бородатый дядя и что-то бормочет, взмахивая руками. На нем длинная блестящая разноцветная одежда. Вот он поднимает меня своими большими сильными руками и быстро окунает в тазик. Горячая вода жжет тело. Я кричу что есть мочи. Бородатый высоко поднимает меня, а сестра, спешно завернув меня в мягкое полотенце, снова передает молодому улыбающемуся парню. Тот неловко и осторожно прижимает меня к себе, что-то приятное говорит. А я, маленький и беспомощный, кричу и кричу под смех заполнивших все помещение огромных людей. Возможно, эта картина запомнилась мне по рассказам старшей сестры, отца, крестного... Возможно. Но я не помню их рассказов. Кажется, как ни странно, что все это запомнил я сам. Но все-таки сестра и крестный отец, который потом был видным партийным работником, рассказывали, что церкви у нас не было, и для крещения детей приглашали батюшку из соседнего села. Меня решили окрестить, когда исполнилось почти два года (раньше не смогли, вероятно, из-за болезни матери). Батюшка уже совершил перед этим подобный обряд в соседней деревне и был в изрядном подпитии, но к своим обязанностям приступил смело. Облачился в церковное одеяние, попросил принести тазик с теплой водой. И вот сестра, которая тогда была мне вместо матери (мать долго лечилась в больнице), в спешке и суете слабо разбавила кипяток холодной водой. А когда поп опустил меня в эту обжигающую водную купель, естественно, заорал благим матом. И все присутствующие потом рассказывали, как удивленный поп опустил палец в воду и произнес: «Горячо, матушка! Что ж ты больно горячую воду изготовила для младенца?..»
Но ярче всего и как-то болезненно остро запомнилось мне из тех далеких детских лет возвращение матери из больницы. Ее определили в больницу, как я потом узнал, с диагноазом «менингит головного мозга». Мне тогда было чуть больше года, и этого момента я не помню. Тогда все хозяйство в доме держалось на моей семнадцатилетней сестре Зине. Помогал ей, как мог, и девятилетний брат. Отец был известным во всей округе и безотказным мастером по плотницкому и столярному делу. И когда кто-нибудь затевал строить новый дом, для этого обязательно приглашали отца. За ним приезжали за десятки километров и уговаривали помочь, ибо знали, что так, как он, добротно и красиво, не поставить дом никому. А дом он вершил от фундамента до крыши, включая окна, двери, потолки и мебель. Поэтому отец редко бывал дома. Но любовь и уважение к отцу односельчане переносили на нас, его детей. Не только по хозяйству помогали, но часто угощали домашними присмаками, как у нас говорят. Я часто не только ночевал, но и жил у совершенно чужих людей. Они жалели меня и мою больную маму. Нередко спрашивали, не забыл ли я ее, она, мол, скоро приедет. И это периодическое напоминание разбудило во мне детское любопытство. Я ждал теперь уже с нетерпением, когда появится эта неизвестная мама. Но она все не ехала и не ехала...
Но наконец долгожданный миг наступил. В доме собралось много людей — и знакомых, и незнакомых. Они много и непрерывно о чем-то говорили между собой, и в нашем доме стоял непривычный разноголосый гул. Как самый маленький я был в центре внимания: каждый, казалось, хотел перекинуться со мной хоть несколькими словами, подержать на руках... И вот заурчала подъезжающая машина. Многие взрослые выбежали на улицу, другие засуетились вокруг столов, уставленных невиданными дотоле мною и ароматно пахнущими блюдами. Кто-то подхватил меня на руки и понес во двор. Я увидел, как из машины вышла высокая, красивая, но очень бледнолицая женщина. Но больше всего меня поразило, что она сразу улыбалась и плакала (из глаз катились крупные слезы). А я этого не умел делать. Все расступились, пропуская вперед сестру и брата. Они бросились к этой женщине и стали ее обнимать-целовать, радостно выкрикивая: «Мама, мамочка! Наконец ты приехала!» Меня опустили на землю. Кто-то подтолкнул сзади. Со всех сторон слышалось: «Ну же, Валерик, беги скорей к маме.» Но я не мог сдвинуться с места: передо мной стояла незнакомая женщина, совсем не такая, что снилась и какой я ее представлял. Взрослые настойчиво убеждали: «Валерочка, это твоя мама. Беги к ней, обними ее. Это твоя, твоя. Не бойся...» Но я не двигался, стоял, как вкопанный, и с нескрываемым любопытством рассматривал незнакомую тетю. Она же протянула ко мне руки, радостно и нежно приговаривая: «Сыночек мой, как ты вырос! Мой милый сыночек...» — И попыталась взять меня на руки. Но я неожиданно для всех сорвался с места и бросился прочь... Меня остановили, убеждали, что это моя мама. Но я вырывался изо всех сил, потом вдруг бурно разрыдался, и меня отпустили... Весь вечер в доме шло веселое гулянье. Я сидел за столом со взрослыми, переходил с коленей на колени. Меня угощали вкусной сдой, угождали, ласкали. Иногда я настороженно поглядывал на ту женщину, сидящую в центре, что назвалась моей мамой. Она по-прежнему казалась мне чужой.
Но вот и вечер окончился. Гости разошлись. В доме остались лишь те, кто в нем жил, и эта загадочная незнакомка. Она упорно хотела взять меня на руки, но я вырывался, плакал и убегал... Стали укладываться спать. Сестра уговаривала меня лечь спать вместе с тетей, которую она все время называла мамой. Но я вырвался и убежал к брату. Всю ночь, лежа рядом с ним, я ворочался, засыпал и просыпался и думал, думал, силясь вспомнить свою мать, представить ее облик, и сравнивал с незнакомкой, которая спала в этой же комнате. Порой мне виделось что-то общее в их чертах, это заставляло учащенно биться детское сердце. Но это изображение было зыбким, неустойчивым, быстро расплывалось, и меня снова терзали сомнения. Спозаранку, когда чуть забрезжил в хате утренний свет и все еще спали, я осторожно, на цыпочках подкрался к койке, где спала таинственная тетя, и стал внимательно всматриваться в черты ее лица. Сколько я стоял так, затаив дыхание, не знаю, только она вдруг открыла свои голубые и почему-то очень знакомые глаза и тихо, ласково произнесла: «Сыночек! Сыночек мой...» И у меня неожиданно оборвалось все внутри... Не помня себя, в каком-то полуобморочном состоянии, я вдруг истошно-пронзительно закричал: «Мама, мачока!» — и бросился в ее объятия, припав к ее груди и чувствуя родной запах и успокаивающее нежное прикосновение теплого тела...
Говорят, память взрослого человека — творческая. Она преобразует, модернизирует и улучшает давно прошедшее. Возможно, и мои воспоминания о том, что было со мной более тридцати лет назад, не совсем соответствуют действительности. Возможно. Но пусть никто не пытается переубедить меня. Уверен — так я жил и чувствовал в те далекие годы... И чего-чего только не вспомнил я и не передумал за эту долгую бессонную ночь в камере, взволнованный близостью и недосягаемостью родных мест, родной земли... Здесь, на Витебщине, прошли не только мое безвозвратное детство и чудесные школьные годы, здесь я испытал и первую юношескую любовь...
Из мира воспоминаний в суровый мир мрачной действительности меня вернул окрик контролера за дверями: «Подъем!» Значит, уже шесть утра. Вставать не хотелось: еще плыли рядом, маячили в сознании милые пейзажи, далекие и близкие люди, счастливые и печальные лица...
Но ничего не поделаешь, реальность сильнее... Умывшись и заправив койку, все еще в плену задумчивости присел на скамейку, облокотись о стол. Что принесет мне новый день? Очевидно, ничего особенного от него ожидать не приходится. Надо браться за работу и ждать команды на выход: на этап. Заставил себя сделать физзарядку. Обычно я делал ее на прогулке, на свежем воздухе, но в камере было пусто и относительно свежо, да и не знал я, будет ли прогулка. После зарядки встал на койку, чтобы рассмотреть через щели зарешеченного окна двор моей темницы. Утреннего солнца отсюда не было видно, но его рассеянные лучи хорошо высвечивали просторный тюремный двор. Со всех сторон он был окружен многоэтажными зданиями с множеством зарешеченных окон, черные квадратики которых четко выделялись на светлых стенах. А вот и мои застойные знакомцы: гремя цепями по натянутой проволоке, бегали огромные овчарки. Попробуй только бежать — сразу им в лапы попадешься... Двор на первый взгляд казался замкнутым, но присмотревшись внимательнее, я заметил вмонтированные в стену здания огромные металлические ворота, через которые изредка въезжали и выезжали машины.
Долго смотреть было нельзя: по Правилам заключенным запрещалось даже приближаться к решетке. Спрыгнул на цементный настывший за ночь пол. Вскоре услышал характерный скрип приближающейся тележки: арестантам раздавали пищу. В открытой кормушке появились миска водянистой овсяной каши, кружка чая и полбулки хлеба — дневная норма. На сей раз я почти полностью съел кашу, с удовольствием выпил полкружки сладковатого жидкого чая, а полпорции хлеба оставил на обед. Убрав со стола посуду, прилег на кровать. Несколько раз отметил, как открывалась заслонка глазка в двери, и бдительный взгляд охранника скользил по мне, но запретительного окрика не последовало. Значит, здесь арестованным лежать не возбраняется. Я повернулся на бок и незаметно уснул крепким сном.
Так же неожиданно, как и уснул, проснулся. Попытался определить, сколько же я проспал. Судя по пробившимся в камеру через окно полосатым лучам, солнце стояло высоко. Встряхнувшись ото сна, походил по камере, достал бумагу и устроился за столом писать. Я пытался дать критический анализ шатких доказательств моей виновности, которые подгонялись под ст. 105 Уголовного кодекса Белорусской ССР. Потерпевший Адамов на следствии заявил, что бесчеловечное обращение с ним работников, ведших следствие и дознание, постоянное унижение, оскорбление его чести и достоинства, издевательства над ним и незаконное привлечение к ответственности за убийство довели его до такого состояния, что он пытался покончить жизнь самоубийством. Находясь в камере Витебского СИЗО с одним из рецидивистов, он якобы разорвал чехол матраца, скрутил из него веревку и ночью, когда сокамерник уснул, зацепил веревку за вешалку, накинул петлю на шею, стал коленями на пол, лицом к стене, выпрямил ноги и потерял сознание. Из петли его вынул проснувшийся сокамерник, который и вызвал администрацию. Мне надо было доказать предстоящему суду, что в действительности никакой попытки самоубийства не было, что это очередная ложь потерпевшего с целью создать себе ореол мученика и оговорить следственных работников.
Постояв на середине камеры, я подошел к вмонтированным в ее стену крюкам. Они выступали из стены сантиметров на пять, а от пола находились на высоте около двух метров. Стена корявая, под «шубой». У самой стены находится железная двухъярусная койка. Надо представить, что все происходило здесь, в Витебском СИЗО, именно так, как описывает потерпевший. Он стоял лицом к стене, тогда, во- первых, он не мог вытянуть нога назад: мешает койка (все камеры здесь однотипны); во-вторых, стена-то шершавая, и, вешаясь лицом к ней, он при падении обязательно расцарапал бы свое лицо. Тем более, как показал сокамерник Адамова, когда того вытаскивали из петли, он конвульсивно дергался. Это же нереальная ситуация. Кроме того, никто не уточнил, какой длины была веревка, как он ее зацепил, и мог ли потерпевший, вися, доставать коленками до пола. Все это надо будет проверить с помощью вопросов в суде к бывшим сокамерникам... Это пока не главное, но сомнения и зацепки уже есть... Долго размышлял, молча глядя перед собой. Посидел, пытаясь предварительно оформить мысли, потом стал торопливо записывать их и обрабатывать. Эта работа заняла не менее часа. Потом поднялся, несколько раз потянулся, присел, помахал руками, чтобы размяться, и стал прохаживаться по камере, испытывая некоторое облегчение и удовлетворение от проделанной работы: «Посмотрим, посмотрим, кто из нас сильней»,— напевал я себе под нос...
После обеда разрешили прогулку. Чтобы попасть во дворик, пришлось дважды подниматься по ступенькам; создавалось впечатление, что прогулочные дворики находятся на крыше. Но когда я оказался внутри, на прогулочной площадке, то через небольшую дыру в стене ограды увидел кру
той склон обрыва, заросший зеленой травой. Во дворе было тепло и тихо. Сквозь натянутую над площадкой мелкую металлическую сетку изливались горячие потоки солнечных лучей. Раздевшись до пояса, я с удовольствием принимал солнечную ванну. На прогулке арестованным такая вольность разрешалась.
Солнце, солнце! Удастся ли и когда посмотреть на тебя не сквозь решетку, а на открытом свободном пространстве? Вот бы оказаться сейчас на берегу реки, озера, а то и моря. Лежать на горячем песке, раскинув руки, и смотреть, смотреть беззаботно, безмятежно в бескрайнюю голубую высь, следить, как зарождаются в чистой голубизне, закручиваются в полупрозрачные белоснежные водовороты ослепительно белые облака. Кажется, кружатся плавно вместе с тобой небо, земля и весь мир. А еще лучше, чтобы поблизости были жена и дочь. Слышать бы их родные голоса. Дышать полной грудью, наслаждаться и упиваться жизнью... Мечты, мечты, где ваша сладость?.. Только в мечтах и счастлив невольник...
Два дня, проведенные в этапной тюрьме, пролетели быстро. Поразило и огорчило одно: за все время пребывания в Витебске никто из бывших знакомых не только не подошел, не посочувствовал, но даже побоялся приблизиться. Я понимал, конечно, что все знавшие меня офицеры СИЗО были на работе, во власти инструкций и приказов, запрещающих неслужебное общение с арестованными. Но не только и даже не столько уставные правила сдерживали их, как то, что мое дело вела прокуратура СССР, и всякие попытки конта- ков со мной могли очень дорого им обойтись, вплоть до увольнения с работы... Даже когда я шел по коридорам или стоял возле дежурных, а мимо проходили знакомые, то они отворачивались, делали вид, что не узнают или не замечают меня. Никто даже кивком головы не поздоровался, будто я был особо опасным государственным преступником, предавшим всех и вся?!..
На третий день поступила команда собираться с вещами. Караул получал арестованных у дежурного и после очередного личного обыска приказывал следовать в машину. Снова закрылась дверца бокса автозака на висячий замок...
У железнодорожного переезда остановились, арестованных вывели из машины. Нас оказалось всего двое: я и Кир- пиченок. Дальше нас повели пешком. Впереди шагал майор внутренней службы, за ним два солдата. Двое охраняли каждого из нас (слева и справа), и еще три солдата замыкали шествие. Шли по железнодорожному полотну, перешагивая через рельсы. Вечерело, но еще было видно. Навстречу друг другу неслись два поезда. Наша группа оказалась между ними. «Может, бежать? Удобный момент»,— кольнула подспудная мысль. Побег, конечно, был бы реален. Руки мои, заложенные за спину, не сковывали наручники. Запросто можно проскочить впереди проходящего на скорости поезда и оторваться от охраны. «А дальше что?» Вот эта неизвестность и бесполезность сдержали. Конечно, можно было уехать: страна большая, несложно в ней затеряться, скрыться. Но семья, старенькая мать? Бросить их и жить в постоянном страхе, скрывая свое истинное имя и лицо, ожидая, пока восторжествует истина, когда снимется позорный, клеветнический оговор? Нет, это было не по мне. Уж больно дорожил я родными и близкими.
Дорогой нам с Валерием перемолвиться не удалось: шли на расстоянии, при посадке в поезд тоже кругом были военнослужащие. Только когда застучали по рельсам колеса, разговорились.
— Вот, Валера, и покидаю я родимый край. На сердце тоска, кошки скребут. Так неприветливо он меня встретил и проводил. Как неприятно было видеть, что те ребята, которые тебя хорошо знают, с которыми встречался по оперативной работе и неоднократно общался как на службе, так и вне, сейчас тихонько, бочком, опустив глаза, проходят мимо, даже не посмотрев в твою сторону. Так и хотелось крикнуть: «Что же вы, меня за человека не считаете? Да живой я! Человек я! Чувствую и понимаю все.» Но они молчали, а мне вообще запрещено говорить,— поделился своей печалью Кирпиченок.
— Да, такова жизнь: в радости мы всем нужны, а в горе — никому. Раньше почти каждый из них считал за честь со мной за руку поздороваться, а теперь большинство смотрит с безмолвным презрением. Верно, значит, говорят: друг познается в беде. Я бы добавил: не только друг, но и любой человек.
— Пережили изобилие, переживем и нищету. Главное — быстрее бы все это кончилось! Смотреть на все тошно. Каждый, кому ни лень, помыкает тобой, командует, унижает. А ты молчи, стиснув зубы. Если бы не семья, убежал бы, чтобы не видеть такой несправедливости.
— Всю жизнь «если бы да кабы»! Сколько преград на пути и — постоянная борьба. Не успели преодолеть один барьер, одну трудность, как появляются новые и новые. В повседневных мелочных заботах забываем главное: для чего рожден человек?
— Зафилософствовал. А я вот так и не знаю, для чего рожден: одно несчастье за другим идет. Порой жить не хочется. Только сын удерживает: ему отец нужен. А он зэк! Нужен ли ему такой отец? Будет ли ждать жена? Молодая еще, нетерпеливая. Жаль все это потерять...
— Вот ты частично и ответил, для чего живешь, а говоришь: не знаю.
— Так что получается? Для того, чтобы плодить себе подобных?
— И для того, чтобы воспитывать свой плод так, дабы он приносил радость себе и окружающим...
— А мне кто хорошее дал в жизни? Работал честно, изо всех сил старался. И вот дослужился — самым последним человеком стал...
— Ничего, это временное явление. Знаешь, как сказал один поэт: «Хоть настоящее тоскливо и уныло, но что пройдет, то будет мило».
— Твои слова да Богу в уши. Как-то нас встретит Рига?
— Я и сам об этом постоянно думаю.
— Хорошего ожидать не приходится. Не свои, чужие. А главное — суд. Неужели засудят?
— Не знаю. Будем надеяться на лучшее, а худшее само придет.
— Во-во. Как влепят лет пять, а то и больше. Все, что еще имеем, потеряем. Кто нас ждать столько лет станет? На таком уровне никто свои ошибки признавать не будет. Приложат все усилия, чтобы как-нибудь...
— А законность? Времена меняются. Сейчас каждый вынужден думать, что делает. А не будет думать, может запросто лишиться кресла. Это теперь быстро делается.
— А ты много думал или другие? Адамову лет 15 отмерили запросто. Вот и нам сейчас по той же мерке определят: каждому — свое. Засудят и глазом не моргнут. Прошкины, андреевы и компания землю грызть будут, а свою линию постараются провести. От этих подлецов всего можно ожидать. Говорю им: дайте очную ставку с Голынской. Ни в какую. Получай две статьи.
— А мне на очной ставке с Адамовым, который меня грязью с ног до головы облил, Прошкин не позволил ни одного вопроса задать. Не могу понять: вместо того, чтобы самим объективно доказывать мою виновность, а через нее и мою невиновность, не только не делают этого, а даже лишают обвиняемого права на защиту. Где же презумпция невиновности? Где законность?..
— Вот видишь: он следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР, ему все дозволено, все с рук сходит. Вот так и засудят. Получается: чем выше уровень, тем больше и беззакония творится.
— Приходится с тобой соглашаться. Пока все действительно так. Посмотрим, что будет дальше...
— Прекратить разговоры! Разболтались, как сороки!
Мы тут же замолкли. Только слышался стук колес да скрежет и скрип вагона. Оба задумчиво смотрели в закрашенное окно: краска местами облупилась, и сквозь образовавшиеся просветы можно было видеть, как бежали мимо поезда полоски полей, деревья, кусты, столбы. А поезд мчался и мчался вперед, унося нас в неизвестность. Что нас ждет впереди?..
Съев кусок хлеба с селедкой, я прилег на полку, положив под голову свой целлофановый мешок. Под монотонный стук колес незаметно заснул. Сон был беспокойный и тревожный. В сознании, когда проснулся, восстанавливались какие-то смутные обрывки сновидений. Было уже темно. Поезд стоял. За окном услышал разговор людей на незнакомом языке. «Значит, уже Латвия,— предположил я.— Быстро приехали: должно быть, долго я спал.» В коридоре застучали ботинки. Через решетку двери было видно, как мимо нашего купе провели под конвоем нескольких арестованных.
— Отойди от дверей!— вдруг раздался резкий окрик.
Наш вагон долго гоняли по путям, пока не подогнали прямо к Рижскому следственному изолятору, прозванному заключенными «тюрьмой-централкой». Вскоре арестованных вывели из вагона и построили в несколько рядов-шеренг. Яркое летнее солнце после вагонной темноты слепило глаза. «Хорошо, что погода приветливо встречает, может, так и суд обласкает солнечным светом»,— мелькнула в сознании наивно-вычурная мысль. По привычке стал рассматривать окрестный мир. Впереди закрывал горизонт высокий и длинный забор тюрьмы, увенчанный колючей проволокой. Нас окружали плотным кольцом солдаты с автоматами наизготовку. В колонне арестованных было не более сорока человек. Перед центром колонны появился уже знакомый прапорщик и, ужасно картавя, визгливо продекламировал традиционную инструкцию-предупреждение:
— Вы поступаете в распоряжение караула. Шаг в сторону, прыжок вверх считаю за побег. Оружие применяется без предупреждения.
— Шагом марш!
Процессия двинулась в указанном направлении. При нашем приближении широко распахнулись металлические тюремные ворота. Арестованных завели в коридор длинного одноэтажного здания, построили, сделали перекличку. Затем, разделив на три группы, стали размещать по камерам- отстойникам— так называют заключенные предэтапные и послеэтапные спецкамеры, меблировка которых состоит всего лишь из вмурованных в пол длинных пристенных скамеек и туалета. Площадь камеры, куда я попал, была около двадцати квадратных метров. Здесь среди чужих я нашел Кирпиченка. Мы радостно поздоровались и, с трудом уединившись в сторонке, повели тихую беседу:
— Ну вот, наконец-то приехали,— облегченно вздохнув, заговорил тезка. А в глазах его сквозила неподдельная грусть.
— Прибыли. Как-то нас тут встретят, как обнимут и какие песни нам споют?..— стараясь скрыть внутреннее беспокойство, невесело пошутил я.
— Тревожно на сердце: чувствует душа, что здесь нам хорошего ждать нечего. Люди мы здесь — чужие: Латвия — не Белоруссия. И отношение к нам будет, как к нежданным гостям.
— Не грусти. Авось, все обойдется? Знаешь, как татары, будучи не согласны с поговоркой «незванный гость хуже татарина», решили ее переиначить, чтобы себя обелить. Думали-думали и придумали: «незванный гость не хуже татарина». Так и мы: не хуже других. Ведь не убийцы и не насильники мы с тобой?
— Оно-то, конечно, так. Однако здесь отношение ко всем одинаковое: уворовал ли ты у государства миллион или убил человека, совершил ли по неведению должностное преступление — всех на один аршин меряют, под одну гребенку стригут и всех вместе содержат. Вот оглядись: нас здесь сейчас, как селедок в бочке. И все — разные. Собраны все статьи кодекса.
Теперь и я своим критическим взглядом окинул окружение. Действительно, можно было изучать весь Уголовный кодекс. Вон в углу выделяется среди других здоровенный детина с типичной рожей злобного садиста. Вот он поднес к губам сигарету: вся рука художественно расписана татуировкой. Даже на веках, когда он их прикрывает, отчетливо читается надпись: «Не буди!» А вот невдалеке стоит, нервно перебирая тонкие пальцы, явно блатной парень. Его маленькие бегающие глазки выражают одно желание: чтобы тут такое стибрить... А рядом трое уже кого-то раздевают, один примеряет чужую тенниску. Вся спина его исколота татуировкой... «Да, каких только экземпляров не встретишь на своем веку,— с грустью подумал я.— Здесь каждой твари по паре.»
— Слышь, надо сказать дежурному офицеру, чтобы нас отдельно содержали. А то — ну их всех к черту. Скотов здесь хватает, как бы в какую историю не влезть,— шептал мне Валерий.
— Когда поведут для документальной сверки, попросим. Чудиков здесь собрано много, кое-кого уже раздели.
— Беспредел полнейший! Такого я еще в своей жизни не встречал: чтобы так вот, толпой, без разбора загоняли всех в одну камеру и оставляли без присмотра. Здесь могут убить, изнасиловать — и концов не сыщешь.
— Много ты или я по тюрьмам мотались, чтобы выводы делать? Кто знает, как в других делается? Может, еще хуже.
— Хуже, чем здесь, нигде нет: в поезде об этом все говорили. Такой беспредел, открытый разбой и грабеж существуют только в Рижской тюрьме. Мы с тобой были в Минске, Витебске. Но там не только ничего подобного не видели, но ( даже и не слышали об-этом. А здесь на каждом углу творят что угодно.
— Наша Белоруссия родная — во всех отношениях образцовая республика, и тюрьмы у нас лучше, хотя беспредела и в них тоже хоть отбавляй. Но такого потакания хули- < ганам и грабителям у нас, конечно, нет. Там в этом плане 1 порядок жесткий.
— Ив России тоже — порядок. А здесь во всем администрация виновата: бросили несколько десятков человек под замок — и варитесь в собственном соку. Вот мы полчаса здесь сидим, а еще ни разу никто в глазок не заглянул: де- j лай, что хочешь. А в Минске каждые пять минут смотрят, и чуть что — сразу пресекут.
— Да там такой толпой и не содержат: только по два- пять человек. А тут — попробуй, уследи за всеми.
В углу кто-то громко заплакал, но вскоре все стихло. Дышать в камере становилось все труднее: она наполнилась табачным дымом множества курящих. Единственная маленькая форточка почти у самого потолка. Мы с Валерой вспотели, сняли верхнюю одежду.
— Задохнемся скоро. Ты не куришь?
— Нет.
— Я тоже. И сколько нас держать здесь будут? Голова уже кружится, и в висках стучит.
— И мне не легче. Уже тошнить начинает. Куда ж нас поместят? С кем поселят? Вот главный вопрос.
— Путного ожидать, судя по приему, не приходится. Но когда поведут к оперу, буду проситься, чтобы посадили в одиночку.
— На одиночное содержание необходима санкция прокурора;
— Мне ж надо писать: готовиться к суду, анализ предъявленных обвинений делать. В Минске я не смог этого сделать: малолетки не давали работать. Только начнешь писать, а они лезут с расспросами. Каждый старается заглянуть: что пишу? Любопытные, спасу не было. Так и не смог подготовиться.
— Со мной в камере было человек пять. Так я мог урывками и жалобы писать, и анализ делать. Тоже лезли, но я их особо не баловал: не пускал, куда не следует. В основном на мораль давил: мол, не принято чужое читать, с расспросами в душу лезть. На зоне, как и на свободе, этого не любят. Это и спасло. А желание узнать, разведать у них было огромное.
— Полэтапа ж знало, что ты прокурор. Ко мне один несовершеннолетний пришел в камеру и спрашивает: «А ты фамилию Сороко знаешь?» У меня глаза на лоб. Я говорю: «Нет». А он: «Прокурор где-то здесь сидит, с малолетними». А потом на прогулке твою фамилию называли в соседнем дворике. Конспиратор!
— Откуда они узнали, что я работник прокуратуры, мне не известно. Правда, был такой случай: меня вызвали к следователю, а я не ту общую тетрадь с собой взял. Вместо исписанной по делу чистую прихватил. Попросился, чтобы отвели назад заменить. Пока уговорил, пока привели, а сорванцы за это время уже успели кое-что прочесть. Потом все спрашивали: мент я или нет? И какое у меня звание...
— Что сами узнали, что из уст работников изолятора проскочило. Они-то уж точно знали, кто ты. Вот и проговорились где-то кому-то. В тюрьме трудно что утаить: слухи во все хцели ползут. Про меня вот так никто и не узнал, кто я. Все спрашивали, спрашивали, а я — тренер, тренер...
— Давай тише говорить, а то некоторые уже подозрительно на нас посматривают...
— Да, ухо надо держать востро. Сам знаешь, как нашего брата в тюрьме любят. В вагоне мне пришлось поволноваться: уж больно шустрые в купе со мной пассажиры ехали. Опасался, что, когда усну, в сумку мою могут забраться, а там записи по делу. Вот тогда и будет мне хана. Поэтому, укладываясь спать, сумку положил под голову. Так-то надежнее.
— Я тоже беспокоился. С собой везу пять исписанных общих тетрадей. Боялся, как бы чего не вышло: была компания «деловая» рядом. У одного парня так кроссовки сняли...
— У меня на глазах тоже двоих раздели. Но ко мне не полезли. Трухнули, видать. Посмотрели: парень серьезный, неслабый.
— Это точно, толпой они всегда смелые, а один на один никто не полезет. Наглецов здесь хватает. Буду проситься в отдельную камеру или чтобы с таким, как сам, поселили. Я так думаю, что должна быть какая-нибудь инструкция, чтобы милицейских, прокурорских работников отдельно сажали во избежание конфликтов и недоразумений.
— Законы есть специальные. По идее, должны и в следственных изоляторах отдельно содержать.
— В том-то и беда, что правды нам сейчас трудно добиться. В Минске я ходил к начальнику учреждения на прием. Принял какой-то зам. Говорю ему: прошу содержать отдельно, а он: нет такого указания. И весь ответ.
— Преступники мы сейчас для всех, и отношение к нам, как к преступникам. Ни разговаривать, ни прислушиваться не хотят. Что им до нашего горя, до наших забот? Когда суд? Быстрей бы он начался!
— М-да! По принципу: «Нам наплевать на чужое горе; своего хватает.»
— Валера, давай договоримся: требовать, чтобы нам создали нормальные, безопасные условия существования. В конце концов, это и в интересах администрации.
— Ей-то, в общем, наплевать, еще раз повторю. Но добиваться своего мы должны. Иначе — крышка.
...Последние дни перед судом отягощало беспокойное томительное ожидание. «Поскорей бы, поскорей бы начался процесс»,— стучало в голове. Наконец-то я дождался момента, когда должна решиться моя судьба. Позади был трудный год лишений, тоски, физической и нравственной боли. Светлыми были только редкие минуты свиданий с женой, но и они сопровождались горечью от сознания своего бессилия, безысходности.
Утром в понедельник 19 октября я заранее, не ожидая команды, почистил и надел костюм, который не трогал с тех пор, как прибыл сюда с этапом, и, нетерпеливо поглядывая на дверь, стал ждать.
Около восьми часов открылось окошко кормушки и женский голос предупредил:
— Сороко, сегодня в суд. Готовьтесь!
Охваченный волнением, я заметался по камере. Наконец дверь открылась, и с конспектом под мышкой я шагнул в коридор. Меня привели в одноэтажный домик, в котором я уже побывал в день приезда в эту тюрьму. Здесь шла сортировка прибывающих и убывающих заключенных. Вдоль коридора располагались этапные камеры, стаканы. В одном из них оказался и я. Вначале был один, потом вошли двое парней лет по двадцати пяти. Один сразу улегся на скамейку и сделал вид, что готовится вздремнуть, другой нервно забегал по боксу. Вдруг резко остановился передо мной и спросил:
— В суд?
— Да. А ты?
— Тоже. Вэрховный. А ты?
— Ия.
— А якая у тэбэ статья?
— Контрабанда, спекуляция,— как всегда здесь ответил я.
— Тэбэ хорошо! А у мэни 99-я — убыйство. Нэ повэзло. Крупно нэ повэзло!— Почувствовав украинский акцент, я спросил:
— Ты хохол, что ли?
— Так, хохол!
— А как сюда попал?
— Длинная история. С зоны привэзли.
— Аж с Украины?— удивился я.
— Из Чэрниговской облости. Отсыдэв ужо тры годы, в этом домой збирався. И на! Тэпэр лит 10 отхвачу. Крупно нэ повэзло. У мэни подильнык е. Высокый, свэтлий волос. Не сустракав його?— спросил он.
— Нет!
— Трэба постучаты,— сказал парень и стал бить по трубе: вначале у одной стены — три раза, а потом — у другой. Вскоре из-за стены послышались голоса:
— Кто стучит? Говори!
— Мужики, е тамока у вас Михалев?— прокричал он.
— Нет!— послышалось из-за стены.
Он снова нервно забегал по тесной камере.
— Ты нэ прэдстовляешь, як глупо я залэтив! Кому рос- сказаты, не поверють!— Глядя на меня, он решал, видимо, стоит ли делиться наболевшим.— Прышыблы мы тут с корэ- шом одного швейцара. По дилу. Он робыв у рэсторани. А нам горилки захотилось. Нэ дав, скотына. Мы узнали, дзе його жытло, да к нему ночью завалились. Забралы якись вэ- щи, а самого прышыблы.— Низкорослый, среднего телосложения, внешне ничем не привлекательный, он говорил слабым свистящим голосом: — Смылысь удачно. И нихто б ны- колы нэ знайшов. Але мий корэш сив за грабэж. Йому далы пьять рокив, а я за квартырну кражу тры годы з лышкым. У розных зонах сидэлы. И надо ж тому отбыться, скэнтувався я там з одным зэком. Мой однолиток, мужык, як будто, што трэба. Увесь час рядом. Ну, я йому душу и видкрыв, шо, мов, мокруха водыться за мной в Рызе. Як-то поругалися, а вин «куму» и продав мэни. Тот тэлеграмму сюды: чи було такэ убыйство? «Есть»,— приходыть одказ. Тоди мэни вы- зывають и говорить: — «Ты убыв такого-то». Я и опэшив. Нэт, говорю. А сам думаю, як же воны пронюхали? А след- чы мэни лыст бумаги на стол — пышы, а то горшэ буде.— На глаза рассказчика навернулись слезы. Вид у него был жалкий.— Нэ буду ничого робыть. Он свое. Повынная, мов, смягчает наказание. Тэлеграмму суе пид нос. Ну я и сказав всэ, як було... Довго потым мучывся в догадках: як воны уз- налы и выйшлы на мэни. Тильки, колы оттуда на этап погна- лы, мэни кое-хто шэпнув. Мов, твий кэнт тэбэ и заложив. Ныколы б и нэ подумав. Ну, я його отыщу. 3-под земли достану, вин от мэю нэ сховается, дэ б вин ни укрывся, а його достану...— Злой нецензурной бранью завершил он свой монолог.
— Да, тебе крепко не повезло,— поддакнул я, стараясь не выдать своего презрения к этому человечку. Потом спросил:
— А почему ты считаешь, что тебе могут дать десять лет или даже меньше? Статья-то у тебя — до «вышака»: вторая ходка?
— Так мэни трошки повэзло. Я тоди нэсовэршэнно- лйтнім був, у пэршую ходку. Тому и думаю, шо повинны дать нэ болей десяти лет,— мешая русские и украинские слова, говорил парень. Замолкнув, он снова стал стучать по трубе, безнадежно надеясь разыскать подельника.
У меня сложилось впечатление, что он побаивается меня. Минут через тридцать нас повели в одну из открытых камер, где на столе лежали сухие пайки для отправляемых в суд. Взяв по кульку, мы вернулись в камеру. Я развернул свой кулек, стремясь узнать, что же нам выделили на обед вместо баланды. Там были две вареные картофелины и кусок селедки.
— Не густо. Если так месяца три поездить в суд, то можно от голода и концы отдать.
— Концы, может, и не отдашь, но язву точно заработаешь,— нюхая селедку и морщась, вставил до этого молчавший третий сокамерник.
— Шо, воняет?— спросил хохол.
— Немного есть.
— У, сволочи! По морде бы этим хвостом тому, хто такую гниль ложит нам жраты,— сердито пробурчал хохол и бросил свой кулек в мусорную урну.
Я завернул свой кулек и положил в карман телогрейки. Вскоре приказали выходить и строиться лицом к стене. В коридоре я увидел шеренгу арестованных, стоящих лицом к стене, и среди них знакомые затылки и спины своих подельников: Журбы, Бунькова, Кирпиченка. По тому, как они переступали с ноги на ногу, по дрожащим рукам я понял, что и они во власти беспокойства и тревоги. Я втиснулся в шеренгу рядом с Журбой и прошептал:
— Привет, Толя!.. Как настроение?
Тот удивленно окинул меня тревожным взглядом сквозь очки и сказал низким придушенным голосом:
— Привет! Нормально... А как у тебя?
— Все хорошо! Настроение нормальное. Лишь бы ты не подвел...— Но договорить я не успел, за спиной тотчас раздался громкий окрик: «Прекратить разговоры!» Чуть повернув голову, я посмотрел на Кирпиченка и Бунькова; наши взгляды встретились, и мы приветственно кивнули друг другу. Поступила команда каждому по очереди подходить к окошку дежурного, расположенному в конце длинного коридора, отмечаться и следовать в свои камеры. В коридоре было очень много военнослужащих и милиционеров. Когда очередь дошла до меня, я стал перед огромным окном, за которым увидел сидевших за столом дежурного и девушку, по-видимому, из спецчасти. Дежурный капитан, бегло взглянув на меня, спросил:
— Фамилия, имя, отчество.
Я ответил.
— Статья?— услышав ответ, сказал: — Идите.
Я увидел, как он взял мое личное дело и положил его в стопку других. Вернулся снова в бокс. Но не прошло и десяти минут, как загремели засовы двери и поступила команда опять строиться в коридоре лицом к стене. Арестованных теперь было около двадцати человек. Вначале «своих» забирали работники милиции. Они обеспечивали привоз и охрану заключенных, дела которых расследовали различные суды. В Верховный суд сопровождали и обеспечивали там охрану солдаты внутренних войск. С улицы доносился непрерывный гул автомобильных моторов. Одни машины отъезжали, другие подъезжали к зданию, где находились этапники. Когда милиция забрала «своих», дошла очередь и до меня. Мне приказали следовать в комнату досмотра, где приказали раздеться догола. Солдат внутренних войск тщательно просматривал и прощупывал каждую вещь. Видно было, что ему очень жарко в шинели и зимней шапке в хорошо натопленном помещении. Он периодически поправлял на потном лбу съезжавшую на глаза шапку, постепенно возвращая осмотренную одежду. Последними солдат исследовал носки и туфли, потом объявил:
— Вы свободны!
— Вы пошутили!— усмехнулся я.— Свободным меня может сделать только суд.
Затурканный солдат не понял этой шутки и заорал:
— Что еще не понятно? Вон туда, лицом к стене!— ткнул он рукой в сторону шеренги, состоявшей теперь из десяти человек, следовавших в Верховный суд. Я видел, как раздевались и одевались мои подельники. Больше всех похудел Журба. Бледная кожа обтягивала его ребра, плоскую грудную клетку, впалый живот. Ярко светились только его светло-голубые глаза, на тощей, поросшей вьющимися седыми волосами шее качалась огромная лысая голова. Редкая седая борода делала его худое лицо чужим и непривлекательным.
Буньков выглядел чуть получше, но по сравнению с тем, каким был раньше, на свободе, сильно сдал и он, и, конечно, потерял в весе. Тем не менее выглядел он крепким мужчиной.
Грустный Кирпиченок, пожалуй, остался таким же, каким был во время нашего совместного этапа. Бледность ему даже шла, придавая лицу особую красоту и привлекательность. Стройный, молодой, спортивно сложенный, он выделялся своей фигурой. Ростом все мы были одинаковы: чуть выше среднего. Я вспомнил, что Бунькова видел последний раз в Минске в коридоре тюрьмы в день приезда из изолятора КГБ в СИЗО МВД. Это был первый день его ареста, и он с дипломатом в руках ждал, когда его отведут в отстойник. Затем только издали я видел его уже здесь, в Риге, когда следовал на прогулку. Тогда мы только успели помахать друг другу руками... Вот и все наши встречи за год нахождения под стражей...
Журбу я за это время видел всего один раз, когда нас вместе вели на допрос. Это было... где-то в июне 1987 года. В тот раз Журба раскололся и дал показания об изготовлении экспертиз. С тех пор он сильно постарел.
С Кирпиченком мы виделись только в пути следования этапом из Минска в Ригу.
Прошел год, и вот мы почти вместе. Теперь выпадет возможность наговориться. По всей вероятности, процесс будет длительным. Свидетелей в списке обвинительного заключения заявлено около двухсот, потерпевших — восемь, дело объемом в тридцать томов. Всех нужно выслушать и все тщательно проанализировать. Очень тщательно...
— Всех осмотрели?— вдруг громко спросил у старшего сержанта появившийся откуда-то старший прапорщик.
— Так точно!— ответил тот.
— Теперь стройтесь в одну шеренгу здесь,— показал рукой старший прапорщик на стену рядом с выходом. Арестованные снова стали один возле другого лицом к стене.
— Теперь слушайте внимательно,— зычным голосом обратился сверхсрочник к арестованным.— Вы поступили в распоряжение караула. Шаг в сторону, прыжок вверх расцениваются, как попытка к бегству. Стреляем без предупреждения. Беспрекословно выполнять все распоряжения караула. Вести себя прилично. Не переговариваться.— В заключение спросил:
— Всем понятно?— И не дождавшись ответа, добавил: — У кого есть какие вопросы к караулу? Все здоровы?
— Поехали, командир! Чего уж там,— ответил за всех самый высокий в шеренге арестованный.
— По одному за караулом шагом марш!— скомандовал прапорщик после паузы. Арестованные двинулись к выходу. Я шел за низкорослым солдатом, сзади и сбоку от меня шли еще два солдата. Подойдя к машине, я поднялся в кузов и занял место на скамейке в одном из металлических боксов, куда направил меня старший сержант. В углу бокса кто-то сопел, но в темноте трудно было что-либо рассмотреть. Через решетчатую дверь я увидел, что в машину поднялось еще несколько человек, среди них Буньков и Журба. Кир- пиченка, значит, поместили в другую машину. Скоро в боксе зажегся свет и я увидел, что здесь сидят еще двое заключенных. На дверь повесили замок и закрыли на ключ.
Через форточку наружной двери можно было видеть часть улицы. Сначала арестованные сидели молча, думая каждый о своем.
— Командир, а командир!— вдруг громко обратился один из моих соседей к сержанту.— Можно закурить?
— Нельзя.
— Чего ты! Сам тоже можешь попасться: жизнь, она сложная...
— Прекратить разговоры!
— Да хватит тебе. Заладил, как дятел. Человеком будь!— упорно не сдавался заключенный. Послышались голоса и за металлической перегородкой другого бокса. Сержант сердито оглядел арестованных, но промолчал. Видя такую реакцию, я пододвинулся к перегородке и тихо проговорил в соседний бокс:
— Начинаются тяжелые дни. Только друг на друга не поливать.
— Это и так понятно,— ответил голос Бунькова.— Потом поговорим.
— Я кому говорю: прекратить разговоры!— грозно рявкнул сержант.Машина выехала с территории изолятора.
— Поехали,— услышал я дрожащий голос Журбы.
«Да, действительно, сдвинулись с мертвой точки. Впереди суд. Что он принесет? Радость или горе? Может, жена приедет. Какие там, дома, новости? Может, адвокат что нового расскажет?» Мысли мельтешили, наскакивали одна на другую. Беспокойство и тревога усиливались. Через форточку порой можно было увидеть мелькавшие фигуры людей. «Неужели можно вот так свободно, спокойно идти и не быть отгороженным от мира замками, решетками, охраной? Даже не верится, что так было у меня и что такая свобода ждет впереди. Странно: делай, что хочешь, иди, куда заблагорассудится, встречайся, разговаривай с кем и о чем хочешь. Ешь и пей, что душе угодно... Неужели будет и у меня другая жизнь? Даже трудно поверить. Год без дневного света, без свежего воздуха, без человеческого обращения... Неужели всему этому придет конец?..»
Вскоре машина качнулась. За форточкой мелькнул силуэт многоэтажного серого административного здания.
— Приехали!— услышал я голос соседа.
— Да, вот оно, родимое!— вторил ему другой.
— Сколько отмерят?
— Сколько унесем!— ответил другой.
Эти вопросы волновали всех подсудимых. С улицы слышался разрозненный топот множества ног, доносились громкие команды.
— Выходи!— прозвучал в машине голос прапорщика. Загремели замки, открылась дверь первого боксика — четыре арестанта спрыгнули на асфальт, их увели. Открылась вторая дверь, выпрыгнул и я. Мне приказали следовать за солдатом. Я шел сквозь оцепление, выставленное по периметру двора. За солдатами видна улица города, за ней — скверик.
«Драпануть бы, чтобы пятки засверкали, и ищи ветра в поле,— пронзило желание.— Да куда бежать-то? Страна большая, а спрятаться негде. Да и ни к чему: скоро и так буду там, за шеренгой.»
Одного за другим арестованных привели на второй этаж, где снова построили в коридоре лицом к стене, а потом стали распределять по боксикам. Их было на этаже пять. Это помещения площадью примерно метр на полтора. Меня поместили с незнакомым парнем в бокс № 4. Моего нового соседа я принял за армянина: синевато-смуглый цвет кожи, длинный толстый нос, черно-карие чуть выпуклые глаза, толстые губы и черные густые волосы. Ростом чуть ниже меня. Он никак не мог усидеть на скамейке: непрерывно садился и вставал. Очевидно, очень сильно волновался. У меня тоже душа была не на месте. Но вида я не показывал. Наконец парень не выдержал и, доверчиво взглянув на меня, стал сбивчиво рассказывать:
— Ни за что сел. Понимаешь? Изнасилование шьют. Мне 28. Был женат, развелся. Разделили квартиру. У меня однокомнатная в Ригс, почти в центре.— Он то смотрел на меня, то заглядывал в маленькое дверное окошко.— Молодой, женщину хочется. Познакомился с одной в ресторане. Привожу домой. Она у меня ночь переспала. А утром говорит: давай двадцать пять рублей. Тут я вспылил: иди, говорю, не позорься. А она мне: раз так, то заявлю в милицию, что ты меня изнасиловал. Я немного струсил. Было у меня всего пять рублей, я ей и отдал. Однако она все равно «засветила». Приехали в тот же день и забрали. Вот теперь ни за что года три влепят... Квартиру заберут. Я уже семь месяцев под стражей. Ну, как же так: проститутке верят?! Сколько дадут, сколько дадут?!— Он нервно затопал на месте — пространства для ходьбы не было. Его беспокойство усиливало и мое волнение. Воздух был спертый. Боксик не проветривался, хорошо хоть, что сосед не курил. Через несколько минут загремел засов и меня выпустили в коридор.
«Ну вот и дождался. А что там, а что там за новым поворотом?— некстати вспомнились слова песни...— Да, крепче держись»,— приказал я себе. Нас построили перед лестницей.
Подельников один за другим повели по лестнице вниз, там снова поставили лицом к стене перед дверью с номером 13. «Несчастливое число»,— мелькнула мысль. Все стояли бледные: каждый волновался и переживал по-своему. Товарищей по несчастью ввели в большой светлый зал, где предстояло провести не один беспокойный день и где, вероятно, ...
Чужестранный суд
Сутки длиною в год
Противостояние
Печаль Журбы
Оказавшись за барьером на широкой скамье подсудимых, я осмотрелся. Рядом со мной сидел Журба, за ним Буньков, потом Кирпиченок. С обеих сторон, за фанерными перегородками, стояли вооруженные охранники. От зала нас отделяла перегородка из оргстекла, прикрепленная к барьеру. В стекле было четыре отверстия, расположенные примерно на уровне рта каждого стоящего подсудимого. Справа возвышалась сцена с длинным столом и тремя обитыми дермантином креслами. Слева от стола, рядом с будкой подсудимых, стоял столик поменьше. Очевидно, для секретаря. За спиной — зарешеченные окна. Между ними, на стене — большой красочный герб Латвийской ССР. Против скамьи подсудимых — несколько плотно сдвинутых в ряд столов с пятью стульями. Как потом выяснилось, для адвокатов. С другой стороны зала, недалеко от сцены, стояло еще два стола с двумя стульями. За одним из них потом сидел прокурор, государственный обвинитель. Слева, чуть дальше, ряды стульев заполнят присутствующие: потерпевшие, свидетели, зрители. По моим подсчетам, в этом зале вмещалось более пятидесяти человек, которые входили и выходили через три двери. Через одну, возле скамьи подсудимых, вводили и выводили арестованных. Через другую, в конце зала, входила и выходила публика. Третья была на сцене, против торца судебного стола. Через нее, конечно, входили и выходили судьи. Бегло изучив зал судебного заседания, я, как и все арестованные, стал с нетерпением ждать начала «представления», невольными участниками которого нам выпало быть...
Первым в зале появился прокурор. Мне он с первого взгляда не понравился. Высокий, около двух метров, плотный, со звездочками старшего советника юстиции на лацканах форменного мундира и орденской колодкой на груди.
Глаза смотрели на подсудимых враждебно и тускло. Полное краснощекое лицо, залысины на лбу свидетельствовали о его солидном, если не пенсионном, возрасте. С маленьким портфелем в руках он твердым уверенным шагом подошел к отведенному ему столу, уселся и, достав, вероятно, обвинительное заключение, стал листать объемный том, изредка недружелюбно поглядывая на подсудимых.
В дверях появилась группа адвокатов, за которыми шел Волженков. Своего адвоката я узнал сразу, показалось знакомым и лицо еще одного, хотя я, кажется, видел его впервые. Быстрым, размашистым шагом мой адвокат подошел ко мне:
— Ну, привет! Начнем?
— Здравствуйте, Николай Васильевич,— ответил я, волнуясь.— Начнем. Не ради смерти, ради жизни.
— Да у тебя боевое настроение. Молодец! Держись!— подбадривал адвокат. Но я перебил его и с беспокойством поинтересовался:
— Как там дома? Все ли здоровы?
— Дома у тебя все в порядке. Привет тебе все передают. Волнуются, переживают за тебя. Жена завтра должна подъехать...— Успокаивал адвокат.— Друзей твоих видел. Ю. А. передает большой привет. Он все что мог, сделал. В общем, там все тебя ждут,— заключил он.
— Н. В., какое мнение о моем деле в прокуратуре? Читали вы обвинительное заключение? Как оно вам?
— Дело паршивое, тут ничего не попишешь. Насобирали, понаписали, черт ногу сломает. Трудно пока разобраться, что к чему.— Он с опаской поглядел по сторонам и продолжил:
— Будем потихоньку разматывать этот хитрый клубок. Обвинительное на авантюрный роман похоже. С таким я сталкиваюсь впервые. Много всего и ничего конкретного: одна вода. Рассуждения и умозаключения, а не доказательства. Слабо очень, слабо написано.
— Скажите, какое мнение обо мне у моих бывших коллег?
— Я никого из них особенно и не знаю. Встречал пару человек — сожалеют, сочувствуют тебе. Говорят: зазря попал парень...— Я почувствовал какую-то неуверенность, если не ложь, в словах адвоката. Что-то он не договаривает, скрывает... Как бы угадав мое настроение, он стал успокаивать:
— А что они тебе? У каждого своя жизнь. Там у них неразбериха, «залеты» за «залетами», перетряска. Тяжело стало работать. За малейший проступок наказывают. Даже у нас, в адвокатуре, начинается неразбериха. Раньше были тишь да благодать. А сейчас жмут и жмут...
Может, он и прав: что мне сейчас до них, и что им до меня? У каждого своя жизнь. Но все-таки очень не хотелось выглядеть подонком в их глазах. Мне было небезразлично их мнение.
— Так, говорите, дома все в порядке?— возвратился я к наболевшему.— Как дочь? Видели ли сестру?
— Дочь жива и здорова. Умная у тебя дочка растет, красавица. Все твердит: папа в командировке, скоро вернется.
От этих слов у меня защипало в глазах, но я постарался овладеть собой. Адвокат продолжал:
— Сестра твоя очень переживает. Жена крутится, как белка в колесе, и тоже сильно за тебя переживает. Родители у нее очень слабые. Отца собираются в больницу положить. Жена твоя и об этом хлопочет.
— А что слышно о моей матери?— встревожился я.
— Говорят, пока шевелится твоя старушка и даже по хозяйству сама управляется,— ответил адвокат и беспокойно посмотрел на часы.— Пора бы уже и начинать...
— Ничего не знаете о судье? Что он за человек?
— Понятия не имею. Потом, по ходу дела, что-нибудь разнюхаю...
— Вы-то сами хорошо подготовились?— не сдержался я, стараясь не задеть самолюбия защитника.
— Да, да! Я перед процессом вновь пересмотрел все свои записи. Кое-что еще набросал,— стал уверять он.
— Что будет? Что вменят? Сколько дадут?— сыпал я неразрешимыми пока вопросами. Адвокат лишь пожимал плечами. Наконец он стал утверждать:
— Не думаю, что судья пойдет на поводу у следствия. Многое отпадет, это точно,— почесал голову, оглядел руку и продолжал:
— Я давал читать обвинительное заключение своим коллегам. «Не пройдет», говорят.
— А фотография?— перебил я.— Главное ведь, как ее используют по отношению ко мне...
— Не переживай. Не будут ее использовать... Ведь это абсурд полный...
— Все будет зависеть от показаний свидетелей. Что они скажут? Если правду — то я уйду из зала домой. Если начнут оговаривать, сидеть мне и долго...
— Свидетели скажут все, как есть. Они не будут тебя оговаривать,— убеждал адвокат.— У меня кое-какие данные на этот счет есть,— многозначительно намекнул он.
— Дай Бог, чтобы все было, как вы говорите. Ненадежные люди в милиции. Я все-таки надеюсь на их порядочность...
— Я тебе говорю, что никто на тебя бочки катить не будет. Они сами боятся, чтобы ты на них не попер. Я разговаривал с Волженковым,— заверил защитник и спросил:
— Как содержали в изоляторе?
— Плохо. Постоянно дерусь, конфликты. Одна нервотрепка... Как дожить до конца процесса, не знаю,— пожаловался я.
— Ладно, я поговорю с судьей: пусть он попросит, чтобы хотя бы на период суда вам в СИЗО создали нормальные условия. Вероятно, вас, всех подельников, можно и вместе поселить. Я обязательно поговорю,— пообещал адвокат.— А чего не побрит?
— Нечем бриться. Я уж и горячей воды с месяц не видел: перабрасывают из одной камеры в другую, никак в баню не попаду.
— Ну ничего, держись...
— Легко советовать...— со вздохом прервал его я. Адвокат вдруг засуетился:
— Пойду-ка я посмотрю заблаговременно: все ли взял с собой.— И поспешил к столу. Там, поставив на колени сумку, стал копаться в ней. Глядя на его озабоченно склоненную голову, я с беспокойством подумал: ни хрена толкового, наверное, от этого адвоката не дождешься. Надо надеяться на себя. Полное представление о его возможностях можно получить при встрече в камере. И я, пока позволяла обстановка, постучав пальцами по стеклу, позвал:
— Н. В., подойдите, пожалуйста, ко мне еще на минутку.
Тот кивнул головой, давая понять, что слышит, но продолжал копаться в сумке. Наконец обрадованно вытащил и положил на стол ручку и бумаги. Потом не спеша встал и подошел ко мне.
— Н. В. Нам надо обязательно теперь встретиться. Попросите у судьи разрешение и приходите в СИЗО.
— Хорошо, хорошо, не беспокойся. Как только появится свободный от процесса день, тотчас буду у тебя.— Он почему-то во время разговора не смотрел мне в глаза, и это порождало недоверие к нему.
— Вам обвинительное заключение нужно?— Я вспомнил, что адвокатам экземпляр его не высылается.
— Да, да. А у тебя оно с собой?— И тут же, оправдываясь, пояснил:
— У меня было старое, я его посмотрел. Думаю, оно особо не изменилось.
— Тогда возьмите мое.— Я попытался передать заключение через верх стеклянного барьера.
— Нельзя так передавать: только через нас!— Резко заметил сержант, командир караула. Я протянул ему папку. Полистав обвинительное и, видимо, не найдя в нем для себя ничего интересного, сержант передал папку адвокату, который тут же бросил ее на стол:
— Потом почитаю...— И заговорил о своих заботах-неудобствах: — Да, не очень гостеприимный юрмальский край. Со скрипом поселился в гостиницу. Трехместный номер. Неуютно, казенщиной пахнет. Да и ремонт там затеяли. Не дадут спокойно отдохнуть...
«Вот тебя бы в камеру к нам поместить хоть на сутки, послушал бы я тогда твои песни»,— подумал я, а адвокату сказал:
— О каком гостеприимстве может идти речь? Таких сюда прибывает ежедневно, небось, не одна тысяча. А гостиниц, как всюду, не хватает, вот и втискивают кого куда.
— Не представляю, как ты почти год выжил в этих вонючих камерах? Я бы, с моим хилым здоровьем, ни за что не выдержал...
Я не стал отрицать:
— Помаялся, конечно, а куда денешься? Альтернативы, как говорят ученые люди, не представилось.— И желая расположить адвоката, добавил:
— Вы бы тоже, Н. В., выдержали. Мужик вы хотя и худой, но сильный духом...
— Ладно, ладно,— остановил меня адвокат,— давай сейчас сосредоточимся на процессе. Все другое в сторону. А пока отдохни, соберись с мыслями.
— Надо бы как-то мои ходатайства обсудить,— попросил я.
— При встрече все обсудим и обговорим,— пообещал адвокат и уселся за стол.
Другие подсудимые еще продолжали беседовать со своими адвокатами, стремясь высказать все, что накопилось в душе у каждого за долгие месяцы изоляции. Но мне уже не хотелось больше говорить со своим адвокатом. Опять почувствовал я страшную усталость и издерганность. Оглядев зал, я убедился, что он уже заполнен разношерстной публикой. Возле стола появилась довольно симпатичная женщина-секретарь, лет сорока, в светло-красном платье, соломенные пышные волосы легли на плечи.
Вдруг монотонно гудевший зал затих. Все взоры обратились на боковую дверь напротив судебного стола. Напрягся и я. Оттуда вышла высокая женщина в строгом темного цвета костюме. На полусогнутых руках она несла, прижимая к груди, два толстых тома дела. За ней появился невысокий молодой мужчина довольно плотного телосложения. Он беспокойно посмотрел в зал, а потом себе под ноги. Третьим был довольно пожилой красноносый мужчина в очках. С грохотом пододвинув кресла, они уселись за стол. Дождавшись почти абсолютной тишины в зале, сидящий по центру молодой крепыш встал, обвел зал неестественно суровым взглядом и громко объявил:
— Именем Латвийской советской социалистической республики! Верховный суд... начинает рассмотрение дела...
С чтением обвинительного заключения, на мое удивление, выступил прокурор. Перед этим он достал из сумки бутылку минеральной воды и большой фужер, поставил их рядом с собой на стол. Я впервые видел и слышал, чтобы обвинительное заключение читал не председатель суда, а государственный обвинитель. Судьи же спокойно сидели и с любопытством изучали адвокатов и подсудимых. Читал прокурор быстро, но четко, хорошо поставленным голосом. Тщательно изучив текст обвинительного заключения, я внимательно слушал его. И запоминал, отмечал для себя все новые и новые неувязки в обвинении, на которые надо будет обратить внимание в своем выступлении. Слушание не мешало мне рассматривать судей. Пожилая женщина сидела ближе к секретарю, а, значит, и к скамье подсудимых. Ее худощавое лицо, казалось мне, за невозмутимым выражением скрывало доброту и душевную мягкость. Спокойная и строгая, она с задумчивым видом слушала чтеца. Председательствующий, казалось, был полностью поглощен восприятием текста заключения. Изредка он задумчиво поглядывал на прокурора. На его сосредоточенном, чисто выбритом бледном лице лежала печать строгости и неподкупности. Он был красив, но красота его казалась какой-то приторно-слащавой. Небольшие карие глаза прятались под черными как смоль бровями; квадратный подбородок с маленькой ямочкой посредине. Густые, коротко остриженные волосы. Свежий, холеный, он сидел прямо, чуть касаясь стола. Из-под его серого добротного пиджака виднелась белоснежная рубашка с галстуком под цвет костюма. Третий — пожилой мужчина, которого я мысленно окрестил «стариком», сидел сгорбившись, втянув седую голову в плечи. Он производил впечатление человека, попавшего не в свою тарелку. Постоянно нервно перебирал пальцами и смотрел в стол; изредка он чуть-чуть поднимал голову и обводил всех каким-то виноватым и безучастным взглядом из-под очков. Одет он был в строгий темный костюм и темную узорчатую рубашку.
Прокурор стал заметно уставать, звучание его голоса ослабевало. Он прервался, налил в фужер минералку и чуть отпив, продолжал чтение. Окончив главу, он посмотрел на председательствующего. Тот, очевидно, понял его взгляд.
Прокурор теперь читал ровным, но монотонным голосом, без всякой интонации. Его отработанное чтение хорошо воспринималось, но убаюкивало. Вскоре объявили часовой перерыв на обед. Все встали. Состав суда покинул зал. Адвокаты, быстро сложив свои бумаги, побежали в столовую. Нас, заключенных, отвели в боксы. Я достал свой паек: холодную картошку и кусок селедки. Понюхав, решил, что можно есть. Селедка оказалась очень соленой, с душком, очень жесткой. Проглотив через силу несколько кусков с картошкой, я завернул содержимое снова в бумагу и стал смотреть, куда его выбросить... Не найдя мусорного ведра, я положил сверток на скамейку. Настроение было скверное и тоскливое... Стремясь расслабиться, я прижался спиной к стене, упираясь ногами в противоположную стену, и почувствовал, что она прогибается. Значит, была очень тонкой. И в подтверждение моего предположения явственно услышал разговор Журбы и Бунькова, находившихся в соседнем бок- сике:
— Судья, кажется, толковый малый, уверенный в себе,— говорил Буньков.— Морда его мне понравилась, располагает к себе.
— Мне тоже показалось, что он не глупый. Но внешность обманчива,— ответил Журба.— Боюсь, что не выдержит: задавит его прокуратура СССР. Если только они уже не договорились...
Молчание. Потом снова загудел голос Журбы:
— Видишь, какие гады? Как слепили обвинительное заключение? Через строчку — издевательство и глумление.— Голос стал гневным и сердитым.— Никогда не думал, что можно так лгать. На таком высоком уровне и так бессовестно...
— Я так понимаю: не все у них пройдет, что написано,— послышался голос Бунькова.— Мой адвокат говорит, что судья Кабанов не сможет по обвинительному написать приговор.
— Конечно, нет!— хрипло покашливая говорил Журба.— Там же такая чушь написана! Я хоть и слабый следователь, но постыдился бы представлять в суд такое обвинительное заключение.
— Оно и видно, какое заключение вы с Сороко написали на Адамова. Тоже мне спецы хреновы. А теперь вот сидйм уже по году. А особенно Сороко твой хорош. Только и может бегать да хвалиться: я раскрыл преступление. И вот — результат,— возмущался Буньков.— Зазнайства у него много, а в голове пусто. Не смог разобраться. И ты, старый дед, тоже ушами хлопал...
— А что вам на Сороко все валить? Вы сами хороши: сварганили Адамову 15 суток. Да еще не известно, не вы ли ему ложную информацию вложили. Это еще темный вопрос,— хрипло басил Журба.
— Известно. Все известно: Сороко твой, скорее всего, и сунул ему информацию. Мои люди ему ничего не давали. Сам же Адамов не мог всего того знать,— стоял на своем Буньков.
— Не надо! Вы тут перестарались. Я не настолько глуп. Допустим, Сороко дал ему информацию,— парировал Журба.— Почему же Адамов не заявил об этом? Вот тогда бы и катил на него бочки в ходе следствия. Почему он не говорил об этом?— Не дождавшись ответа, Журба продолжал: — Сказать нечего. Ясно, что Сороко не давал ему ни информации, ни детализации. Да имел ли он сам такую информацию? А потом: как Адамов смог точно указать место сокрытия трупа? Сороко тогда рядом не было. Ты же сам первый раз там был. Так скажи мне, если ты все на него сваливаешь?
— А кто его знает, как... Я сам думаю об этом. Может, ты ему подсказал?— спросил Буньков.
— Э-э, какие вы все хитрые! Милиция есть милиция. Так и хотите все переложить на прокуратуру. Ты рядом был, ваши понятые рядом были. Все видели, как Адамов сам привел всех к месту захоронения трупа. Он там, скорее всего, уже раньше был. Не надо. Имей совесть. А то привыкли с больной головы да на здоровую... А кто же тогда фото подбросил?— спросил Журба.
— Тут, ясное дело, Сороко. Он там был, он и подбросил,— уверенно ответил Буньков.
— Так ты тоже на обыске был,— в голосе Журбы прибавилось резкости.— И не только ты: там целая толпа ваших была. Как же вы не видели?
— Проморгали, просмотрели. И как он смог ее забросить за диван? Не знаю. Вроде все были в сарае. Все друг друга видели. Но это его работа, точно. Наши этого не делали,— заверял Буньков.
— А как же ты утверждаешь,— не сдавался Журба,— если ты не видел? Чтобы говорить про такой поступок, надо видеть, надо человека за руку поймать. Опять темный лес?— не то вопросительно, не то утвердительно окончил Журба.
— Мне ясно одно: фото подкинул Сороко. Его работа, больше некому. Да и Адамов говорил, что он ему предлагал. Наши были тогда в сарае, но никто фото не нашел. Мы долго думали и пришли к такому заключению.
— Тем более непонятно. Если он предлагал, так зачем ему было рисковать?— спросил Журба и добавил: — Он же знал, что Адамов его выдаст. Тут что-то не то! Не верю я, чтобы Сороко был на это способен. Он напористый, крепкий мужик. Даже талантливый, можно сказать. Бескорыстный и, кажется, честный.
— А чего же он тогда экспертизу не признает, если честный?— спросил Буньков и, не дождавшись ответа, сказал: — Ты правильно сделал, что признался. Суд учтет это. А ему так или иначе отвечать.
Став невольным слушателем этого разговора, я получил представление о настроении подельников. Подтвердилось мое недоверие к работникам милиции, которые в глаза говорили одно, а за глаза — другое. «Буньков все хочет спихнуть на меня. Это не его личная позиция: он выражает мнение линейного отдела. Сами они все это сделали. А Журба может изменить свои убеждения. Он легко поддастся влиянию. Надо бы с ним переговорить. Но как? Но какой недалекий человек Буньков! Если бы я подсказал Адамову хоть одно слово, он бы кричал об этом сразу после ареста. Он и так утверждал, что я ему пальцем указывал...» Так мысленно отвечал я Бунькову и иже с ним...
После длительной паузы спор в соседнем стакане возобновился:
БУНЬКОВ:
— Смотри, как Сороко нахимичил. Ведь все обвинительное на нем построено. Если бы не он, не сидеть бы нам здесь.
«Задавил» Адамова. Прокурор называется! Ему бы у /ши ы подметать. Только он виноват. А не хочет признаваться. Кое в чем и мы перегнули, конечно, но основную лепту внес все-таки Сороко...
ЖУРБА:
— Ты на обвинительное не ссылайся. Ты же сам знаешь, сколько там брехни. А виноваты мы все: просмотрели. И давить — все давили. Вы не меньше нас. Все ты помнишь. Сороко, конечно, внес свой вклад.
Застучали засовы и в бокс вошел сосед — армянин. По его лицу я понял, что он сильно переживает и негодует. Отдышавшись, он выругался, как водится в таких случаях, и огорченно посмотрел на меня:
— Три года дали. Квартиру отберут. И за что?— Глаза его будто подернулись пеплом, потухли. Захотелось поддержать его:
— Не переживай. Меньше года тебе отбыть осталось. На половине срока выскочишь, если и не на свободу, то на «химию». Главное, чтобы у тебя залетов не было. Что у тебя — семья? Мне хуже: жена молодая, дочь, мать-старушка больная, квартира. Все могу потерять. Все зависит от срока.
— Я уже потерял жену до этой проститутки. Квартиру сейчас потеряю. Что же мне останется? Гол, как сокол.
— Сколько тебе лет?
— Двадцать шесть.
— Всего-то?! Мне тридать шесть, а я держусь, хотя могу потерять много больше тебя. Ты только сравни: в двадцать пять лет «с молотка» начинать или в тридцать шесть. Разница есть?
— Есть-то она есть...
— А ты, когда останешься один, сядь, закрой глаза и представь, сколько в эту минуту умирает людей: детей, женщин, стариков от голода, холода, болезней. Сколько становится инвалидами, беспомощными. Сколько их мучается! Твое горе по сравнению с ними, что капля в море...
— Может, ты и прав, но мне от этого не легче,— задумчиво согласился сосед.— Все равно на душе тошно и обидно. Было бы из-за чего сидеть, а то шлюха сама пришла, сама разделась, легла и меня же оклеветала. Змея, а не баба!..—
Дослушать его доводы я не успел. Дверь распахнулась — перерыв закончился. Снова — построение в коридоре, потом под охраной солдат — в зал.
В зале было еще пусто, сидели на скамье только заключенные. Первым из публики появился Волженков. Он по- прежнему был крепкий, круглолицый, но чуть похудел. И взгляд его был непривычно серым и пасмурным. Я не видел его уже больше года. Он занял стул возле самой перегородки, отделявшей скамью подсудимых от зала. Настороженно оглядевшись по сторонам, он сделал вид, что не заметил своих подельников. Что-то тихо пробурчал себе под нос, затем, будто очнувшись, обратился, тоже очень тихо, к землякам:
— Ну, что — держитесь?
Буньков также тихо ответил:
— А куда деваться? Держимся...
— Привет вам от родных. Звонили ваши жены, беспокоятся. Я и сам места себе не нахожу.
— Тебе проще, ты на свободе,— заметил Буньков.
— Прекратить разговоры!— прикрикнул стоявший у скамьи солдат. В зале появились адвокаты. После обеда многие из них двигались замедленно, а один с явным удовольствием на ходу ковырял спичкой в зубах. Заключенные смотрели на них со смешанным чувством надежды и беспокойства. Каждый, естественно, надеялся услышать от своего защитника что-либо конкретно обнадеживающее. Но все они, как один, только загадочно пожимали плечами. Их можно было понять: их меньше всего волновали способы доказательства невиновности подзащитных. Главное беспокойство вызывала неясность позиции прокуратуры СССР: навяжет ли она свой вариант обвинительного приговора? По поведению адвокатов я предположил, что прокуратура уже сделала свое черное дело. И адвокаты теперь думают не об оправдании подзащитных, а о том, как добиться хотя бы некоторого смягчения приговора. Но это мои мысли, а как и что на самом деле думали и собирались предпринять адвокаты — покажет время. Среди пяти адвокатов была женш- щина лет тридцати пяти, в очках, склонная к полноте. Рядом с ней чаще всего находился адвокат Бунькова. Мне показалось, что я с ним где-то встречался по службе. Но вспомнить, при каких обстоятельствах, не смог. Это был мужчина лет сорока, плотный, чуть ниже среднего роста, с уже солидным животом, с умными, хитрыми глазами. Нос с горбинкой, тонкие злые губы, густые, чуть курчавящиеся черные волосы с легкой сединой — вот вам в общих чертах портрет этого хитрого защитника. Держался он подчеркнуто уверенно, всем видом давая понять, что цену себе он знает и не продешевит...
Адвокат Волженкова — голубоглазый великан с округлым, но почти незаметным при высоком росте животом выделялся среди других какой-то элегантной выправкой и мужской красотой. Высокий с залысинами лоб, черные с проседью, аккуратно зачесанные назад, ухоженные волосы, темный вельветовый костюм — тройка, очень тактичная и уверенная манера держаться делали его в моих глазах рафинированным интеллигентом. На правой руке у него был серебряный перстень. Мне понравились его длинные, выразительные руки, которыми он постоянно жестикулировал во время разговора. Я бы затруднился определить его национальность, но фамилия у него была латышская — Алкснис.
Пятого адвоката в зале пока не было. Он явно задерживался с обедом. Многие из присутствующих в зале уже нетерпеливо посматривали на часы. К перегородке, за которой сидели подсудимые, подошел адвокат Бунькова. Широко улыбаясь, он сообщил:
— Кабанов планирует уложиться в месяц.— И посмотрев по сторонам, добавил: — Судебное разбирательство должно окончиться где-то числа семнадцатого, а там пару недель и — приговор.
Буньков горделиво взглянул на подельников: вот, мол, какой у меня адвокат — все знает. Какую радостную новость принес! И, наклонясь к отверстию в стенке, спросил адвоката:
— А как у Кабанова настроение? Какого он мнения о деле?
Адвокат пожал плечами, давая понять, что на этот счет информацией не располагает.
Другие адвокаты тоже подошли к своим подзащитным.
— Пообедал?— поинтересовался мой адвокат.
— Какой там у нас обед? Одно название: кусок гнилой селедки и две подгнившие картофелины,— недовольно пробурчал я.— Если так месяц питаться, можно концы отдать. При моем желудке язвы не миновать...
— Вам же должны на обед привозить горячее. Так записано в правилах ИТУ,— удивился он.
— Какое там горячее? Никому до нас дела нет, и ничего, что записано, давать нам не будут,— убежденно ответил я и добавил: — Поскандалить, конечно, можно, требуя выполнения закона. Но будет ли толк?— Адвокат молчал, собираясь с мыслями, потом перешел к делу:
— Слышал обвинительное? Смех, да и только. Уши вянут...
По его интонации я понял, что он впервые слышит обвинительное и его заверения о том, что он прочел старое, которое, действительно, ничем существенно не отличалось от нового, ложь.
— Н. В., какие, по вашему мнению, эпизоды оставит мне суд?— Посмотрел я защитнику в глаза.
— Экспертизу, физическое и психическое воздействие, а остальное можно будет уточнить, когда выступят свидетели.
— Экспертиза? Тут все зависит от Журбы. Если бы он сказал, что заврался с испугу... Но кто заставит его это сделать?— Я ждал совета адвоката. Это был единственный козырь обвинения. Признание Журбы, что я заставил его подделать экспертизу, вызывало недоверие ко всем моим показаниям. Моя стройная, логически правильно разработанная система защиты рушилась. Своим заявлением, после годового отрицания, Журба подводил как следователя, так и суд к мысли, что Адамов здесь все-таки говорит правду, хотя в подавляющем большинстве случаев лжет. Я предложил защитнику побеседовать с Журбой через его адвоката:
— Поговорите с ней, кажется, ее фамилия Сабитова? Может, она на него повлияет. Пусть растолкует, что своим признанием он подрывает доверие ко всем подсудимым...— Но защитник, не дослушав, перебил:
— Что ты? Это бесполезно! Мы с ней уже разговаривали, неоднократно пытались узнать: правду он говорит или лжет.— Оглянувшись по сторонам, он продолжал: — Ты знаешь, что она мне сказала?
Я пожал плечами.
— Она смеется над ним. Молчал, молчал целый год, а потом выдал такой козырь обвинению! Мало того, перед тем, как дать это показание, он советовался с ней, и она убеждала, что делать такого не следует. Тем не менее он сделал. Это нас всех ошарашило, как гром среди ясного неба. А теперь он, конечно, будет держаться своей линии.
— Наивен, недалек,— огорчился я.— Думает, заработает себе смягчающее обстоятельство... Хочешь признаться, так не сваливай на других. Я, мол, дал ему указание, убедил, настоял. А где же он сам-то был? Ведь не молодой, а гораздо опытнее меня... У самого тогда глаза горели, как у кота. А теперь себя сдал и меня подвел... Ладно, при возможности я сам постараюсь с ним переговорить,— тихо сказал я адвокату. Он ничего не ответил, только сочувствующе посмотрел на меня и пошел к своему столу. Рядом Журба говорил со своим адвокатом. Я прислушался:
— Екатерина Ивановна, скажите, неужели нам могут вменить «заведомо»?— И не дождавшись ответа, пояснил: — Тут же все насквозь просматривается: мы были убеждены, что Адамов — преступник. Сколько сил потратили на поиски сумки! Как же так?— Он выжидающе смотрел на адвоката. Та стояла, опершись руками о перегородку, и посматривала то на него, то на рядом сидящих подсудимых.
— Кто знает?— ответила она.— Тут до того все сложно! Так перевернуто!— Она взмахнула руками и, поправив очки, продолжала: — Чтобы разобраться во всем, надо проводить новое тщательное следствие. Нам, допустим, предельно ясно, что вы не виновны по ст. 172, «заведомого» у вас, конечно, нет, и речи об этом быть не может. А как поступит он?— Адвокат кивнула в сторону судебного стола.— Трудно мне пока судить. Будем надеяться на лучшее.— Окинув оценивающим взглядом своего подзащитного, она посовето- вала-посочувствовала: — Вы хоть держитесь. Вид у вас бледный. Как с давлением? Как сердце?
— И не говорите: живу на таблетках. А в СИЗО с ними трудно. Если можно, Екатерина Ивановна, пожалуйста, купите мне пару упаковок валидола. Я потом с вами рассчитаюсь...— Голос его прерывался от волнения.
— О чем вы говорите? Конечно, куплю,— пообещала она.— Может, еще какие просьбы есть?
— Если будет жена звонить,— после некоторой паузы попросил Журба,— скажите, чтобы не приезжала: со мной все в порядке.— Вид у него был жалкий, страдальческий.— Нам надо бы более обстоятельно переговорить. Вы можете придти ко мне на свидание?
— Могу, конечно. Приду в эту субботу,— пообещала защитница.— Возьму разрешение и приду. Тогда все подробно и обсудим. А сейчас возьмите себя в руки и не расстраивайтесь. Может, все еще благополучно закончится. Будем ждать и надеяться...— Еще раз поправив очки, она отошла и устало опустилась на свой стул.
Появился адвокат Кирпиченка. Худой, высокий, он размашистым шагом поспешил к столу, на ходу открывая свой портфель. Когда судья объявлял состав участников суда, я отметил, что фамилия этого адвоката латышская. На худом продолговатом лице выделялся большой прямой нос. Маленькие глубоко посаженные голубые глаза, широкий рот. Когда он говорил с Кирпиченком, я заметил, что он немного косит. Он часто улыбался открытой привлекательной улыбкой, которая буквально преображала его лицо.
Задвигались стулья: в зал вошли члены суда. Теперь продолжал чтение обвинительного заключения уже сам председатель. Только сейчас я обратил внимание, что возле каждой двери стоит солдат с автоматом. Солдаты у скамьи подсудимых сменялись примерно через полчаса.
Слушать чтение обвинительного заключения утомительно. И тут произошла небольшая разрядка, развеселившая зал. Прокурор, налив в бокал минеральной воды, на цыпочках подошел к столу председателя и услужливо поставил его перед ним. Вид у него был настолько лакейский, что в зале послышался шумок, а потом дружный смех. Председатель прервал чтение. Прокурор, фальшиво улыбаясь, оправдывался:
— По себе сужу. Очень тяжело читать. В горле пересыхает...
Председатель недовольно посмотрел на него и сухо поблагодарил.
— Льстит!— шепнул я Журбе, хотя и так все было ясно. Тот улыбнулся, почесывая бороду.
— Явный подхалимаж,— поддакнул мне Кирпиченок.
Но вот все успокоилось, чтение продолжалось.
В начале шестого председатель объявил о переносе заседания на завтра, на десять часов. Я подумал: «Начали поздно, окончили рано. Им спешить некуда...»
В боксике я, к удивлению, снова застал соседа-армянина.
— Что, ты здесь так и просидел три часа?
— Так и просидел. А куда денешься?— угрюмо ответил он и пояснил: — Такой порядок: пока все не соберутся, никуда не поедем...
— Кто все?— не понял я.
— Подсудимые! Здесь же сразу несколько процессов идет.
— А если суд не состоялся, все равно надо весь день вот так сидеть и ждать?
— Приходится. У меня уже был такой вот день. Заседатель не пришел, заболел вроде. Тогда я просидел с десяти утра до шести вечера. А пожаловаться некому. С нами никто не считается. Их бы сюда хоть на день запустить,— зло закончил он.
— А сколько у тебя суд длился?
— Без малого две недели.
— Не может быть?!— удивился я и пояснил: — Дело ж твое выеденного яйца не стоит: одна потерпевшая, свидетелей мало. Чего же они так тянули?
— А я откуда знаю? У них спроси,— недовольно ответил сосед.— По одному человеку в день вызывают. Длинные перерывы устраивают. А куда им спешить? Зарплата идет. И вроде бы все заняты. Бюрократы, что и говорить. Бездельники и волокитчики.
В коридоре зашумели, захлопали двери. Послышалась команда приготовиться на выход.
— Ваш процесс, наверное, сегодня закончился позже всех... Остальные раньше возвратились. Вас ждали. Теперь поедем в тюрягу,— заметил сосед. Он по-прежнему был угрюмым и печальным. Нас вывели на улицу. Как всегда, за каждым шел конвойный, двое — по сторонам. На улице нас ожидали две машины. После очередного построения лицом к стене — посадка в автофургоны, в специально оборудованные отсеки. Я оказался в одном отсеке с хохлом. Увидев меня, он тут же поинтересовался:
— Как прошел твой первый день суда?
— Да так...— с неохотой ответил я.
Но тот, не обращая внимания на мое настроение, назойливо продолжал:
— У меня тоже не мак. Встретил подельника. Злой. Из- за меня, мол, его намного упрячут в тюрьму...
Молчать было неудобно, и я спросил:
— А ты что?
— Я ему говорю: прости, дескать, не хотел я этого, не думал, что так получится...
— А он что?
— Орет, конечно, психует. Свинью я ему подложил хорошую. Спору нет. Да и, правда, не хотел я этого. Что мне, охота самому сидеть десятерик?..— Помолчав, закончил: — Как-нибудь помиримся. Куда теперь денешься?— Грустная улыбка появилась на лице хохла. Он спросил у меня разрешения закурить. Но я не разрешил: в тесном отсеке и так не хватало воздуха. Машина медленно тронулась, последовал резкий толчок — переехали бордюр и выехали на дорогу. Обругав охрану, сосед отодвинулся в дальний угол отсека и закурил. Охрана сразу почуяла запах дыма и стала смотре- таь по отсекам. Но хохол тотчас же спрятал сигарету в рукав и с непогрешимым видом посматривал на солдат.
— Сколько же у вас суд будет длиться?— спросил он у меня.
— Говорят, месяц, но мне кажется — больше.
— И у нас примерно столько же. Долго еще придется нам вместе ездить...
От суда до изолятора езды — минут двадцать. Вскоре с характерным железным скрежетом распахнулись ворота СИЗО, пропуская машину в тюремный двор. Сдав подследственных работникам изолятора, солдаты удалились. Меня оставили одного в стакане. Здесь было жарко, воздух спертый и затхлый. Примерно через полчаса работник СИЗО повел меня в камеру.
Общая картина в камере не изменилась. Юлий храпел, накрыв голову футболкой. Райнис сидел за столом, склонившись над листком бумаги, что-то писал. Не отрываясь от письма, он бросил:
— Тебя разыскивала женщина, что приносит передачи. Наверное, из дома.
Внутри что-то екнуло. «Неужели жена здесь? Адвокат говорил, что должна на днях приехать. Если так, то она и принесла передачу.» На сердце стало веселей. «Завтра ее увижу, а, может, даже и уедем вместе.» Возбужденный, я переоделся и собрался прилечь, как открылось окошко кормушки и раздатчик пищи спросил:
— Кто из суда? Получай ужин...
Поняв, что это относится ко мне, я со своей миской подошел к кормушке. За мной пристроился Райнис. И он получил порцию ухи. ^
То ли разговор, то ли стук кормушки разбудили Юлия, и он, кисло поморщившись, спросил:
— A-а, сокамерник приехал! Ну-ну, давно не виделись...
Лениво встал с койки, потянулся, крякнул и, опуская руки, многозначительно заявил:
— А мы тут кое-что о тебе проведали...
Я насторожился.
— Ты, оказывается, с несовершеннолетними был.
— Ну и что?— продолжая жевать, вопросом ответил я. Тот не отставал, рассчитывая завести меня.
— Так ты, оказывается, бандит: избил там одного парня?— и не дождавшись ответа, добавил: — Тут мы тебе быстро мозги вправим, это не с хлюпиками воевать! Ишь ты, специалист по драгоценностям. Великий шулер. Видали мы таких!
Я молча продолжал доедать уху. Райнис изредка насмешливо поглядывал на меня. Наконец Юлий, видимо, устал от собственных угроз. Он сердито посмотрел на меня и пошел к крану с водой, чтобы ополоснуть свое заспанное и разгоряченное лицо. Потом взял какую-то книгу и, усевшись за стол, стал читать. Покончив с ужином, я помыл миску и улегся на койку. Приятное чувство ожидаемой встречи с женой было испорчено. Как ни был я равнодушен к угрозам, они оставляли в душе неприятный осадок. С каким удовольствием съездил бы я по этой жирной роже, если бы не суд, который и так держал меня в постоянном нервном напряжении.
Долго еще я ворочался в кровати, переживал, взвешивал... В мыслях я то возвращался в зал судебного заседания, то переносился домой, к семье. Обуревали смутные нехорошие предчувствия. Уже и поверка прошла. Можно было готовиться ко сну. В конце концов я все-таки уснул.
Сон в эту ночь у меня был беспокойный, тревожный. Но с утра настроение было хорошее, вновь возродилось желание увидеть жену. Заранее одевшись в дорогу, сидя за столом, полистал записи. Но вникнуть в их смысл так и не смог. Вскоре последовал вызов на выход и построение.
На этот раз в стакане я оказался один и стал поглядывать сквозь разбитый глазок, кто находится в соседней камере. Увидел, как туда впустили Кирпиченка. Присев, я тихонько позвал его:
— Валерий, Валера!
— Это ты?— узнал он меня. Тонкие перегородки не мешали вести разговоры.
— Да, я! Как суд?
— Нормально. Посмотрим, что дальше будет,— услышал я тяжкий вздох подельника.— А ты как?
— Я расчитываю, что наши заседатели, пожилые люди, умудренные жизненным опытом, должны отнестись к нам с сочувствием. Узнать бы только, рабочие они или интеллигенты?— И тут же пояснил: — Рабочий, он прямолинейнее, не будет вникать во всякие тонкости, нюансы, приведшие к незаконному осуждению Адамова. У него может сработать чувство пролетарской солидарности. Он может подумать: вот так и меня могли ни за что посадить, а потому жалеть таких нечего. А у интеллигентов натура более тонкая, им интересно покопаться в психологии, вскрыть все тонкости, причины, заглянуть в душу и тому подобное.
Но Кирпиченок перебил:
— Мой адвокат говорил, что старик работает инженером то ли на заводе, то ли на каком-то комбинате. Не запомнил я. Но что инженером — это точно. А женщина — секретарь парторганизации на небольшом предприятии. Как будто так...
— И это уже хорошие вести. Что еще тебе адвокат говорил?— Но ответа я не услышал, так как послышались шаги по коридору, и в соседний стакан впустили кого-то еще. Дверь захлопнулась.
— Толком не говорил,— предусмотрительно предупредил Кирпиченок. Я понял: он не хочет, чтобы подселенный узнал, кто мы... Посидев в тишине, я попытался поплотнее втиснуться в угол бокса и закрыл глаза. Размеры стакана не позволяли вытянуть ноги. Скамейка тоже была узкая, неудобная. Сидеть на ней в полусогнутом состоянии было неприятно... Вдруг я услышал три условных стука.
— Говори,— отозвался я.
— Какая хата?
Голос показался знакомым, и я переспросил:
— А твоя?
— 208-я.
Теперь я определенно опознал, что голос принадлежит Альфонсу.
— Это ты, Альфонс?— на всякий случай переспросил я.
— Я! А ты кто?
— Не узнаешь? Зажирел. Сороко я.
— А-а-а! Я так и подумал. А в какой ты сейчас хате?
— В 220-й, на втором этаже.
— Ну и как?
— Нормально,— не желая вдаваться в подробности, ответил я и спросил:
— А какие у вас новости?
— Ингвар получил семь лет, Мужниекс — тоже.
— Нормально ему дали! У него же покушение на убийство и разбой. Мне рассказывали, что когда он приехал в суд, то судья, глядя на его синее лицо, спросила: «Нелегко, видно, насильникам сидеть в изоляторе?»
— Ну ты ему и приварил. Одним ударом два глаза «загасил». И как так можно умудриться?— удивлялся Альфонс.
— Да я его не так уж и сильно. Просто отключились тормоза. Уже почти не соображал,— ответил я, стремясь оправдаться, и тут же спросил:
— Не обижаются на меня сокамерники?
— А что там! Чего не бывает в нашей тюремной жизни? У каждого свое горе, свои заботы. Вот на суд сегодня еду. Ноги дрожат, душа не на месте. А ты тоже на суд?
— Да...
Со всех сторон загремели двери: в стаканы сажали новых арестованных. Когда шаги охранников удалились, Альфонс стал громко выкрикивать имена подельников.
Откуда-то издалека донеслось:
— Здесь я!
И тут же последовал зычный окрик охранника:
— Прекратить разговоры! Раскричались, как в лесу!
Все стихло. Только слышны были шаги солдат и их разговоры в коридоре. Альфонса вскоре увели. Пришли и за мной. Процедура получения сухого пайка и обыск заняли около двадцати минут. Все было, как вчера: и картошка, и кусок селедки, и раздевание догола, и шеренга лицом к стене, и машины те же, и охрана та же, и маршрут тот же. И так будет изо дня в день. Только на этот раз я оказался в боксе № 2 вместе с подельником хохла. Высокий, с большим бледным лицом и длинными белыми волосами, он сразу мне чем-то не понравился. И взгляд его светлых с белыми ресницами глаз мне показался наглым, отталкивающим. Как только охрана удалилась, он стал метаться по ограниченному пространству бокса — от стены до входной двери. На миг остановившись, громким басом спросил:
— Ты моего подельника сегодня не видел?
— Нет. Видимо, в другой машине привезли.
— Ну, паскуда, я ему при случае пасть порву! Сдал меня, скотина, с потрохами. Полагал, что концы в воду. Никто не найдет. На зоне отыщу и прибью подлюгу!— Глаза его вылезли из орбит и гневно сверкали. Он скрипнул зубами, не находя слов от душившей его ярости.
— Он говорил, что его самого кент сдал!— попытался я успокоить разбушевавшегося блондина.
— Какой еще кент?! Сам он трепло порядочное. Надо было держать язык за зубами: тут не кража вшивая, а мок- руха все-таки... Я ему моргалы повыкалываю. Боится меня, избегает встреч наедине. Посмотрю, как в суде будет себя вести. Я ему сказал, чтоб все брал на себя. Ему больше десяти не дадут, а мне могут и пятнадцать пришить. Еще два не досидел,— рассуждал он.— Пусть говорит, что он его первым пырнул, а я в это время по квартире шастал. А он, гад, крутится, как уж...— нецензурно выругался рассказчик.— Ему, значит, и хочется, и колется, и мамка не велит.— В говоре его чувствовался сильный украинский акцент.— Ну и подельника я сэбэ пидчэпив. Такое дерьмо! Кому доверился? А сейчас лет пятнадцать отмерят. На следствии он раскис: дал полную выкладку, в деталях все рассказал. Пусть только попробует не изменить показания...
Я снова попытался его успокоить:
— Вчера он так мучался, что раскололся. Говорит, что за чай тебя продал. Уж больно он чифирить любит. Готов и мать родную за пачку чая продать...
— Ну я ему так зачифирю, век помнить будет,— последовал многоэтажный мат.
— Ты тоже хохол, как я посмотрю?— перебил я.
— Мы оба с Украины. Из одного района. А у тебя, вижу, неплохие штиблеты. Может, махнемся?
Я посмотрел на его добротные зимние сапоги. Они мне понравились. Подумал: «Впереди зима, неплохо бы заиметь сапоги. Только не с чужих ног. Лучше сам куплю.»
— Нет,— ответил я.— Нет. И сапоги твои вроде ничего, но не могу чужую обувь носить. Ощущения неприятные будут вызывать...
— Как хочешь, а то давай?
— Нет!— уже решительно отказал я.
— Эх, житуха. Быстрей бы окончился суд, да на зону. Там легче крутиться. Здесь скука...— потягиваясь и зевая, говорил сосед и вдруг оскалился:
— Сегодня под утро одного опедерасил!
Я почувствовал, что у меня загорелись уши, во рту стало противно и гадко. Чтобы не выдать себя, спросил:
— Так ты что, этим занимаешься?
— А как же!— довольно произнес сосед и тут же добавил: — Парень я молодой, крепкий, бабы нет, так по нужде и мужик сойдет. Все, что ползает, ходит, имеет все, что надо... А Бог увидит, лучшее пошлет...
Слушать его мне стало совсем невмоготу. К счастью, загремели засовы и поступила команда выходить строиться. Я вышел, блондин остался в камере.
С утра меня преследовало беспокойное и радостное чувство ожидания встречи с женой. Я представлял, что она здесь, рядом, тревожится и переживает за меня. Когда нас ввели в зал, я сразу заинтересованным взглядом окинул пустые ряды стульев. Но в зале никого не было. Только грузный прокурор величественно восседал за своим столом. Но вот в зал вошла группа адвокатов, и среди них я сразу увидел фигуру жены. Маленькая, худенькая, она была смертельно бледна. Застыв в оцепенении, она смотрела на меня. Я глядел на нее, не в силах оторвать взгляда, ничего вокруг не замечая.
Горячая волна сострадания с головой окатила меня. Я готов был ринуться через барьер, через любые преграды, только бы обнять ее, обласкать, успокоить. Но трезвый разум брал верх над сумасбродными чувствами. Я сидел, до онемения в пальцах сжимая край скамейки: только бы не оторваться, только бы удержать непослушное тело, рвущееся к любимому человеку. По щекам ее катились слезы. Не отрывая взгляда от меня, жена устало присела на стул. Видя, как сильно она переживает, и чувствуя свою вину перед ней, понимая, что лишен возможности облегчить ее страдания, я сам был готов разрыдаться. Она была очень близка и дорога мне. Почти каждую ночь я видел ее во сне, днем постоянно вспоминал о ней. Несмотря на огромное расстояние, разделявшее нас, она по-прежнему была властительницей моих дум и чувств... А меня со всех сторон окружали недвижно застывшие, как статуи, часовые, охранявшие преступника, опасного обществу человека. О, как несправедливо устроен этот мир!..
Судебное заседание продолжалось. Но теперь я слушал чтение обвинительного заключения рассеянно, не в силах сосредоточиться, собраться с мыслями. Постоянно перед моими затуманенными глазами маячило лицо жены. Еще и еще раз по только мне понятным черточкам ее лица пытался прочесть ее мысли, определить настроение, душевное состояние... Мечтал о возможной встрече. Вспоминал подробности наших счастливых совместно прожитых дней... Внешне жена, кажется, почти не изменилась, не постарела. Все то же красивое лицо, большие голубые глаза. Все те же мои любимые пышные вьющиеся волосы. На ней был хорошо мне знакомый темно-синий костюм, сшитый года четыре назад из отреза, который мне выдали на форменную прокурорскую одежду. И не только костюм, вся она была прежняя, милая.
В перерыв ко мне подошел адвокат, а жене солдат охраны не разрешил приблизиться. Только издали она могла смотреть на меня.
— Жена уже подходила к судье,— вальяжно объяснил мне защитник.— Он обещал дать разрешение на свидание. Завтра заседания не будет. Она к тебе придет.
— Как она себя чувствует?
— Неважно. Постоянно глотает успокоительные таблетки. Не надо было ей сюда приезжать.
— Как там дома?
— С отцом совсем плохо... Она все сама расскажет. А остальное как будто в порядке...
— Н. В., подойдите к ней и скажите, чтобы она не плакала, взяла себя в руки, утешьте ее, успокойте. Скажите ей, что Кабанов настроен лояльно. Хочет всех освободить из- под стражи. В данной ситуации можно и солгать, чтобы поддержать ее. Говорите ей, что я совершенно здоров, что у меня все в порядке. В общем, сами знаете...
— Хорошо. Я сейчас к ней подойду.
— Да, еше попросите, если сможет, пусть не приходит на заседания, пусть лучше погуляет по Риге, посмотрит город, в кино сходит. А то только расстраивается. У нее и так здоровье неважное.
— Нда-а. Легко сказать. Что ты, свою жену не знаешь? Ей говори — не говори, она все равно придет. Она за тобой на край света пойдет.
— Все равно, Н. В., постарайтесь отговорить, тяжело ей сидеть в зале. Я мужик, и то у меня нервы сдают.
— Еще бы... Ну, я пойду. Постараюсь, конечно, но не ручаюсь...
На обед нас снова разместили по боксам. Я механически жевал холодную картошку, селедку. Привели соседа. Тот, продолжая охаивать подельника, достал свой сухой паек. Видя, что мне не до него, прекратил разговоры и, усевшись на скамейку, закрыл глаза...
Чтение обвинительного заключения продолжалось до семнадцати часов. Все это время моя убитая горем жена сиротливо сидела в зале. Ко мне снова подошел адвокат и доложил:
— Я сделал все, что мог, чтобы успокоить ее. По-моему, ей стало легче.
— А как она настроена? Может, что-нибудь узнала о планах судьи?— поинтересовался я, понимая, что это глупые вопросы: сам Кабанов не мог предусмотреть, что будет завтра, что скажут потерпевшие, свидетели.
— Ничего, настроена оптимистически. Говорит, что у нее кое-какие новости для тебя есть. Впрочем, она тебе при личной встрече сама расскажет...
— А где она остановилась?
— У знакомых. Она и мне этот адрес давала. Я у них первую ночь переночевал. Но там ребенок маленький. Я не выспался и перешел в гостиницу.
— Дочь здорова?
— Да. Все в норме.
— Мать?
— Тоже. Я же говорил... Да, чуть не забыл. Она хочет подойти к Адамову и с ним поговорить. Узнать, как он настроен.
— Ни в коем случае!— взорвался я.— Умирать буду, но не позволю ей унижаться перед этим подонком! У него нет ни стыда, ни совести: врет, как сивый мерин. А у него прощения просить?! Н. В., передайте ей мои слова. Пожалуйста. У каждого человека должно быть чувство собственного достоинства и гордости. Был бы он порядочный человек, я бы стал перед ним на колени и просил бы, умолял простить.
Да и не довелось бы этого делать: не будь он трусом и подлецом, не взял бы убийство на себя, не убеждал бы всех и меня в том числе, что он убил. Обманул меня, обвел вокруг пальца, а теперь надеется еще раз обвести. И у него моя жена будет просить прощения?!
— Хорошо, я передам. Но мое мнение: не следует еще более обострять отношений. Пусть бы она поговорила с ним как бы по своей инициативе. У него тоже, небось, сердце не камень... Она, по-моему, сумеет это сделать: обладает тактом, обаянием. От этого у нас был бы только выигрыш. В жизни иногда пригодится хитрить, вести гибкую политику...
— Нет, Н. В., я тверд в своем решении. Не тот человек Адамов. Уж я-то его знаю. Его постоянно настраивают против меня. Необходимо длительное время, чтобы он своим птичьим умишком осознал, насколько низко пал в клевете. Уверен, что настоящие виновные лица его задобрили, а может, и припугнули. Уж больно он трусит... Поэтому не надо, Н. В., чтобы она к нему подходила.
— Я передам твои слова. Но послушается ли она?
— Должна. Хотя она всегда имела свое мнение. И нередко поступала по-своему...
— Что ей еще передать?
— Привет и больше ничего. Скоро с ней встретимся...
— А может, что из вещей, из одежды тебе передать?
— Ничего не надо. Все у меня есть. Ничего не надо...
Жена в это время издали наблюдала за нашим разговором, очевидно, пытаясь понять его смысл. Но ей это явно не удавалось, и она нетерпеливо посматривала на адвоката.
Военные охранники так и не разрешили жене приблизиться ко мне, ссылаясь на инструкции. За весь день мы не смогли переброситься хотя бы несколькими словами. Только читали мысли друг друга на расстоянии. Когда меня уводили из зала, жена снова заплакала. Маленькая, родная женщина в одиночестве скорбела в большом пустынном зале. Эта картина острым ножом полоснула меня по сердцу...
И тут я увидел человека (век бы с ним не встречаться), который перечеркнул всю мою жизнь. Человека, которому я тоже доставил, как меня убеждали, хотя и неумышленно, немало страданий. «Подлец»,— тихо и зло произнес я, не в силах сдержать горячей волны черного гнева. Я не виделся с Адамовым почти год после очной ставки в следственном изоляторе КГБ. С тех пор много воды утекло. Я за это время сильно сдал, похудел, пожелтел, постарел. А лицо Адамова по-прежнему было полным, краснощеким, с двойным подбородком. Сидел он на стуле, как купец на рынке, широко раздвинув толстые ноги, сложив на животе крупные руки. Взгляд по-прежнему был тупым и наглым. Присмотревшись, я отметил, что, несмотря на внешнее спокойствие, чувствовал он себя неуверенно: часто подергивал плечами и непрерывно шевелил пальцами. Заметив, что я смотрю на него презрительно, Адамов судорожно дернулся, раскрыл широко глаза и, уставившись на меня безумными глазами, что-то злобно прошептал... Я не разобрал что, но по его перекосившемуся лицу и стиснутым зубам нетрудно было догадаться, что это были проклятия... Вдруг он перестал шевелить губами, высморкался и, потупив глаза, уставился на пол. Лицо его еще больше покраснело...
«Может, совесть заговорила?— мелькнуло в голове.— Да есть ли у него совесть-то? От него зависит многое в моей судьбе, если не все. Обвинение полностью держится на его лживых показаниях. Откажись он от них, и я реабилитирован. Расскажи Адамов правду о том, кто его заставил признаться, кто снабдил информацией, кто показал ему место сокрытия трупа, и я — на свободе. Или он убийца? Его сильно запугали, и теперь от него правды не дождешься.»
Возвращаясь в изолятор, я, как обычно, сначала попал в стакан. Сидя в нем вечером в одиночестве, я думал о жене, пытался представить, как она где-то рядом ходит-бродит в чужом городе, мучается и переживает за меня. Здесь ей не от кого ждать ни сочувствия, ни утешения. А я вынужден сидеть, смотреть в грязную, исцарапанную непристойными надписями стену и терпеливо ждать, ждать, ждать...
В коридоре женский голос вдруг громко выкрикнул мою фамилию. От неожиданности я вздрогнул, потом отозвался. Дверь стакана отворилась, и передо мной предстала молодая женщина, державшая в руках наполненную чем-то наволочку.
— Фамилия, имя, отчество?— уточнила она.
Я ответил. Затем уточнила домашний адрес и поинтересовалась, от кого я жду передачу.
— Скорее всего, от жены.
— Куда вам пересыпать продукты?— спросила она.
Я пожал плечами и попросил:
— Может, отдадите вместе с наволочкой. А потом, в камере, я ее освобожу и верну.
— Ишь, чего захотел! Вас тут много. Каждому давать, не соберешь потом,— недовольно возразила она.
Вместе с продуктами в наволочке был и трикотажный пуловер. В него я и переложил продукты, завязав узлом. С таким приятным багажом я поднялся в свою камеру. Как только вошел, сразу обратил внимание на новичка, небрежно сидящего за столом. Теперь нас уже было четверо. Положив передачу на койку, я стал переодеваться.
— Что ты на койку кладешь, давай на стол, мы посмотрим, что тебе жена передала,— нагло потребовал новичок.
«Однако же»,— подумал я, но вслух произнес:
— Посмотрю, потом скажу. Сначала надо умыться.— Взял полотенце, мыло и стал умываться.
— Не жмись. Давай сюда. Мы ее быстро оприходуем.
— Шустрый ты, парень, как я посмотрю, откуда такой?— продолжая умываться, спросил я.
— Твой земляк, из Молодечно.
В голове сразу остро мелькнуло: «Откуда он знает, что я из Минска? Ведь я всем говорил, что из Москвы. Неужели все обо мне пронюхали?» Но решил выкручиваться:
— Какой же ты мне земляк? Ведь я из Москвы и что-то такого города не знаю. Где твое Молодечно находится?
— Что туфту гонишь? Ты из Минска. Брось фонари качать. Мы все про тебя знаем.
— Я и сам-то не все про себя знаю,— философски заметил я и стал выкладывать и сортировать продукты, прикидывая, что съесть сразу, а что оставить «на потом». Я твердо решил: чтобы поддержать организм, надо растянуть продукты до следующей передачи, ведь судебное заседание потребует от меня максимума затрат физической и нервной энергии.
В коридоре застучала коляска с бидоном. В открытой кормушке появилось лицо баландера:
— Ужин! Миски давайте.
Подали четыре миски. От них пахнуло горячей ухой. Сели за стол. Я положил кусок сала и стал заточенной пластмассовой пластиной резать его. Копченое, с мясной прослойкой, оно резалось нелегко. Новичок же, не дожидаясь приглашения, стал хватать куски сала. Я не сдержался и спросил:
— Я тебе разрешил брать?
— А кто ты мне? Здесь все общее!— нагло бросил он.
— Как же общее, если я только что принес? Это стол, скамейка, кровать общие, а разве твои джинсы или куртка — общие? Давай-ка, снимай, я их себе заберу. Вроде, подойдет,— оценивающе прикинул я. Параметры новичка примерно соответствовали моим:только чуть худощавее, рыжая голова острижена «под ежика». При разговоре во рту поблескивала золотая коронка. Поскольку он не представился, для начала я окрестил его Фиксатым.
— Еще чего захотел? Ты лучше скажи, как сюда попал?— с намеком спросил Фиксатый.
— Как все: в сопровождении конвоя,— ответил я, но, чувствуя явный подвох, насторожился.
— Это мы знаем. Ты где сейчас был?
— В суде.
— А какой суд тебя судит?
Я промолчал.
— Ты что, глухой, что ли?— приставал Фиксатый.— Ты что, не знаешь тюремных законов? «Глухаря» строишь,— нецензурно выругался он. Это взбесило меня, но я, сдерживая гнев, предупредил:
— Ну-ну, полегче!..
— Так из какого ты суда приехал?— не отставал он. Стараясь избежать назревающего скандала, я нехотя ответил:
— Ну, из Верховного...
— А почему тебя Верховный судит?
Мне уже надоели его назойливые вопросы. Сдерживая себя, я опять долго молчал, старательно пережевывая пищу.
— К тебе обращаются! Почему тебя Верховный судит?
— Спроси у тех, кто мной командует. Они решали: куда и в какой суд меня послать.— И чтобы отвлечь Фиксатого, сам стал задавать ему вопросы:
— А ты как в Риге оказался? Если не врешь, что из Белоруссии?
— Я за свои слова отвечаю. Не то, что ты,— подчеркнул он.— На раскрутку сюда закинули...
— Сидел, что ли, раньше? И где?— Из разговора я понял, что он хоть и молодой, лет двадцати восьми, но на зоне уже побывал.
— Сидел почти с детства: спецшкола, две ходки на зону. В Могилеве был, здесь на «семерке»,— ответил он.
— Говор тебя подводит: картавишь и тянешь, как латыш.
— Ты что, не веришь мне? Я не фуфлогон. Слов на ветер не бросаю. Это ты по ушам стреляешь,— возмутился Фик- сатый и снова перешел в атаку:
— А ты где раньше сидел?
— Где и все.
— Ты не финти, а правду говори.
— Я и говорю!
— А чего ты в изоляторе был, кто ты такой?
— Как кто — человек!
— Опять крутишь, уходишь! Мы тебя выведем на чистую воду!
Я понял, что за время моего отсутствия сокамерники обработали новичка, дали ему известную им информацию и натравили на меня. Значит, впереди — трудная камерная жизнь, а то и серьезный конфликт.
— А почему ты из камеры выломился? Петух, что ли?— назойливо допытывался Фиксатый.
— От петуха слышу,— не выдержал я.
Фиксатый вскочил, бросил ложку в миску, из которой полетели брызги:
— Что ты сказал?! Повтори!
— Поп глухим дважды молебен не служит,— ответил я, настораживаясь. Такой ответ, видимо, на мгновение сбил с толку новичка. Он снова сел за стол и стал есть уху, чавкая, как поросенок. Но его терпения хватило не надолго.
— А в какой ты хате был?— облизав ложку, снова прицепился он ко мне.
— В 208-й.
— С малолетками?
— Не помню.
— Опять фуфлонишь. А по какой статье ты привлекаешься?
— Слушай, дай спокойно поесть. Отстань, ради Бога. Уйди от греха подальше,— мирно попросил я. Но не тут-то было. Фиксатый, язвительно улыбаясь, продолжал:
— Не темни. Говори, по какой статье тебя судят? Мы все знаем.
— Пошел ты...— теперь я послал его подальше...
— Что?!— вспылил новичок.— Ты отвечаешь за свой базар? Ты знаешь, что по тюремным законам за это полагается?— и несильно щелкнул меня по носу. Мгновенно я влепил ему пощечину и выскочил из-за стола. Бросившись на меня, Фиксатый попытался ударить коленом в низ живота. Но удар у него получился несильный и неточный, так как я успел отклониться. Долго не думая, я нанес удар по наглой физиономии левой рукой сбоку, стараясь подцепить челюсть. Удар оказался весьма чувствительным. Хотя я старался бить несильно, опасаясь тяжких последствий. От удара новичок пошатнулся, но устоял на ногах. По его виду я догадалася, что соперник находится в нокдауне. Заметив, что сознание возвращается к нему, и не желая больше конфликтовать, я подошел к двери и нажал кнопку. В данной ситуации это было, на мой взгляд, самое верное решение: самому заявить о недостойном поведении сокамерника и тем самым обезопасить себя от наказания.
Двое других сокамерников молча наблюдали разыгравшуюся сцену. Но это было красноречивое молчание. По выражению их лиц можно было прочитать примерно такие мысли: «Дурень, пусть тебя калечат, а мы посмеемся.» Ко мне возвращалось спокойствие, хотя я уже представлял себе содержание предстоящего нелегкого разговора с работниками учреждения. Фиксатый, отдышавшись, устало опустился на скамейку.
— Ты чего нажал на «клизму»? Я больше не буду,— сказал он.
— Мне наплевать, будешь ты или нет! Как челюсть — двигается?
Фиксатый невольно потрогал подбородок и, не в силах широко открыть рот, злобно глядя на меня, хрипло промямлил:
— Ладно... Мы еще встретимся... Тогда и поговорим. Здесь не те условия...
Я заметил:
— Оно конечно, если бы с тобой было пять корешей, было бы гораздо легче...
Открылась кормушка и дежурный по корпусу спросил:
— Что случилось?
— Все в норме, командир,— опережая меня, закричал новичок. Я кинулся к кормушке и попросил:
— Мне бы с дежурным оперативным работником поговорить, потасовка произошла.
— Хорошо. Сейчас вызову.
Кормушка закрылась. Я измученно сел на скамейку, недалеко от новичка. Тот заговорил:
— Закозлил все-таки. Ну, я с тобой еще рассчитаюсь!..
— Не пугай. Каждый думает о себе. Мне нужна нормальная обстановка. А свои бойцовские качества ты уже показал...
Вскоре на пороге камеры появились старший лейтенант и дежурный по корпусу, старшина. Окинув оценивающим взглядом камеру, старший лейтенант спросил:
— Кто здесь скандалит?!
Я ответил:
— Переселите меня в нормальную камеру. У меня сейчас суд идет, нужна спокойная жизнь.
Высокий, подтянутый старший лейтенант предложил:
— Пойдемте, поговорим.
Поднялись на третий этаж в уже знакомый мне кабинет воспитателей. За столом напротив двери сидел спортивного сложения воспитатель. Он посмотрел на меня, ответил на приветствие. Старший лейтенант сел за стол слева от двери, предложил мне сесть:
— Ну, рассказывайте, что произошло?
Пересиливая волнение, я сбивчиво обрисовал картину
конфликтной ситуации. Под конец изложил свою просьбу:
— Войдите в мое положение: поселите в камеру с нормальными арестованными, желательно постарше и посолиднее. У меня сейчас самая тяжелая, ответственная пора — идет суд и я должен доказывать свою невиновность. Мне нужна спокойная обстановка, чтобы я смог все продумать, проанализировать, написать. Поймите меня правильно: я не требую ванны или жареной картошки с огурцом, прошу только создать относительно нормальную обстановку ...— Выговорившись, я с волнением ждал, что же ответит старший лейтенант.
— Конечно, конечно. Понять вас можно. Обыкновенному смертному и то с такими зверями трудно, а бывшему работнику правоохранительных органов вдвойне. И срок содержания под стражей у вас очень большой. Нервы вам потрепали изрядно. Это сказывается и на взаимоотношениях,— он перевел взгляд на своего коллегу, который молча слушал разговор.— Но мы не виноваты в том, что вас арестовали и так долго держат. Постараюсь вам помочь. Но не все от меня зависит. Пока я вас переселю в нормальную камеру. Доложу руководству, а они уже будут решать. Я постараюсь вас поддержать.
— Спасибо большое, что хоть немного обнадежили,— поблагодарил я от всего сердца. Но разговор на этом не окончился. Старший лейтенант достал из ящика стола бумаги, и, заглядывая в них, спросил:
— Вы писали жалобу в Президиум Верховного Совета СССР по поводу незаконного ареста, необъективности следствия? Вот она у меня.
Я очень удивился. Ведь еще дней десять назад я отдал ее на отправку, еще до судебного разбирательства, надеясь, что она вовремя поступит к председательствующему по делу и окажет влияние на мнение судебной коллегии при вынесении приговора. Но до сих пор администрация не передала жалобу по назначению, она гуляет по инстанциям, и даже странно видеть ее в руках старшего лейтенанта, который не имеет к ней никакого отношения. Перехватив мой недоуменный взгляд, работник изолятора пояснил:
— Начальство поручило мне с ней разобраться.
— А что с ней разбираться?— не понял я.— Давно надо было отправить.
— Мне поручили ее изучить,— продолжал, не обращая внимания на мои слова, старший лейтенант,— и решить, куда отправить. В Президиум Верховного Совета СССР мы не имеем права отправлять, а можем отправить только тому органу, за которым вы числитесь. Вот я и искал с вами встречи, но вы сейчас постоянно в суде, и не было возможности переговорить. Так что будем делать?
— Раз нельзя отправить в Президиум, отправляйте в Верховный суд. За ним я числюсь.
— Хорошо. Только напишите заявление на имя начальника, что просите направить ее в Верховный суд ЛССР.
«Ну и перестраховщики»,— подумал я и стал писать заявление. Получив мое заявление, старший лейтенант вложил его в папку, и предложил:
— Пойдем. Заберете свои вещи, и я вас отведу в другую камеру.
Завернув свои вещи в матрац, я покинул скандальную камеру.
— Мы еще встретися, побазарим!— прокричал мне вдогонку Фиксатый.
Меня привели к камере № 214. «Непонятно, заместитель говорил, что это этапка, что она очень нужна для прибывающих заключенных, а меня определяют снова сюда»,— удивленно думал я. Открылась дверь, и я вошел в уже знакомую камеру. В ней обитало трое жильцов. Все они имели постельные принадлежности, значит, это не этапники. Поздоровавшись, я положил постельные принадлежности на второй ярус и спросил всех сразу:
— Давно ли здесь, мужики?
Ответил розовощекий молодой парень:
— Неделю назад я был здесь один. А ты чего сюда?
— До выяснения особых обстоятельств, после мордобития,— пояснил я.— Но человек я мирный. Приходится защищаться. Думаю, уживемся. Только неизвестно, надолго ли я к вам?
— Здесь была этапная камера, а сейчас сделали обыкновенную,— вводил меня в курс дела тот же парень. Он был очень красив. Черные, как смоль, курчавые волосы обрамляли его румяное лицо с выразительными черными глазами.
душно рассматривая меня. Они показались мне маленькими, усохшими доходягами.
Из-за отсутствия скамейки я присел на кровать одного из них:
— А вы как сюда попали? Хвастайтесь!— спросил я, ни к кому конкретно не обращаясь. Но мне по-прежнему отвечал только красавец-крепыш:
— Я сам ушел из хаты. Был в 27-й, многоместной. Дурь там такая — обалдеть можно. Прописки, приемки, петухи, парашники, первостольники — чего только я там не увидел. Как только пришел, мне устроили прописку. Здоровье у меня отменное, все перенес от первого до последнего удара.— Говорил он с заметным украинским акцентом.— Правда, потом, с неделю, шею невозможно было повернуть. Всем телом поворачивался. Живот тоже несколько дней горел. Но все быстро прошло, а вид у меня внушительный, поэтому начал я тюремную жизнь с пятого стола. Я провел около месяца в этой камере, никого за стол первостольники не сажали сразу. Остальные ходят на четвереньках. Моют постоянно, убирают в камере. Даже табак забирают у них первостольники. А они окурки подбирают. Едят — кто на параше, кто на койке, а кто и на полу. Оборванные, грязные, голодные, худые. Дерутся из-за корки хлеба, из-за окурка, из- за места. Вон посмотри, перед тобой — образец, петуха,— показал он на лежавшего на койке рядом со мной тощего мужчину. Тот возмущенно встал и возразил:
— А что ты на меня пальцем тычешь, а он разве лучше?— в свою очередь показал мой сосед на еще одного сокамерника. Я внимательно посмотрел на вставшего. Парню было всего лет девятнадцать, а он показался мне вначале стариком. Маленький, тощий, с испитым страдальческим лицом. Одежда, грязная и рваная, висела на ни, как на колу. Черный не по росту пиджак был накинут на голое тело, брюки серые, не то естественного цвета, не то от грязи. На босую ногу были обуты красные грязные резиновые сапоги. Длинные волосы висели грязными космами.
Румяный крепыш продолжал свой рассказ: всю ночь, а днем им тоже спать нс давали. Так они гиг тип таскают. Скажи, хватало тебе «белков»?— многозначнтси. но спросил он тощего парня.
— Что тебе надо? У него спроси,— снова кивнул он в сторону соседа по койке.
— Ты на него не кивай. Он такой же петух, как и ты. Скажи, сколько ты за ночь обслуживал? Только честно,— наступал крепыш.
— Ну, троих,— и оправдываясь, пояснил: — А что я с ними, бугаями здоровыми, мог поделать? По бокам надают и в рот суют...
— А в задний проход? .
— Во все дырки пороли. Плакал я, просился. А им хоть бы что!— плаксиво оправдывался тощий.
— Мы тебя понимаем: с волками жить, по-волчьи выть,— как бы сочувствуя, подытожил крепыш. Чтобы прервать неприятный разговор, я спросил:
— А как здесь кого зовут?
— Меня Вадим,— представился крепыш.
— Меня Алоиз,— сказал тощий.
— Лаймонис,— коротко бросил с койки третий. Вадим тут же пояснил: — Оба они петухи, вот я и дал им клички: ему — Хилый, а лежащему — Слабый.
Я подумал: «Действительно, так оно и есть. Уж больно они слабые для мужиков. Почти дети: и ростом, и весом, и цветом.»
— Не обижаются?— поинтересовался я.
— Чего? Они запуганы. Здесь, как мыши, шмыгают. Боятся, чтобы обратно их не отправили,— пояснил Вадим.— Тут им благодать: спят, как сурки в норах. Они могут 24 часа в сутки не поднимать дерюжку. Удивляюсь. Я ночью не могу уснуть: в сутки три-четыре часа сплю. Переживаю. Мысли дурные лезут. А они оба сутками дуют в сопелки. Только на обед, да на «очко» встают.
— Не поспал бы ты месяц, как я,— отозвался Лаймонис.— Так тоже спал бы, как пшеницу продавши.
— Эй, Слабый, а ты-то сколько обслуживал?— Переключился на него Вадим. Но тот молчал.— Я к кому обращаюсь, петушарня?
— Двоих.
— Не стреляй по ушам. От двоих-то ты бы ночи не спал?
— Не давали, скоты. То один, то второй, потом лезли и остальные. Днем выспятся, а ночью кайф ловят,— жаловался Лаймонис.— Издевались, сколько хотели. По зубам били. Один так до сих пор шатается.
— За что?
— Не выдержал, одного укусил. Так меня потом так отдубасили, думал, ребра повыламывают, концы отдам. Еле выжил.
Мне стало жаль этих опущенных, убогих, обиженных судьбой заключенных, и я сказал обнадеживающе:
— Пока я здесь, мужики, никто вас обижать не будет. Здесь все равны. Я старше вас всех, мне и следить за порядком. Думаю, Вадим такого же мнения?— И, чтобы как-то расположить ребят к себе, добавил: — В мое отсутствие он командует парадом. Парень неплохой, только поболтать любит. Но это небольшая беда. Главное, что он вас не трогает. Ну, а чистоту в камере придется все-таки поддерживать. Каждый день мыть пол, посуду. Это не тяжелая работа. Никто не против?
— Да они у меня по очереди моют. Что здесь трудного: всего три минуты — пол протереть. Я их не обижаю,— пояснил Вадим.— Только вот у нас нет ни тряпки, ни тазика, ни ведра. Так мы вату дерем из матрацев и ею моем пол. Видишь, какая в углу куча мусора? Не во что его собрать и отдать. Просили, просили, ничего не выдают.
— Завтра на поверке еще раз попросим. Должны дать,— обнадежил я. Помолчав, добавил: — А лучше давайте напишем заявление оперу. А он даст указание выдать нам все, что полагается. А корпусцой — ненадежный человек. У него много других забот, забывает о мелочах да и не хочет возиться...
— Мы не против, уберем, если надо,— повел узкими плечами Алоиз, и на тощем лице его появилась довольная улыбка.
— Еще бы, Хилой, здесь тебе рай. Витаминов не хватает? Ну, ты нас извини: мы мужеложеством не занимаемся,— опять съязвил Вадим.
— Закурить бы?— будто не поняв издевки, вздохнул Алоиз.
— Да, закурить бы не мешало,— поддержал Вадим.— А ну, Лаймонис, посмотри, может, у тебя в кармане крошки остались? Так курить охота, хоть зверем вой. Вторые сутки без курева. Сегодня одну затяжку сделал.— Лаймонис наконец спрыгнул с койки. Ростом он был выше Алоиза. Немного полнее его и более круглолицый. Цвет лица желтоватый, зубы коричневые, неровные, губы и нос толстые. В общем, не красавец. Руки грязные и потрескавшиеся до крови. Одет был чуть лучше Алоиза. На нем была рубашка, а на ногах потрепанные домашние тапочки. Он стал выворачивать карманы и вытряхивать их содержимое на разостланную бумагу. Вадим собирал в кучу крупицы табака. Его оказалось мало для самокрутки. Тогда он достал из подушки кусок ваты и, ссыпав в нее табак, свернул цигарку и прикурил. Тут же сильно закашлялся, но сделал еще одну затяжку, огорченно сплюнул на пол и произнес:
— Жгучая, зараза, а курить охота.
По камере поплыл горький запах жженой ваты. Окна были открыты, и дым быстро улетучивался.
— Ты же и нам оставь,— предупредил Алоиз.
— Перебьешься, Хилой!— Но тут же уступил: — Ладно, уважу: оставлю вам двоим. Завтра, может, добудем как-нибудь. Ты попробуй, Хилой, попроси на поверке сигарету у корпусного. Может, даст.
— Напрасный труд,— ответил тот.— Не даст.
— Ты же еще не просил, а уже говоришь. Ты попроси, а он посмотрит на тебя, может, и сжалится. Попробуй, за спрос не бьют в нос.
— Ладно, сделаю. А где бы еще сообразить? Надо попробовать «коня» запустить. Может, у соседей есть?
— Мы же спрашивали. Ты что, забыл?— вмешался Лаймонис.— Сегодня утром кричали.
— Да я не об этих соседях,— медленно и картаво выговаривая русские слова, уточнил Алоиз.— Я говорю о тех, что сверху. Шаги слышны.
— А как ты туда закинешь «коня»?— пренебрежительно спросил Вадим,— Думать, Хилой, надо головой. Или у тебя вместо мозгов мякина?
— Вот я и думаю. Попробовать можно,— настаивал тот.
— Давай, действуй!
— А ну, взгляни, что у меня на лбу,— попросил я Вадима.— Что-то чешется. Может, какая нечисть укусила?
— Какое-то красное пятно...
— Опять,— сказал я дрогнувшим голосом.— Уже второй раз. Это у меня нервное...
Началась поверка. В камеру вошел старшина — пожилой усатый мужчина. Он внимательно посмотрел на обитателей камеры и спросил:
— Вопросы есть?
Я попросил у него ведро, тряпку и ящик для мусора. Он пообещал принести. Тогда вперед выступил Алоиз и пропищал:
— Дайте, пожалуйста, закурить. Третий день не курим.— Вид у него был удивительно жалкий, а улыбка унизительно-заискивающая.
— Газеты читаешь?— в ответ спросил старшина: — Там говорится о вреде курения. Рак может быть. Так что, сынок, нельзя. Ты вон какой бледный и худой. Дунь и повалишься. А курить будешь, вообще стоять на ногах не сможешь.
Видя, что заискивающая просьба не достигла цели, Алоиз обозлился:
— Кормить надо лучше. На такой еде разве только курица может прожить. А я человек!
Старшина удивленно посмотрел на него и хрипло заорал:
— Никто еще у нас не умер от такой еды. А бабу дай, так и полезешь на нее. Надо было не попадаться. Знал, небось, куда шел?— Круто развернувшись, он вышел из камеры.
— Ишь ты, здоровый, как бык, а глупый, как пень,— высказался вслед ему Вадим.
— А задело его, когда ты про жратву сказал. Покраснел он,— вторил Лаймонис.— Да еще нужно было сказать, что из этих наших восьми рублей в месяц на рубль-два они воруют, так нам остается для пропитания копеек двадцать на день. Вот и дают воду со щепоткой крупы, под названием суп, в обед — три картофелины с мукой, а на ужин — воду с отходами рыбы под названием уха. Вот так и существуем. Кто такую норму придумал? Запереть бы его сюда на недельку, сразу бы увеличил довольствие. Это форменное издевательство. Кому на свободе рассказать, не поверят, что так можно жить месяцами, а то и годами. Скотина бы сдохла, а человек выживает.— Помолчав, добавил:
— Хорошо, что хоть раз в месяц дачку можно получить от родственников. Я бы со своей комплекцией не выдержал.
— «Дачку!» — передразнил Алоиз: — Я уже третий месяц сижу, а ее не вижу. Хотя мне и передавали регулярно, да не мне она доставалась.
— Ты своей не видел, а я свою сам жрал. Поэтому ты худой, как щепка, а я еще в теле,— поглаживая грудь, хвастался Вадим.— И от бабы отказался бы. Не надо мне. А пожрать не мешало бы. Сосет под грудями. И курить хочется. Когда же все это кончится?..
— Ты, Вадим, сидишь совсем немного,— вздохнув, вмешался я.— А посиди с мое. Год в этом месяце будет, как я по камерам скитаюсь. Представь, через год все мытарства закончились: или домой, или на зону. Колония для меня теперь санаторием покажется. Ну а если дом родной — то это райское счастье.
— Не знаю. Наверное, не выдержал бы. Повесился бы к черту.
— Никто не вешается,— возразил я.
— И вешаются, и режутся. Почти никто по году не сидит в изоляторе: два-три месяца и — на зону. А там кормят лучше, гораздо лучше. Изолятор и не рассчитан на долгое сиденье,^ рассуждал Вадим.— Районный прокурор имеет право арестовать только на два месяца. Следователи в этот срок и укладываются. И только прокурор республики может наложить арест до шести месяцев. И как это ты умудрился год просидеть? Это незаконно!
— В том-то и дело, что все законно. Шесть месяцев — под следствием, шесть месяцев — подготовка судебного процесса. И неизвестно, сколько еще придется просидеть. Может, и год, и два. За судом можно хоть всю жизнь числиться. И в срок прокурорский это время не засчитывается.
— Так что, получается, можно на этой баланде и два-три года прожить?— удивился Вадим.
— И два, и три, и пять,— подтвердил я,— пока не вынесут из хаты ногами вперед. Да и умереть не дадут... Если заключенный часто падает в обморок, его — на больничку. Уколами нашпигуют (глюкозой, витаминами), организм подкрепят — и обратно в камеру. Через месяца три — снова. Видел я такого. Второй год здесь сидит. Живет, не хочет умирать.
— Все жить хотят,— высказался Лаймонис.— Так ты год продержался? Это на сколько рублей государство объел?
— Подсчитать не можешь, дебильный!— вмешался Вадим.— Двенадцать умножить на восемь. Сколько будет?
Лаймонис задумался, подсчитывая в уме, сколько получится. Все засмеялись. Прошло несколько минут, пока он выдал результат. «Девяносто шесть рублей — вот сколько на тебя государство потратило!» — обрадованно выдал он.
— Оно на мое лечение еще больше потратит. У меня раньше никогда живот не болел. Сейчас уже язва желудка. Выйду, лечиться стану. Сердце тоже стало сбои давать, ремонта требует. Печень тоже. А медицинское обслуживание у нас бесплатное. Вот и прикиньте, сколько это государству стоить-будет? Так что государство тут не выигрывает, а проигрывает.
— Всюду сидят бюрократы. Дальше своего носа не видят. А дай ему такую баланду, сразу во все инстанции станет стучать: помогите, братцы, умираю. Самое большое земное богатство — человеческое здоровье — отнимают,— язвительно заметил Вадим.
Слушая его, я сделал вывод, что парень для своего возраста хорошо развит и спросил:
— Вадим, какое у тебя образование?
— Техникум окончил.
— Какой?
— Индустриально-педагогический.
— И кем работал?
— Вначале учителем, а потом запил, бросил.
Дальше мне расспрашивать Вадима не хотелось. При случае сам расскажет. Я чувствовал себя уставшим, измученным физически и морально. Надо бы поспать, а на второй ярус лезть не самое большое удовольствие, и я предложил:
— Алоиз, давай заключим сделку. Ты маленький, юркий. Вдвое моложе меня. Тебе легче залезать на второй ярус, чем мне, старику. Махнемся местами? А я тебе завтра сигарет принесу. Идет?
— Хилой, не упускай момента! Давай быстрей перекидывай свою постель,— радостно вскричал Вадим.— Завтра курить будем!
— Конечно, конечно, я согласен. За табак я тебе последний пиджак отдам. Ты не куришь и понятия не имеешь, как тяжело... Я. с пятого класса дымлю,— частил он, перекидывая постель. Я быстро расстелил свою постель, обмыл ноги и лицо холодной водой. Лежа в койке, заметил:
— Что ни говори, мужики, а холодная вода успокоительно действует на нервную систему. Не зря врачи советуют: если хочешь быть здоров, закаляйся...
— Хилой и Слабый вообще не моются. Уже третий день к крану не подходили,— пояснил Вадим.
— Ну, это совсем не дело: за одним столом сидим, рядом спим. Так и паразиты заведутся.— Помолчав, я предупредил:
— На сегодня оставим все, как есть. Отбой уже был. А завтра с утра чтобы оба умылись, да с мылом. Поняли?
Но оба доходяги молчали. Я спросил:
— А мыло-то у вас есть?
— Откуда?— отозвался Лаймонис.
— Ладно. Я вам дам свое, но чтобы помылись...
Попытался уснуть. Но не тут-то было. Как только установилась тишина, снова нахлынули грустные мысли... Беспокоил недавний инцидент, тревожился о жене, о развитии судебного процесса... Ворочался, ворочался и незаметно уснул.
Утром все умылись, позавтракали. Для меня началось томительное ожидание вызова в суд. Когда меня пригласили в коридор, сокамерники еще раз напомнили о сигаретах. В коридоре я увидел человек десять арестованных и среди них Альфонса и своего подельника Кирпиченка. По дороге в распределительное помещение я обратил внимание, как возбужден Альфонс. Не реагируя на замечания контролера, он громко рассказывал, что прокурор запросил ему три года с отбытием наказания на стройках народного хозяйства, а, значит, зона ему не светит,
Предэтапная камера, куда поместили меня, была небольшая. Здесь уже находилось несколько мужчин. Мне показалось, что седобородый, худощавый старик, сидевший напротив двери, пристально наблюдает за мной умными задумчивыми глазами. Я присел рядом с любопытным стариком и, чтобы скоротать время, спросил:
— Ну что, батюшка, на суд едем?
— Да, сынок,— густо пробасил тот.
— Голос у вас церковный, никак из церковнослужителей?
— Оно если посмотреть с настоящей точки зрения, то я — преступник, а с прошедшей — священнослужитель.— Он перекрестился, приговаривая: — Помилуй, мя, господи Иисусе, и всех тех, за кого некому молиться...
— Спасибо, батюшка, спасибо,— удивился я.— Может, и обо мне помолишься?
— Отчего же, сын Божий, можно и за тебя. Ты верующий?
— Нет.
— Это плохо. Вера воспитывает своих чад духовно, призывает к нравственной чистоте.— И он снова перекрестился, приговаривая: — Господи, спаси всех нераскаявшихся.
— Как же так, батюшка: говоришь, церковь, писание учат не совершать преступления, а сам в тюрьму попал?
— Бес попутал, сын мой. За то и молюсь каждый день и до смертного одра своего молиться буду.
— А за что посадили?
— Взятку дал одному чиновнику,— уклончиво ответил бородач. Показалось, что он врет, но какое мне, собственно, до этого дело...
— Тюрьма всех примет. Здесь есть всем место: и святым, и грешникам.
— Ты прав; оно и в иные лета тоже было и пребудет во веки веков.
— Праздник большой для христиан приближается — 1000-летие крещения Руси. А ты здесь?
— Очень великий праздник! Молю Бога, чтобы сегодня отпустили меня. Надо дома быть. Обязательно торжество встретить по христианскому обычаю.
— А как это?— но ответа я не дождался. Отворилась дверь, и батюшку увели. В бокс впихнули еще двух арестованных. Судя по внешнему виду, это были малолетки. Они весело и громко разговаривали между собой, не обращая внимания на замечания окружающих. С утра я напряженно ждал предстоящую встречу с женой: был уверен, что несмотря на мои запреты, она обязательно будет в зале суда.
Так оно и вышло. Я увидел ее сразу, одиноко сидящую в пустом зале. Она тоже увидела меня. Вскочив, подняла руку, улыбнулась. Но улыбка была непривычно печальной, вымученной. Слава Богу, что на этот раз она не заплакала. Во время перерыва она все-таки приблизилась к запретной черте, и нам удалось на расстоянии переброситься несколькими фразами. Я узнал, что дома все в порядке, Инночка растет (вот такая уже — показала рукой до груди). Я попытался убедить ее не сидеть в зале, а сходить в город, погулять. По ее жестам и мимике понял, что переубедить ее невозможно.
Несколько раз подходил адвокат. Но никаких утешительных вестей я от него не услышал. Узнал только, что завтра суд переходит к допросам. Меня очень волновало, с кого начнутся допросы. Может, с меня? В списке обвиняемых я был первым. Но для нас, подсудимых, было бы лучше, чтобы допросы начались с потерпевшего Адамова. Тогда можно было бы попытаться, с учетом его показаний, откорректировать выступление в суде. Но кому первому начинать, суд меня не спросит. Я допускал, что допросы могут начаться и с Журбы, так как он, единственный из подсудимых, частично признал свою вину. Этим он меня здорово подвел. И даже не столько своим признанием, но, главное, тем, что свалил всю вину на меня. Хотя я не изготовлял данных экспертизы и не предъявлял их Адамову, а все делал он сам. Но сейчас Журба оказался в роли ангела, а я в роли черта-совратителя. И веры больше ему. Надо было предпринять какие-то меры, чтобы пробудить его совесть. Я тревожно посматривал на его защитницу. Та понимала смысл моих взглядов, но в ответ только удивленно пожимала плечами. Было ясно, что она не в силах направить своего подзащитного на путь истины. Журба упорно цеплялся за свои ложные показания. Вторым важным моментом для вынесения объективного приговора был вопрос о принятии мною дела к производству. В постановлении было указано, что я принял его 25 мая 1984 года. Фактически же — в июне. А постановление было оформлено задним числом по приказу Самохвалова. Я же не придал этому значения и погрешил против совести. Мне очень уж хотелось попробовать свои силы в сложном деле и прославиться. Если бы в постановлении стояла фактическая дата, моя роль в раскрытии преступления отошла бы на второй план. Я же, обуреваемый тщеславием и эгоизмом, старался доказать всем, что сыграл немалую, если не основную роль. Кроме того, не занес в протокол допроса заявление Адамова о том, что он написал повинную еще в изоляторе временного содержания, и ее изъяли работники изолятора. По этой же причине, заметив нерешительность работников дознания, я сам, правда, после консультаций, задержал Адамова на трое суток. Сейчас мне вменяют в вину и это задержание как незаконное, преступное. Так же, как и арест, к которому я не имел отношения. Но и тут всплывает этот злополучный день — 25 мая. Раз руководитель группы, значит, отвечаю за все. Хотя суду обосновать обвинение по ст. 174, ч. 2 будет довольно трудно. Только бы Журба говорил правду, что дело я принял в июне...
В остальной же части предъявленного обвинения Журба не мог дать показаний во вред мне. Допросы мы производили вдвоем и не стремились искусственно создать вину Адамова. Исходя из своих способностей, знаний и опыта, мы добросовестно фиксировали и закрепляли доказательства. В обвинении записано, что 24 мая к Адамову было применено незаконное воздействие, что повлияло на его показания. Но я его в этот день не вызывал и не допрашивал, что подтверждается документально. И Журба в этом случае врать не должен: не будет же он сам на себя наговаривать. Я был уверен, что сам Журба не мог оговорить меня; человек он сове- стлизый и порядочный. Но он мог создать фон, убедить суд, что незаконное обвинение Адамова создано не без моего влияния. Так его на протяжении нескольких месяцев настраивали милиционеры, и он робко заикался об этом, когда я находился с ним рядом. Выступать в суде по лживым подсказкам он, скорее всего, не осмелится. В одном я был уверен: если бы не нечистоплотность работников милиции, Адамов никогда бы не взял на себя убийство. Но его запугали. Открыто заявить об этом, судя по всему, я не смогу по двум причинам: во-первых, тем самым обозлю как многих свидетелей, так и подсудимых, которые в ответ начнут меня оговаривать. Я мог себе позволить только делать намеки на этот счет в виде общих рассуждений, которые не заденут подсудимых и свидетелей. Во-вторых, я был не так воспитан, чтобы подставлять других, когда они тоже оказались в беде. Я прекрасно понимал, как тяжело присутствовать на суде Бунькову, Волженкову и другим работникам милиции. Усугубить их муки было бы кощунством. Не мог я позволить себе такой роскоши, чтоб, подставив их, самому выйти на свободу. Если среди подсудимых начнутся трения, то непременно все окажутся в местах лишения свободы. В этой чехарде суд не сможет разобраться, насколько кто прав, а кто виноват.
Тем не менее с целью немного обелить себя я предпринял, кажется, тактически безболезненный ход для подсудимых. Во время чтения протокола я написал записку Журбе: «Толя, подумай хорошенько, зачем на себя брать то, что ты не делал? Зачем оговариваешь себя и меня? Этот подонок Адамов и так вылил на нас ушат грязи, а ты ему помогаешь, вместо того, чтобы очищаться. Милиция его закупила, запугала. Они виновные, а мы несем ответственность. Подумай хорошенько. Сороко.» Свою записку я постарался передать так, чтобы это заметил конвойный. Я свернул ее трубочкой и, сделав вид, будто не вижу, что на меня смотрит часовой, сунул бумажку в карман Журбы. В перерыве нас вывели из зала суда и на втором этаже, когда построили, старшина потребовал у Журбы отдать записку. Тот начал убеждать, что у него нет никакой записки, но затем достал ее из кармана и отдал старшине. Я был уверен, что эта записка теперь пошла по назначению: мой тактический прием удался. Но попала ли она именно к судье, я не знал. День прошел как обычно.
...Прозвучала команда: «Приготовиться в суд Касается Сороко и других по его делу». «Вот уже и назвали дело моим...» — только и успел подумать я.
Войдя в зал, сразу увидел одиноко сидящую жену. Она встрепенулась, сделала движение навстречу, потом вспомнила, где находится, осталась на месте. Но настроение у нее — это было заметно даже на расстоянии — было хорошим, она ободряюще махнула мне рукой, улыбнулась. Ее уверенность передалась мне, я внутренне собрался, приготовился к защите и нападению. Апатию и некоторую растерянность как рукой сняло, рассудок заработал трезво и четко.
Подошел адвокат.
— Завтра процесса не будет. Судья как будто занят...
— Странно. Только начали — и уже остановка. Растянут на полгода...
— Не должны. Судебные издержки и так немалые, не один десяток людей заслушать надо. А они все — приезжие... Гостиницы, суточные, проезд — все это требует больших денег.
— Ас кого взыскивать будут?
— Как правило, все расходы за счет подсудимых. Но тут не ваша вина, что дело в Латвии, а не в Белоруссии рассматривается. Так что вряд ли вам платить придется,— успокоил защитник и вдруг спросил: — Кстати, это ты просил, чтобы дело не рассматривали в Минске?
— Никого я не просил. Как-то в разговоре с Прошкиным сказал, что в Минске «родные* ЦК КПБ, прокуратура постараются «задавить» местный суд, чтобы красиво выглядеть перед Москвой, чтобы отрапортовать: «Ваше приказание выполнено». Вот и перекинули дело сюда, в Ригу. Вроде бы для объективности, но какая разница: и дома, и тут Прошкин с компанией правят бал Генеральный прокурор — он, ведь всего Советского Союза начальник.
— В общем-то ты прав, но надо каждое слово обдумывать. Оно, как понимаешь, не воробей...
— Официально я ии о чем не просил, заявлений но делал...
— Про это поздно говорить. Давай о сегодняшнем дне: какой порядок судебного следствия тебя устраивает? С кого начинать лучше?
— И мы с Журбой, и Кирпиченок с Буньковым считаем, что первым должен идти Адамов. Думаю, что и Волженков согласен. Мы уже заявили об этом суду. Хорошо бы, чтобы и вы, адвокаты, на этом же настаивали. У нас козырей будет больше...
— Тут мы с вами солидарны. Только вот как Кабанов, судья, посмотрит... Да и прокурор, Мартинсон, не подарок... Но попробуем убедить...
— Еще, Николай Васильевич, поговорите с защитником Журбы. Пусть она скажет Анатолию, что он сам себя в глухой угол загоняет. И меня топит. Нельзя же так!
— Он, по-моему, потерял ориентиры. Недавно написал адвокату записку, советуется, соглашаться с Прошкиным или нет. И эпизоды конкретные называет, где у вас просчеты были... Послание это, конечно же, перехватили. А это уже подарок следствию...
Журба сидел недалеко от меня, нервно теребил седую бородку. Его адвокат-женщина что-то торопливо шептала ему...
Я решил перевести услышанное в шутку:
— Может, он любовное письмо написал. Видите, как секретничают...
— Дай-то Бог. Но странностей у твоего подельника хоть отбавляй...
— После этих изоляторов и этапов в самом деле свихнуться можно. Нервы никуда не годятся, а ему, между прочим, уже пятьдесят...
— Прошкин только и ждет ваших подарков... Он против Журбы такой «букет» собрал, что диву даешься: преступление на преступлении. О тебе я уже и не говорю. Так что держись, вернее, держитесь вместе... Да, чуть не забыл: завтра тебе разрешена встреча с женой...
Я посмотрел в зал. Моя Людмила, видимо, все время наблюдала за разговором с адвокатом, потому что как только
он отошел, сразу же ободряюще кивнула мне. В ответ я поднял большой палец. Часовой тихо, но внятно сказал:
— Прекратить разговоры!
— А дышать можно?
— Можно!
— Спасибо на добром слове...
...Начало этого заседания сложилось не в нашу пользу. Судья не внял нашей просьбе, а пошел на поводу у прокурора, который настоял, чтобы вначале показания давали мы, обвиняемые, а затем лишь потерпевшие и свидетели. Это давало лишние шансы обвинению, лишало нас маневра. Зародилось подозрение, что процесс пойдет по заранее написанному сценарию, и нам отведена роль статистов, «мальчиков для бития». Надо признать, Прошкин и К0 и примкнувший к ним Мартинсон хорошо разработали тактику, продумали даже детали. Первым они предложили допрашивать не Владимира Бунькова, работника дознания, стоявшего у истоков дела, не меня, по сути, главного обвиняемого, а Анатолия Журбу, не выдержавшего испытания изолятором и наиболее морально сломленного. И расчет их, к сожалению, в некоторой мере оправдался...
Анатолий Журба, которого еще больше старила седая борода, начал говорить медленно, с трудом подбирая слова; голос его прерывался от волнения: он то и дело облизывал пересохшие губы. Хотя мне было в тот момент не до сантиментов, но я искренно пожалел этого бесконечно уставшего человека, от показаний которого во многом зависела моя собственная судьба.
«... У меня сложилось мнение о возможности совершения Адамовым убийства... Обстоятельства и факты говорили не в его пользу... У милиции появились данные, что Адамов изнасиловал Валентину М. Ему предложили сознаться, что он изнасиловал и удушил Кацуба, но никто ему не угрожал... Когда предъявили результаты экспертизы по сперме, он написал повинную... Писал ее он сам, никто ему не подсказывал. Написал несколько вариантов, они ему не нравились, рвал листы, начинал снова. Последний подписал, отдал нам с Сороко. После допросили, никаких наводящих вопросов не задавали, не подсказывали... Места убийства и захоронения трупа Адамов указал сам. Шел туда первым и привел за собой участников выхода... Никогда ни я, ни Со- роко в ходе допросов не угрожали, часто кормили за свои деньги... Потом я отошел от дела, вел его Сороко... Когда приехали с последнего обыска и привезли фотографию, я был в своем кабинете. В присутствии понятого прикрепил к ней бирку, дал ему расписаться... В кабинете ее никто не подменял...
Если я в чем и виноват, то лишь в том, что убеждал Адамова, будто его сперма абсолютно идентична сперме убийцы Кацуба. Но признания он писал собственноручно, никто ему не диктовал, никто не принуждал его оговаривать себя.»
Я внимательно слушал Анатолия. Дребезжащий, прерывающийся голос, понурый вид, нечеткость формулировок и даже собственной позиции — все говорило о том, что он морально сломлен, что обвинение заработало первые плюсовые баллы. Им двигало, как мне казалось, одно желание: быстрее бы все закончилось... Он почти дословно повторил показания, которые дал следствию, отказавшись, таким образом, от борьбы на суде. К тому же снова вспомнил о злосчастной экспертизе, причем сделав инициатором меня... В общем, несчастный, потерявший точку опоры человек, которому явно не по силам бороться с такой махиной, как прокуратура СССР.
Когда Журба на мгновение умолк, отыскивая что-то в своих записях, я глянул в зал и увидел, что там появился незнакомый человек... Темный костюм, желтая сорочка, очки в дорогой оправе. Заняв место в ряду напротив моей жены, достал блокнот и начал сосредоточенно записывать показания. «Вот и хорошо, пресса появилась,— догадался я.- - Объективности больше будет.» (После я узнал, что это был специальный корреспондент «Литературной газеты» И. Гамаюнов.)
По правде говоря, особых надежд на Журбу никто и не возлагал, тем более никто, в том числе и я, не рассчитывал, что он будет выгораживать подельников. Но вот твердости, честного и принципиального рассказа о методах, которые применяла следственная группа из Москвы, мы были вправе ожидать. Однако Анатолий предстал перед судом аморфным, безвольным; даже в абсолютно выигрышных для себя эпизодах не смог убедительно доказать правоту. Вроде бы и не допрашивал он Адамова, не выводил того на место убийства, не был безоговорочно убежден, что именно тот — преступник. Не осталось в бывшем следователе стержня, а, впрочем, видимо, его и не было... Согнулся он под, напором Прошкина, опустил руки, похоронил сам себя, усложнил и без того трудную защиту перед предвзятым обвинением и нам.
...Возвращались в изолятор в одной машине, даже, что случалось редко, в одной секции. Буньков и Кирпиченок искоса поглядывали на Журбу. И они были недовольны его невразумительными показаниями, которые к тому же некоторым образом бросали тень и на них. Он заявил в суде, что всех, кого он допрашивал, доставляли к нему работники дознания, а он лишь добросовестно записывал показания... А о чем с ними вели беседы «до того», он не знает...
— Толя, соберись ты с духом, не раскисай. Согласись, не получилось у тебя настоящей защиты,— успокаивал и в то же время убеждал я.— Теперь тебе придется отвечать на вопросы, и на мои тоже. Я их уже почти сформулировал. Ответишь четко, как было на самом деле, поможешь и мне, и себе. Ведь нас специально хотят поссорить, настроить друг против друга, найти или придумать противоречия...
— Устал я, голова раскалывается...
— У нас есть два дня, судья взял перерыв, отдохнешь, у тебя уже все позади, успокоишься. Я же не прошу тебя лгать, но не будь же беззащитным кроликом. Тебя что, Прошкин загипнотизировал?
— Надоело все...— Он безнадежно махнул рукой, умолк,
а потом вдруг проговорил: — И как это Адамов решился взять на себя убийство? До сих пор не пойму...
— Если считаешь, что он не виноват, то не уподобляйся ему теперь сам. На тебя Прошкин нажал, а ты и лапки кверху...
— Зря, видимо, я выбрал такую работу. И от дела не откажешься, и доказать вину нечем... А требуют.
— Вот это ближе к истине. Что ж нам, только спросить у Адамова надо было: не убивали вы, молодой человек, случайно гражданку Кацуба?.. Ах, нет?.. Что ж, извините, ради Бога, за беспокойство... И такси вызвать, чтобы домей отвезти...
— Черт его знает, как надо... Может, мы и перегнули палку...
— Что ж ты не сомневался, когда Адамов показал, где убил Кацуба, куда труп отволок? А перед тем повинную его принимал и читал?.. Не будь тряпкой, так ты и себя, и нас, Бог знает, в чем обвинишь...
— Действительно, надо отдохнуть,— закрыв глаза, прекратил разговор Журба.
...Как бы то ни было, суд над нами начался. И хотя мой бывший коллега изрядно подпортил и без того нерадостную картину, сдаваться без боя я не думал. У меня в запасе были контраргументы, добытые в ходе тщательного анализа обвинительного- заключения. Теперь знал я и позицию Жур- бы, выяснил, что из борьбы он выбыл. Что ж, в начале процесса и отрицательный результат надо попытаться использовать себе во благо: построить свои вопросы к Журбе так, чтобы он дезавуировал свои первые показания, сам опроверг их, и суд увидел, что перед ним не злоумышленник, а просто несчастный человек, потерявший веру в справедливость.
Но все эти тревожные мысли перебивало одно чувство — чувство радости от предстоящей встречи с женой. Уже одно только присутствие ее в зале добавляло мне сил, поднимало дух, прибавляло уверенности. А тут — такая долгожданная встреча: пусть в тюрьме, пусть под надзором, пусть недолгое, но — свидание с самым дорогим и близким человеком. И вот помещение для свиданий, почти ничем не отличающееся от подобного в Минском СИЗО. Только и разницы, что общаться можно с помощью телефона, а не примитивного переговорного устройства. То же пуленепробиваемое оргстекло, те же отполированные локтями узкие столы, те же наглухо закрепленные тяжеленные табуретки. И обязательный надзиратель, призванный следить «как бы чего не вышло...»
Людмила вышла из противоположной двери, и мы медленно, будто сомнамбулы, двинулись друг другу навстречу, пока не наткнулись на столы: она по одну сторону стеклянной стены, я — по другую. На ощупь взяли трубки телефона, но какое-то время не могли вымолвить ни слова. Я слышал только прерывистое дыхание, а сам смотрел и не мог насмотреться, отмечая появившиеся морщины, тревогу в глазах, необычную бледность. Мое горе легло на ее плечи еще большим бременем: ей надо было поддержать силу духа и во мне, и в своих родителях, и в моей немощной маме, а главное — одной воспитывать нашу Инночку. Надо быть очень сильным человеком, беспредельно верить другому, чтобы в такой критической ситуации не сдаться, не опустить руки, не впасть в отчаяние.
— Как дома?— наконец смог выговорить я.
— Все нормально, не беспокойся,— бодро начала жена, но потом не выдержала, губы ее задрожали.— Папа очень плох, лежит в больнице. Говорит, что боится тебя больше не увидеть. Совсем он сдал, ноги отказали, лежит пластом.
Глаза ее наполнились слезами, голос прерывался всхлипываниями, я видел, каких усилий ей стоит сдержать громкие рыдания. На грани истерики был и я, но неимоверным усилием останавливал себя. Пальцы, сжимавшие трубку, побелели от напряжения. Ногти другой руки впились в ладонь, скулы напряглись, страшно заломило в висках.
— Даст Бог, поправится отец... А как моя мама?
— Держится, не подает вида, что тяжело. Сама по дому управляется, ты же знаешь, она без дела не сидит ни минуты.. Говорит, ей так легче горе пережить...
Слова Люды, хотя она и успокаивала меня, падали на сердце раскаленными углями, жгли его, душа разрывалась от горечи и невозможности помочь самым близким людям, которые страдают из-за меня. Я понимал, что причина несчастья не во мне, что меня затолкнули под чудовищные жернова, но это ничуть не облегало их горе, не делало беду меньшей. Однако помочь не мог ничем, разве что — верой в свою правоту. Согласиться, что я преступник, что я умышленно обвинил в убийстве честного человека и добился его осуждения — этого мои родные не пережили бы.
— Инночка все про тебя спрашивает, каждый день пристает: «Когда это папа вернется из командировки?» — Тут жена не выдержала, слезы потекли по запавшим щекам, она торопливо достала платочек.
Тяжелее минуты, пожалуй, не было в моей жизни. Захотелось броситься на это глухое стекло, разнести его вдребезги, обнять плачущую жену, успокоить, закрыть от всех несчастий, принять все удары судьбы только на себя. Но, будто почувствовав мое состояние, строго взглянул в мою сторону контролер, попыталась улыбнуться сквозь слезы Люда.
— Она помнит папу, наша Инночка. И все больше становится похожей на тебя. Я ей говорю, что скоро ты приедешь. И сама верю в это. Должна быть на свете правда. Все говорит о том, что освободят прямо из зала суда. Так будет, поверь мне...
— Надо готовиться к худшему. Вцепились в меня мертвой хваткой. У следствия нет выхода: если не посадят меня, надо судить их. Столько грязи наворотили, что назад хода нет. Но я не сдамся, буду биться до конца. Скоро мой черед наступит, посмотрим, кто кого...
— Не горячись только, Валера. Я останусь, чтобы послушать тебя. Может, тебе легче будет. Знай, я всегда рядом с тобой. И Инночка тоже. Так что нас всегда трое. Ты у нас был и остаешься главным...
Я слушал родной голос, доносившийся из старой телефонной трубки, вглядывался в дорогое лицо, к которому так хотелось прикоснуться, и во мне все больше крепло чувство необходимости продолжать борьбу, ни в коем случае не сдаваться. Ради своего доброго имени, ради семьи, ради будущего.
— Валера, родной, ты только не обижайся,— вновь заговорила Люда, но голос ее чуть изменился, и я насторожился.— Наверное, я не права, но, может, тебе лучше согласиться с обвинением, не злить эту московскую мафию? Я советовалась с адвокатом, он такого же мнения. Говорит, что так лучше будет...
— Никогда. И ты, пожалуйста, об этом не думай. Не буду я на себя наговаривать. Как я вам тогда в глаза глядеть буду? Как знакомые, друзья отнесутся, что я будто бы ради карьеры невиновного в тюрьму послал. Правда — она всегда правда. Рано или поздно все станет на свои места. Но унижаться, а тем более — брать на себя то, чего не делал, не буду. Забудь об этом.
— Я же добра тебе хочу, ты пойми. Вон Журба тебе сюрприз преподнес, хочет за твою спину спрятаться. Не ждала я от него...
— Не каждый может вынести тюремную жизнь. Вот и он сломался. Что ж делать, старый, растерянный человек. Бог ему судья.
— Он тебя не пожалел...
— Да при чем здесь он. Это Прошкину с дружками надо, они его «раскрутили», наобещали, небось, черт знает чего. Возможно, сказали, что выпустят из тюрьмы, из-под стражи освободят до суда. А он и клюнул, как наивный мальчик. Здесь многие не выдерживают. Вот и я иногда срываюсь, даже кулаки в ход пускать стал. Рижский централ — это кошмар, беспредел...
— Вот я и говорю, не горячись. Береги себя хотя бы для нас, ладно?
В голосе Люды звучало неподдельное беспокойство, и я уже ругал себя, что не выдержал и упомянул о своих конфликтах. А жена вновь затронула неприятную для меня тему.
— Адамова встретила, он что-то не в своей тарелке. Мне показалось, что совесть в нем заговорила, какой-то виноватый ходит. Меня избегает, будто стыдится. Может, поговорить с ним?
— Ни в коем случае. Унижаться перед подонком я тебе запрещаю. Сама себя после казнить будешь. Оправдали его — его счастье. Я в тюрьму насильно не запихивал: сам признался, сам показывал, где убил, сам про вещи рассказывал. А что понадобился для ширмы Прошкину, с этим еще разберутся. Может быть, и я. Надеюсь, у меня будет для этого время. И возможности.
— Прости, но я уже с ним говорила. Обещал не катить на тебя бочки,— виновато проговорила Людмила, боясь посмотреть мне в глаза.
— Ну что ж с тобой сделаешь... Я понимаю, что ты хотела, как лучше. Только на будущее прошу: никаких контактов с этой темной компанией. Они наизнанку вывернут каждое твое слово, потом еще и в вину тебе поставят. Подальше держись от этого дерьма, не отмоешься после... И Прошкин, и Адамов сейчас сами, как на иголках. А вдруг суд не в их пользу сложится? Хоть прокуратура СССР и за спиной, но если судья взбунтуется? Что тогда?.. Им на мое место не хочется, а вероятность, пусть теоретическая, есть...
— Хорошо, Валера, не буду я их трогать, тебе видней...
— Осталось десять минут!— вклинился резкий голос женщины-контролера.
— Родной мой, мы с тобою рядом. Все друзья приветы передают, переживают за тебя; верят, что ты скоро будешь с нами,— заторопилась жена.
— Передай, что я ни в чем не виноват. А за поддержку спасибо, скажи, рад, что тебя одну в беде не оставляют. Встретимся, отплачу добром.
— Ой, Валера, чуть не забыла спросить. Как твой адвокат, помогает тебе?
— Честно говоря, ожидал большего. Несобранный он какой-то, разбросанный. Суетится, суетится. Взрослый мужик, а как мальчишка — все в бегах. Собственно, он мне и нужен был для связи с тобой, чтобы информацию какую-то получить, а то был в полном вакууме. Так что поживем, посмотрим, чем он мне поможет... Процесс, судя по всему, закончится не скоро...
— Придется поговорить с ним, подкрутить; хорошо, что сказал, у меня будет время... Как твое здоровье, как чувствуешь себя?.. Не побрился что-то...
— Здесь не СИЗО, а сумасшедший дом... Нравы, будто в притоне каком-нибудь. В Минске, конечно, тоже не рай был, но здесь настоящий ад. Понимаешь, забывать стал, как нормальные люди выглядят. Сброд со всего света, а администрации на все наплевать. Я бунтовать начал, переводят из камеры в камеру, но разницы нет... Иногда кажется, что всю жизнь провел в изоляторе, и выход отсюда только на тот свет, на кладбище... Боюсь, что освобожусь и руки за спиной все время держать буду, при встрече к стене поворачиваться... Забыл, что такое магазин, кинотеатр, дом наш, наконец. Будто в тумане каком-то, в паутине...
— Успокойся, не надо, Валера...
— Понимаешь, тупеть начинаю. В первый день, когда суд начался, спрашивают меня: «Когда дочь родилась?» А я вспомнить не могу... Кошмар какой-то... Ведь эта дата — 14 апреля 1982 года — ты же знаешь, самая счастливая в моей жизни, а тут — полнейший провал. Думал, со стыда сгорю или с ума сойду...
— Родной мой, все скоро окончится, и суд этот проклятый, и беда твоя... Отдохнешь, все станет на свои места... Мы любим тебя, мы поможем...
Но мои нервы снова сдали:
— Не жди ты меня, Люда. Зачем тебе бывший зэк? У тебя впереди целая жизнь, а моя песня спета... Развод я тебе дам, выходи замуж... Что ж обоим мучаться, ты не виновата. А Инночке, когда вернусь, буду помогать...
— Перестань сейчас же, слышишь! Как ты мог подумать только! Мы все ждем тебя, никто и никогда нам не нужен. Только ты! Дочка спит и видит, когда ты вернешься, только о тебе все разговоры. Она в танцевальную студию пошла, для тебя танец готовит. Говорит, приедет папа, похвалит. И вообще она на тебя похожая. Такая же добрая, такая же честная. А ты о глупостях заговорил... Выбрось из головы, не обижай нас... Ты нам самый родной, самый нужный, самый любимый. Запомни!..
— Прости... Измучился я, не хочу, чтобы и вы страдали из-за меня...
— Свидание окончилось!— Напомнили нам.
— Можно подарить вот эту безделушку?— я показал контролеру ручки, обмотанные цветными нитками. Их делал мой сокамерник, а я приносил ему от Журбы сигареты.— Для дочери подарок, пусть учится мне письма писать.
— Не положено! Запрещено!
Пришлось снести и эту обиду.
— Ничего, через адвоката передам... Пора прощаться, родная. Ты, пожалуй, езжай домой. Не мучься здесь, я как- нибудь один выдержу.
— Ни в коем случае. Я хочу послушать тебя... Все-таки вместе легче. Скоро увидимся...
— Повторяю, свидание окончено!
У меня перехватило дыхание, прощальные слова застряли в горле, на глаза навернулись слезы. А Люда плакала открыто, и я готов был на самый безумный поступок, лишь бы хоть немного уменьшить ее горе. Но мы были в тюрьме... Отчаянно махнув рукой, вышел из комнаты для свиданий. Меня ждала опостылевшая камера.
Ни о каком отдыхе в этот трудный вечер и речи быть не могло. Я десятки раз прокручивал в голове разговор с Людмилой, нещадно ругал себя за несдержанность... Даже сокамерники притихли, видя мое плохое настроение. Но надолго раскисать мне было нельзя. Предстояло задавать в суде вопросы Журбе, чтобы хоть как-то рассеять тягостное впечатление от его показаний, попробовать повернуть колесо удачи в свою сторону.
На допросе... у спецкорра
Кто — кого?
На кладбище
Утка с подбитым глазом
Охота на Кабанова
...— Скажите, Журба, кто возглавлял следственную группу в феврале 1984 года?
— Заместитель транспортного прокурора Самохвалов.
— Кто давал указание взять образцы крови, слюны и спермы у Адамова?
— Самохвалов. Вы в этом следственном действии не участвовали...
— Далее. Кто вел допрос Валентины Мачугиной 11 мая?
— Не помню точно. По-моему, мы вместе...
— Могу уточнить: я зашел к вам в кабинет к концу допроса...
— Не помню деталей.
— Принуждали мы ее к даче показаний?
— Нет, с нашей стороны никаких противоправных действий не было.
Большего мне от Анатолия, если учесть его состояние, и не нужно было. А ссылка на фактического руководителя группы Самохвалова ни в коем случае не подставляла того под удар: действительно, именно он приказал провести биологические экспертизы. Московский же следователь Прошкин вменял эту инициативу нам с Журбой и на этом основании обвинял нас в фальсификации экспертиз. Таких надуманных, притянутых за уши «доказательств» у Прошкина было большинство, и давать отпор ему нужно было по каждому эпизоду. Тем более, что мне вскоре самому предстояло предстать перед «светлыми очами» суда, и мой диалог с Журбой был своего рода разведкой боем. И по-моему, я провел ее довольно удачно.
И вот наступило время генерального сражения.
— Подсудимый Сороко, что вы можете сказать по предъявленному вам обвинению?
Я поднялся и, прежде чем начать говорить, отыскал глазами Людмилу. Она через силу улыбнулась мне, что-то прошептала. Мне показалось, что благословила. «Спасибо, родная...»
— Уважаемый суд, прежде всего я хочу заявить, что следствие велось крайне тенденциозно, абсолютно незаконными методами, с грубыми нарушениями Уголовно-процессуального кодекса. Я постоянно испытывал психологическое давление, был лишен элементарных прав, находился в информационном вакууме, мои жалобы на беззаконие не доходили до адресатов, а оседали в прокуратуре СССР. Вот поэтому я отказался давать показания следователю Прошкину и его подручным.
Такое начало явно озадачило суд. Председательствующий Кабанов начал что-то быстро записывать, обвинитель Мартинсон напрягся, подался вперед, а затем прикрыл глаза рукой, будто желая скрыть свои чувства, мой адвокат Данилов нетерпеливо заерзал на стуле. Краем глаза успел заметить, как застыла в напряженном ожидании Людмила. Как по команде, повернулись ко мне подельники: нервно хрустнул косточками пальцев Журба, шумно выдохнул воздух Кирпиченок, зябко повел плечами Буньков. А я после небольшой паузы продолжил выступление, а вернее — атаку на позицию следствия, причем главным объектом нападения выбрал Прошкина, нашего злого гения, подготовившего публичную казнь над нами.
— Прежде чем приступить к опровержению ложных доказательств следствия о моей вине в незаконном привлечении Адамова за убийство Татьяны Кацуба, хочу обратить внимание суда на эпизод, вроде не имеющий прямого отношения к главным пунктам обвинения против меня. Мне вменено в вину, что я к тому же сфабриковал на Адамова дело о хищении песка, гравия, земли и т. д. Но суду должно быть известно, что Адамов признался в совершении этого преступления не только на следствии, но и в суде. Факты хищения, продажи, а также использования автомобильного транспорта для перевозки стройматериалов и грунта подтвердили многочисленные свидетели. Осуждение по ст. 87
УК БССР Адамов никогда не опротестовывал. И пот теперь за него это сделал следователь Прошкин...
Отбросив этот довесок, я вновь перевел дух, еще раз посмотрел сквозь пластиковую стену в зал, как бы желая узнать оценку Людмилы. Она была сосредоточена, собрана. Едва заметным кивком дала понять, что держусь я на первых порах вполне нормально.
— Теперь, уважаемый суд, о главном. Сразу же, как и на следствии, категорически заявляю, что я не согласен с обвинением, выдвинутым против меня. Нисколько не умаляя своей роли в расследовании убийства Кацуба, прошу учесть, что это было первое дело такой сложности в моей профессиональной карьере, и именно поэтому я систематически советовался с более опытными коллегами; контроль постоянно осуществляли начальник отдела Ковшар, заместитель прокурора Самохвалов, сам транспортный прокурор Кладухин, наш куратор из прокуратуры БССР Комаровский... И никто из них не отказал мне в доверии, не усомнился в правомерности методов следствия. И если в отношении потерпевшего Адамова была допущена несправедливость, то это ни в коем случае не умысел, как инкриминирует нынешнее следствие, а трагическая ошибка. Поскольку Верховный суд БССР оправдал Адамова, я приношу ему искренние извинения и прошу поверить, что никакого предубеждения или предвзятости против него у меня не было.
Что это именно так, а не иначе, говорят, насколько странным это ни покажется, и так называемые доказательства и улики, собранные против меня и изложенные в обвинительном заключении. Беспристрастный суд (а я надеюсь, что моя судьба в руках именно таких судей) без труда установит, что обвинения в мой адрес настолько надуманы, притянуты, как говорят, «за уши», и стоит только отбросить за- данность, тенденциозность и грубую фальсификацию, как станет ясно, что заключение составлено вопреки всем нормам процессуального и уголовного права. То, в чем голословно пытаются обвинить меня и моих коллег, в самом изощренном виде продемонстрировали сами следователи прокуратуры СССР, и я надеюсь, что Прошкин еще предстанет перед судом.
Решительно взяв столь высокую ноту, я тем самым сознательно отрезал себе пути к отступлению. Собственно, такую наступательную тактику я применял с первой встречи с Прошкиным, ибо понимал, что пойти у него на поводу, униженно просить о снисхождении — значит потерять свое лицо, признаться в заведомой лжи, оговорить себя. Такого я себе позволить не мог.
— Прежде чем под подозрение попал Адамов, было отработано несколько версий, в том числе и причастность к преступлению Самсонова. Даже он сам отрицал какое-либо воздействие с моей стороны, но следствию нужны «жареные» факты, и вот появляется заведомая ложь о запугивании подозреваемого, о психологическом давлении, об угрозах. Никаких убедительных подтверждений этому нет и не может быть, но тут уже срабатывает принцип: «большая ложь похожа на правду.»
Первые, самые трудные, минуты остались позади. Десятки раз обдуманные доказательства укладывались в точно сформулированные фразы, голова была холодной, мысль работала четко. Я почти не смотрел в свои записи, память вовремя подсказывала нужные доводы и контраргументы. После преамбулы я перешел к детальному анализу всех тридцати эпизодов, в которых якобы действовал противоправно. Практически все обвинения в мой адрес базировались только лишь на показаниях Адамова, некоторых специально подобранных сокамерников, которым он рассказывал о каком-то давлении на него; родителей, желающих защитить сына и наказать его обидчиков; работников автокомбината, уличенных в воровстве и приписках.
— Против Адамова работали многие факторы: он находился в непосредственной близости к месту преступления именно в момент его совершения, затем преждевременно уехал в гараж, что пытался скрыть, дал лживые показания на очной ставке с бульдозеристом Цыбулько... Во время нахождения в ИВС написал повинную, в которой сознался в убийстве Кацуба. Детальные показания, которые может дать только участник либо свидетель события, укрепили уверенность следственной группы, что он причастен к преступлению. Затем он точно вышел к месту сокрытия трупа, подробно описал способ изнасилования и удушения, одежду, вещи погибшей, однозначно опознал Кацуба по фотографии. Неоднократно заявлял, что признался добровольно, раскаивается в содеянном, надеется на снисхождение...
Объективность и непредвзятость следствия удостоверена понятыми, участвовавшими в выездах и присутствовавшими при опознаниях. Свою точку зрения они подтвердили и при доследовании, и в Витебском областном суде, где дело слушалось и где Адамов был осужден. И если некоторые из них проявляют сегодня «забывчивость» или меняют позицию, то нетрудно догадаться, какой обработке их подвергли Прошкин и К° чтобы добиться желаемого результата. Еще в большей мере это касается Мочагиной. Меня и моих коллег обвиняют в том, что мы путем психологического и даже физического воздействия заставили ее оговорить Адамова, а заодно и себя. Голословность, недоказанность этих обвинений очевидна: и Журба на первом допросе, и я во время ее очной ставки с Адамовым дословно записывали показания, о чем свидетельствуют протоколы. Да, вначале она говорила, что Адамов пытался ее изнасиловать, затем отказалась от показаний, обосновывая свой отказ тем, что на нее оказывали давление работники дознания. Все это зафиксировано Журбой и мной, есть в официальных протоколах, подписанных Мочагиной и Адамовым. Таким образом, следствие по нашему делу руководствовалось принципом: «надо набрать побольше эпизодов, хоть какой-нибудь суд да оставит.»
Судья Кабанов при этих словах сделал какую-то пометку в своих бумагах, еще более сосредоточился.
— Когда Адамов отказался от показаний, заявив, что не убивал Кацуба,— продолжал я,— каждый новый допрос, каждый протокол начинался именно с этого утверждения. И я добросовестно фиксировал его слова. Затем он дал признательные показания следователю Казакову, заявив, что отказывался под воздействием сокамерников. Правдивость Адамова всегда вызывала сомнения, еще более усилило их неоднократное изменение им места сокрытия вещественного доказательства — сумки убитой. Вся наша группа была убеждена, что он боится сурового возмездия за преступление и поэтому умышленно затягивает следствие, боясь новых улик.
Опровергнув все пункты обвинительного заключения, замахнулся на большее:
— Хотя из-за условий содержания, из-за информационного голода я не могу знать всех тонкостей и деталей дела по обвинению Михасевича, который взял на себя убийство Кацуба, но у меня сложилось убеждение, что и там следствие работало «по заказу». Я сомневаюсь, что только он совершил приписанные ему убийства. Как сомневаюсь по сей день в невиновности Адамова. Он явно не сказал всю правду два года назад, не говорит ее и теперь. Все, что изложено в обвинительном заключении с его слов, является оговором меня и моих бывших коллег, а теперь подсудимых Журбы, БунЬкова, Кирпиченка и Волженкова. Руководит Адамовым чувство мести, а еще больше — страха, что тайное станет явным и за ложь придется.отвечать.
Бескомпромиссная позиция, занятая мною, пришлась явно не по нраву и судье Кабанову, и Адамову. Первого своим выступлением я поставил перед неразрешимой, как я сейчас понимаю, дилеммой: либо полностью оправдать нас, что никак не согласовывалось с указаниями свыше, либо осудить, для чего явно не было оснований. Будучи опытным юристом, он понимал, конечно же, что обвинение необъективно, сфабриковано, и, как мне кажется, давно сожалел, что взялся за это дело. Поэтому он делал перерывы, с кем- то консультировался, получал инструкции. Адамов же, настроенный Прошкиным и, как оказалось потом, обласканный корреспондентом «Литературной газеты» И. Гамаюновым, попытался задать мне каверзные, по его мнению, вопросы. Но эти его потуги поймать меня на какой-нибудь детали, причем явно выдуманной, успеха не имели. Как и явная агрессивность его друга шофера Николая Козлова, который проходил свидетелем по дЬлу Адамова. Он был причастен к хищениям, наказан за это, правда, по административной линии. Вот теперь появилась возможность отыграться на мне, унизить, плюнуть в душу. Но из этого фарса ничего не вышло, все их попытки что-либо противопоставить моим доводам оказались тщетными.
В глубине души я понимал, что восстанавливаю суд против себя, что лишаю Кабанова возможности маневрировать, что прокурор Мартинсон и стоящий за его спиной Прошкин лишь усилят давление, чтобы провести нужное им решение. Но поступиться своей честью не мог даже в такой критической ситуации. К тому же осознавал, что орудия главного калибра будут бить по мне, и уйти целым и невредимым с поля боя мне вряд ли удастся. Обвинительное заключение, составленное Прошкиным, хотя и было абсурдным, обладало своей порочной логикой — признав один эпизод, я автоматически обязан был соглашаться со следующим. В итоге получалось искомое и так желаемое Прошкиным: «обвинил заведомо невиновного и добился его осуждения на длительный срок...» Брать такой грех на душу я не собирался.
Начисто отверг все обвинения в свой адрес и Владимир Буньков, бывший начальник уголовного розыска линейного отдела милиции. Уже 7 февраля 1984 года, когда был обнаружен труп Кацуба, он выезжал на место преступления, вел дознание, определял круг подозреваемых. У него в кабинете Мочагина узнала на фотографии Адамова, назвав его Винни-Пухом. К нему же поступила информация о том, что Адамов пытался изнасиловать ее, но она боится в этом признаваться, ибо водители грозили ей расправой. Участвовал он и в выездах на место преступления, и в обысках. Был, в общем, в эпицентре событий. Ему Прошкин приписал почти такой же «букет» преступлений, как и мне: и запугивание, и физическое насилие, приведшие Адамова к самооговору, затем к попытке самоубийства. Владимир твердо стоял на своем: когда Адамов точно указал место, где спрятал труп, он поверил в его виновность безоговорочно. Так ориентироваться на заросшем кустами болоте мог только человек, который был уже здесь раньше. Никто никаких подсказок или наводящих вопросов Адамову не давал и не задавал, он действовал самостоятельно. И завершил:
— Считаю свои действия вполне законными, а обвинения в мой адрес беспочвенными.
Выступление Бунькова вызвало у меня двоякое чувство. Конечно, было хорошо, что он дал отпор Прошкину, уличил того в предвзятости. Но если верить Адамову, что первую повинную он вначале написал и отдал в изоляторе временного содержания, а уж только затем, после долгого колебания, мне с Журбой, возникало подозрение, что милиционеры вели какую-то двойную игру, не давали нам полной информации. На этот вечный конфликт между органами МВД и прокуратуры и рассчитывал Прошкин, пытаясь поссорить нас, столкнуть лбами, заставить бороться не столько за правду, сколько за спасение собственной шкуры. И Буньков, вольно или невольно, поддался на эту нехитрую уловку, дистанцировавшись от следствия. Милиция, мол, только выполняла указания прокурорских работников, была вспомогательным органом. Бывший начальник угрозыска будто забыл, что вначале Адамов проходил через их ведомство, что оперативную разработку проводили его люди, что задержали на 15 суток подозреваемого опять-таки милиционеры. Ответственность, как и недолгую славу, надо делить поровну. И доказывать свою правоту вместе. Тем более на суде, где каждое слово стоит так дорого.
Как бы то ни было, но Буньков вслед за мной заявил: вины за собой не вижу, преступлений не совершал. Это нас с ним объединило, хотя особых симпатий мы друг к другу, естественно, не испытывали. И потому обоим стоило немалого труда сдерживать эмоции, когда после выступления Бунькова всех подельников в перерывах между заседаниями и перед их началом стали содержать вместе, в боксе № 5. Чем была вызвана такая «милость» суда, достоверно сказать не могу. Мы сами неоднократно строили догадки по этому поводу, пока осторожный Журба не высказал предположение, что нас... просто подслушивают. Судья Кабанов — это было видно, как говорят, невооруженным глазом — растерялся. Мы методично, по кирпичику, разбирали шаткую стену доказательств, которую возвели Прошкин, Суханов, Андреев и иже с ними. И как ни старался залатать зияющие бреши прокурор Мартинсон, позиции обвинения становились все более уязвимыми. На каждом заседании я вступал с ним в открытый бой, разбивая его надуманные аргументы (а точнее — липу Прошкина). Причем неожиданно для Мартинсона показания в нашу пользу стали давать даже те свидетели, на которых он стопроцентно надеялся. Как только они начинали рассказывать, как действительно было, что они воочию видели, что сами слышали, а не излагать нужную Прошкину версию, все становилось на свои места. А на свет Божий, сквозь паутину и грязь, вылезли «уши» Прошкина и его бригады. Впору было закрывать наше дело и начинать новое, по обвинению сегодняшних обвинителей: ведь еще не выступали в суде Кирпиченок с Волженковым, не представал во всей красе сам Адамов, а противоречий, нестыковок, явных натяжек уже было хоть отбавляй. Вот и свели нас вместе, чтобы прощупать, узнать, что еще есть в нашем активе, какую мину мы можем заложить на ухабистой дороге под скрипучий воз и без того еле ковыляющего процесса. Мы решили подыграть следствию, которое, грубо нарушая УПК, продолжало активно «давить» на суд.
— Мой адвокат сказал, что Суханов уже подыскивает себе новую работу. Влип, как кур во щи...
— Да, не думал ok, что Голынская подложит ему такую свинью. Надо же: сельская девчонка и посадила в лужу таких спецов... Этот арап Суханов, конечно, думал: напишу, что захочу, та и подмахнет протокол...
— Подмахнула, а теперь все выплыло наружу. Говорила ей Мочагина, что Адамов пытался изнасиловать ее, она и дала такие показания мне...— Валерий Кирпиченок будто готовился к своему предстоящему выступлению.
— Теперь уже Кабанов и весь суд затылки чешут: а вдруг еще одна фальшивка на свет божий вылезет. Что тогда?
— У Прошкина такой липы хоть отбавляй, практически каждый эпизод из пальца высосан.
— Чувствует, что земля под ногами горит, мечется между Адамовым, свидетелями и судьей. Не рассчитывал, конечно, что с первого дня по зубам получать будет...
— Только бы Кабанов не сломался, устоял...
— Сложно ему. Все-таки надзор за судами осуществляет прокуратура Союза, с ней конфликтовать опасно. Не угодишь сегодня — завтра найдут любой другой грех. Надо крепко на ногах стоять, чтобы против ветра...
— К тому же суд затягивается, свидетели не являются, издержки растут...
— Да, у нас с вами процесс века... Михасевича с его десятками убийств нашли, дело расследовали, приговор вынесли... А тут волынку тянут уже скоро два года...
— Ты что, торопишься вслед за Михасевичем?..
— Типун тебе на язык. Я это к тому говорю, что они его не зря быстро на тот свет отправили. Навесили все нераскрытые убийства, а ему один черт — три, пять, двадцать или сорок. Все равно — вышка. Узнай теперь, кого ему подсунули, а кто действительно на его совести...
— Тут сомневаться нечего, у них хватка мертвая, кого угодно сломают. Наглые до предела. Обвиняют нас в нарушении соцзаконности, а сами плюют на этот закон. Что ни эпизод — то подтасовка.
— А свидетелей как обрабатывают? Кошмар!
— В 37-й год возвращаемся, пятьдесят лет прошло, а методы те же. На костях коллег карьеру делают...
— Ведут дело о нарушениях, а сами не просто нарушают, а грубо попирают закон...
Не знаю, дошли ли наши филиппики до Кабанова, но в конце ноября он вновь неожиданно взял двухнедельный перерыв. Скорее всего, ему надо было проконсультироваться у власть предержащих. Процесс явно не укладывался в прокрустово ложе, сварганенное Прошкиным. Как ни старался прокурор Мартинсон усеченными выдержками из протоколов, давлением на свидетелей «подкормить» дышащее на ладан дело, подтянуть его к выводам обвинения, с каждым днем становилось все более ясным, что, как говорят, «факир был пьян, и фокус не удался...» Так называемые улики, собранные против нас, на поверку оказывались плодом больной фантазии следствия, облеченной, тем нс менее, в одежды справедливости. Не находили доказательства обвинения в предвзятости к Адамову, недоказанными оставались выводы о моральном и тем более физическом насилии. Вот-вот должен был сработать эффект бумеранга — дело оборачивалось против его нечистоплотных создателей.
Строить догадки о причинах неожиданного перерыва, обдумывать варианты дальнейшей защиты пришлось после «новоселья» — всех четверых перевели из Рижского централа в следственный изолятор КГБ. Честь быть гостем такого привилегированного учреждения мне выпала во второй раз, впервые я попал в СИЗО КГБ еще в Минске, отправил меня туда прямо из прокуратуры БССР сам Прошкин.
«Вот и замкнулся круг»,— невесело улыбнулся я, разглядывая новое жилище. Камера крошечная, не более пяти квадратных метров. Вдоль стены одноярусные нары, между ними проход, протиснуться можно только боком. Узкое окно под потолком, сквозь решетку виднеется кусочек голубого неба. И глухая тишина — единственное, чему я обрадовался после диких скандалов и кошмаров, с которыми столкнулся до этого буквально в каждой камере Централа, где мне довелось сидеть. Драки, грязная ругань, вымогательство, нечистоплотность — все это, слава Богу, осталось позади...
Хоть это и прозвучит для стороннего человека дико, изолятор КГБ понравился и моим подельникам.
— Кормят гораздо лучше. Все-таки каша, а не вонючая баланда,— поделился впечатлением Буньков, когда мы встретились в суде.
— В душу никто не лезет, не вопит над ухом. Спокойно обдумать все можно.— Это оценка Кирпиченка, который готовился к выступлению в суде.
Больше всех был доволен Журба:
— Не верилось, что буду спокойно спать. Меня же в Централе чуть не сожгли. Проснулся, а матрац дымит. Чуть оклемался. А один раз в ботинки мне нагадили, сволочи...
Я молча слушал этих взрослых мужиков, и горькая обида сжимала сердце. Насколько же надо было унизить, до какого состояния довести их, да и'меня тоже, чтобы мрачная камера-одиночка показалась чуть ли не раем, а порция перловки — почти парижским деликатесом. Как же после этого можно пойти на поклон к Прошкину, разве мыслимо простить ему все эти муки и унижения?! Ни за что!
Во время этой непредвиденной паузы меня, наконец, соизволил посетить адвокат. К сожалению, оправдалось мое впечатление: несобранный, суетливый, необязательный человек. К тому же — явно неавторитетный. Он по сути дела отбывал повинность, хотя взялся защищать меня за немалую плату. Данилов имел странную, мягко говоря, привычку, особенно если учесть его профессию: он постоянно находился в состоянии полудремы. Даже незаинтересованному человеку было видно: все происходящее на заседаниях ему глубоко безразлично. Только изредка, стряхнув на время сон, он задавал один-два вопроса, причем зачастую — невпопад. Мои подельники не раз откровенно посмеивались над ним, а , значит, и надо мною. «На чью мельницу он льет воду?» — интересовался не раз Буньков. «Кто ему платит деньги: ты или Прошкин?» — подключался и Кирпиченок. Крыть мне было нечем, и я бесился от злости на моего «надежного» защитника. Так что встретил я Данилова не очень ласково:
— Я уж заждался вас, Николай Васильевич. Давно обещали придти...
— Вот зубы разболелись, места себе не нахожу.
«Посидел в изоляторах с мое, все болячки вылезли бы наверх, не так запел бы»,— неприязненно подумал я, пытаясь поймать убегающий взгляд адвоката. А вслух спросил:
— Как впечатление от процесса? Что говорят в кулуарах?
Данилов сделал испуганные глаза, приложил палец к губам, затем показал на стены, ладонью изобразил наушник. Из этой мимической сцены я понял: он опасается, что в комнате, где мы находились, может быть микрофон, и надо, мол, опасаться говорить лишнее. Но никаких секретов у ме- |ня не было, тем более, как я чувствовал, не богат информацией и он. И поэтому настойчиво переспросил:
— Что думают ваши коллеги? «Задавит» Прошкин Кабанова или нет?
Адвокат тяжело вздохнул, укоризненно покачал головой, осторожно произнес:
— Судья — скрытный человек. Никто не знает, что у него на уме...
— А все-таки: отправит он дело на доследование или нет?
— Трудно сказать. По идее, должен. Прошкин этого больше всего и боится. Только за ним прокуратура СССР, а это, сам понимаешь, не подарок. Они из кожи вылезут, но своих в обиду не дадут...
— Тогда мне долго еще баланду хлебать.
— Не все так и страшно,— уловив перемену в моем настроении, поспешил успокоить Данилов.— Кабанов на перепутье, только ты его не дергай постоянно, не выводи из себя.
— Так что же, молчать, когда на меня «чернуху» валят? Зуб за зуб...
— В принципе, ты прав. Мои коллеги одобряют твою линию. Правда, может, у них свой интерес... Ты все удары на себя примешь, а их клиенты за твоей широкой спиной отсидятся...
«И ты отсиживаешься, нос по ветру держишь»,— недобрым словом помянул я в душе защитника.
— Понимаешь, ты вынуждаешь Кабанова или полностью принять твою сторону, или продублирвать Прошкина. Во втором варианте тебе светит лет пять...
— Откуда такие сведения?— взвился я.
— Адвокаты прикинули,— уклончиво ответил Данилов и опять начал утешать: — Это все — наихудший вариант, Кабанов не пойдет на него. В активе у суда —ноль целых, ноль десятых. Только вот Журба тебя подвел.
Напоминание о показаниях Журбы, где он бросил на меня тень, вновь резануло меня по сердцу. Настроение упало.
— Когда Кабанов давал разрешение на свидание с тобой,— продолжал адвокат,— чуть ли не попросил, чтобы ты вел себя посолиднее, поспокойнее. Замучил ты его ходатайствами, вопросами... Поменьше эмоций, Валерий...
— Эту глухую стену из рогатки не пробьешь, тут заряд посильнее нужен, Вот и луплю, что есть силы. К тому же, Николай Васильевич, нервы ни к черту стали. Одичал среди всей этой уголовной шпаны, скоро на людей бросаться начну. Больше года в камерах обретаюсь. Больше года, вы поймите!..
— Держись, скоро все окончите*. Глядишь, а там и воля.— Данилов хотел меня ободрить, но тон был слишком уж фальшивым, и он переключился на другую тему: — Жена привет передает, верит, что все будет хорошо. Только вот дома дела неважные: тесть болен совсем. Надежды на выздоровление мало.
— Да, несладко Люде. Там беда, я в клетке. Хоть разорвись... Но ничего, будет и на моей улице праздник!
— Вот это лучше, тебе падать духом нельзя, не время.— Данилов оглядел кабинет, помялся, будто не. решаясь сказать что-то очень важное, потом махнул рукой.— Из Витебска новости есть. Вроде пятерым следователям предъявили обвинение по такому же делу, как ваше. Но под стражу не взяли... Ждут, что с вами будет, как Кабанов решит...
— Сволочи. Хотят нами прикрыть все «Витебское дело».
— Или запустили пробный шар. Прокуратура Союза приценивается: стоит большой шум поднимать, не выйдет вся эта затея боком?
— Мы вроде подопытных кроликов, значит? Или публичную казнь хотят устроить: наказали, мол, Сороко и компанию за нарушение социалистической законности. А за ширмой свои делишки обделывают... Уму непостижимо!
— Может, еще и обойдется все. Вот Кабанов перерыв взял, вроде бы в Москву, в Верховный суд СССР едет советоваться. Боится на себя ответственность брать. Только подпроцесса позади, а уже почва под ногами колеблется. А еще двое ваших не выступали, какую пилюлю приготовили? Да и Адамов, хотя и нашпигован Прошкиным, «поплыть» может. Особенно после твоих вопросов. Так что шансы есть, я думаю.
— Давайте тогда обсудим их,— и я раскрыл свои тетради, разложил на столе записи, которые вел во время заседаний. Адвокат был вынужден согласиться. Именно вынужден: он часто поглядывал на часы, перескакивал с эпизода на эпизод, не хотел вдаваться в детали. Я ждал от него помощи, мне нужен был нс столько единомышленник, сколько оппонент — в споре рождается истина. Но Данилов оставался самим собою: скомкал разговор, заторопился:
— Чего зря копья ломать. Может, вернется Кабанов из Москвы, отправит дело на доследование...
Этот нехитрый тактический ход обидел меня. Было ясно, что мой защитник хочет побыстрее отделаться от меня, что мыслями он уже давно дома, в Минске.
— Ладно, Николай Васильевич, передавайте привет всем моим родным. Жену утешьте, маму, скажите, что я не падаю духом. Условия здесь, в изоляторе КГБ, чуть получше, так что нервы успокоятся, может.
— Будь спокоен, все сделаю, как ты говоришь. У них там конфликт маленький произошел...
— Что случилось?— встревожился я.
— Мать и сестра твоя упрекнули Людмилу, что она мало внимания тебе уделяет. А она обиделась. Повздорили, но теперь помирились; им надо вместе держаться. Их понять можно: переживают за тебя, издергались, вот и срываются иногда. К тому же — женщины, ревнуют тебя друг к другу.
Это сообщение оставило неприятный осадок, но я заставил себя придать ему другой оттенок: значит, не забыли меня, не безразличен им, коль даже ссорятся из-за меня. Дай- то Бог, чтобы все у них было хорошо, насколько это возможно.
— Скоро увидимся, не падай духом!— нажимая на кнопку звонка, чтобы вызвать моего конвоира, торопливо говорил на прощанье Данилов.— Отпустят из зала суда, по сто граммов выпьем за победу!
«Больше сотки тебе за безделье и не положено. Сидишь больше для мебели, а на самом деле ничем не помог. Мои заботы и тревоги тебе безразличны. Только номер отбываешь...»
С такими нерадостными думами вернулся я в камеру, где меня ждал Кирпиченок. Да-да, продержав нас несколько дней в одиночках, администрация СИЗО с разрешения судьи поселила нас попарно: я оказался с Кирпиченком, а Журба с Буньковым. Впервые за многие месяцы было с кем откровенно поговорить, даже излить душу, посоветоваться и дать совет.
Конвейер судебного заседания работал с перебоями. Сценаристы и режиссеры показательного спектакля оказались на поверку дилетантами, им явно не хватало профессионализма. Вернее, они были профессиональными фальсификаторами — этого от Прошкина и К0 отнять нельзя, но на процессе даже нам, подсудимым, было временами неловко за столь дремучее, в духе Вышинского, юридическое невежество, какую-то прямо патологическую злобу. Как и в 1937- м, законность служила фиговым листком, за которым следствнная группа творила явное беззаконие. Вопреки канонам юриспруденции, Прошкин и сотоварищи продолжали собирать на нас компромат даже в ходе судебного разбирательства: проводили допросы «нужных» свидетелей, обрабатывали их, затем отправляли в Ригу. Это была своеобразная, причем неприкрытая, подпитка позиций обвинения, прокурора Мартинсона, аргументы которого таяли с каждым днем, не находя подтверждения в суде. Все эти действия нагло попирали Уголовно-процессуальный кодекс, ибо следователь, составив обвинение и отдав его прокурору на утверждение, не имеет права влиять на дальнейший ход дела. Но Прошкин, Мартинсон да и судья Кабанов, на глазах которого творилось явное беззаконие, шли ва-банк, на карте стояла их карьера. Они были запрограммированы только на наше осуждение, а ради достижения такой «высокой» цели все средства были хороши. Все это было настолько очевидно, делалось столь открыто, что мы, оказываясь в одном боксе накануне суда или во время перерыва, всерьез задумывались, как раскрыть этот преступный сговор. Причем предложения были самыми неожиданными, даже фантастическими.
— Надо собрать деньги, нанять агентов, которые зафиксируют все встречи Прошкина, Мартинсона и Кабанова...
— Подслушать бы их телефонные разговоры...
— Сфотографировать их сборища...
— Подключить Волженкова. Он на воле, у него есть деньги. Пусть займется...
— Может, женам сказать? Они быстрее найдут нужных людей...
Несмотря на несбыточность этих планов, на их нереальность и даже абсурдность, мы все-таки надеялись, что тайное станет явным, что подтасовки, подлог выплывут наружу, и держать ответ перед законом придется уже Прошкину. И первый кирпич в фундамент его обвинения будет заложен в ходе суда над нами.
...Настала очередь выйти на первые роли Валерию Кир- пиченку. Он был младше всех нас, менее подкован юридически, поэтому заметно волновался, нервничал. В боксе, где нас собрали перед судебным заседанием, он, будто студент накануне экзамена, просматривал записи, тормошил остальных:
— Как вы думаете, мужики, начинать с атаки на прокурора или не трогать его?
— Ты же давно это решил, а теперь, что, в кусты?
— Может, не злить, не задираться?
— Тогда сразу сдавайся, стань на колени...
— Вот этого не будет! Я помню, как он тут распинался, что в органах должны работать люди с горячим сердцем, чистыми руками и холодным умом. Дзержинского вспоминал. А сам какой сволотой оказался, все выворачивает наизнанку, чтобы сеть свою паучью сплести.
Кирпиченок умышленно заводил себя, настраивал на нужный тон. В общем, делал разминку, разогревался перед боем. Опыт спортсмена ему пригодился...
— Приготовиться к выходу!— послышалась команда.
— Ну, с Богом!— перекрестился Кирпиченок и направился к двери.
— Не торопись, пусти Сороко вперед. Не ломай традицию... Веди нас, любимый вождь,— нашел в себе силы пошутить Буньков.
Гуськом — я впереди, за мной остальные — вошли в опостылевший уже зал.
— Подсудимый Кирпиченок, вам слово!
Валерий побледнел, облизнул пересохшие губы, встал и негромко, подбирая слова, а вернее, вспоминая много раз отшлифованные в камере фразы, начал говорить. Вообще- то он скорее был человеком действия, а не слова, но буквально запойная привычка читать (кстати, спиртное для Hern нс существовало) натренировала память, он как бы видел перед глазами прочитанную страницу и воспроизводил ее вслух.
Первоначальное волнение проходило, выступление приобрел необходимую стройность. Когда речь шла о неправедном, пристрастном следствии, о предвзятости прокурора, н>лос его получал стальное звучание, и Мартинсон будто съеживался за своим столом, по привычке прикрывал глаза ладонью, будто отгораживаясь от зала и от подсудимых. А Кирпиченок без обиняков уличал обвинение в подтасовке фактов, в применении порочных методов добывания несуществующих доказательств. Столь же однозначно дал он отпор и Адамову, назвав его показания лживыми. Никогда ни он, а также никто из следственной группы в его присутствии не оказывал на Адамова воздействия, не принуждал того к даче оговаривающих себя показаний. Столь же уверенно и твердо отверг он и обвинение в избиении несовершеннолетних Гирева и Мотыленка. Ими и их родителями движет не чувство справедливости, а желание уйти от ответственности за кражу мотоцикла. Отсюда и наговоры, и лживые показания, реанимированные в угоду своим корыстным интересам Прошкиным и членами его группы.
Я видел, каких трудов стоит Валерию не сорваться, не перейти на крик, не дать повода усомниться в его искренности. Он выполнял главную задачу — доказывал, что все выдвинутые против него обвинения не имеют под собой никаких оснований, что незаконно действовал не он, не наша оперативно-следственная группа, а бригада из Москвы.
— Нормально, Валера,— облегченно выдохнул я, когда Кирпиченок выдержал экзамен.— Главное, что не согнулся... Сломает Прошкин на нас зубы, не пройдет его липа.
Назавтра предстояло выступать Анатолию Волженкову, единственному из нас, подсудимых, кого не заключили под стражу. Видимо, у Прошкина не хватило духа взять «под ружье» слишком многих, а нас, по его мнению, мелкую сошку, задавить столичным авторитетом будет не так уж трудно. Но не тут-то было...
Волженков выглядел по сравнению с нами почти барином. По сердцу царапнуло чем-то острым, зародилась неприязнь к подельнику: «Откормленный, чистенький, а мы камерные доходяги... Где же справедливость?» Но потом одумался, взял себя в руки, даже отругал: «Он-то ведь не причем, это Прошкин нас сюда, в тюрьму, загнал да его начальнички. А что Анатолий на воле — это нам плюс. Знает больше, о всех махинациях следствия расскажет. Ему ведь, пожалуй, ничего не грозит. Не заберут же под стражу из зала суда... Не решатся, и так нахомутали достаточно. Кабанов побоится...»
Дружески кивнув нам, он до начала заседания деловито переговаривался с адвокатом, нетерпеливо ожидая, когда ему предоставят слово. Бывший майор всегда был дисциплинированным, собранным, старался четко формулировать мысль; теперь же его умение собрать волю и доказательства своей правоты в одно целое пригодилось ему особенно. Будто ненароком зацепив прокурора, отметив его предвзятость, Волженков буквально обрушился на Прошкина, причем не на всю группу, а именно на самого Прошкина.
— Во время следствия мне предложили гнусную сделку: оклеветать Сороко, а взамен пообещали не привлекать к уголовной ответственности. Когда же я отказался, Прошкин стал шантажировать меня, настраивать против меня свидетелей... Эту же порочную и преступную практику Прошкин продолжает и во время судебного заседания, «обрабатывая» свидетелей незаконными методами, заставляя их давать нужные ему показания. У меня,— многозначительно подчеркнул Анатолий,— есть неопровержимые доказательства таких противоправных действий.
После этих слов мне показалось, что Мартинсон уменьшился в росте, неуютно почувствовал себя за столом Кабанов. Ведь это он, судья, вызывал по подсказке Прошкина «липовых» свидетелей в суд, приобщая к делу их показания, создавая иллюзорную видимость объективности. Кабанов даже потерял свой внешний лоск, выглядел растерянным, взгляд его блуждал по залу в поисках какой-то точки опоры. На мгновение мы встретились глазами, и судья быстро отвел их... «Чует кошка, чье сало съела,— мстительно, не побоюсь этого слова, подумал я.— Вот и ты, голубчик, заерзал, припекло, значит.»
— Методы, которые взяла на вооружение следственная бригада, мало чем отличаются от порочных, варварских способов «выбивания» доказательств, применявшихся в недоброй памяти 30-е годы. И возврат к ним не должен остаться безнаказанным для виновных в фальсификации. Бригада прокуратуры СССР, высшего надзорного органа за исполнением законов, сама беспардонно попирает закон и справедливость...
Даже по чисто формальным признакам я не мог отвечать за ход расследования дела по убийству Кацуба. Приказом министра внутренних дел СССР это вменяется начальнику отдела, а никак не его заместителю, тем более, что сначала я руководил ОБХСС. Приписывать мне то, к чему я не имел отношения, не только абсурдно, но и противоправно. Обвинения же Адамова, его претензии ко мне несостоятельны; следствие придало им специфическую, выгодную ему окраску. Суд, я надеюсь, разберется, где ложь и где правда, в чем заключается выполнение служебного долга и кто поступился им,— закончил Волженков.
И этот раунд, по-моему, мы выиграли. Я часто повторяю слово «мы». И это не случайно: Прошкин собрал нас пятерых под крышку одного дела специально, чтобы придать ему размах, масштабность. Был у него и примитивный, грубый расчет: чем больше подельников, тем легче занести вирус раздора и в этой мутной воде попытаться выловить рыбку. Но мы (исключая, пожалуй, Журбу) держались вместе, не разрешая вбить между нами клин. В то же время (не хочу грешить против истины) каждый искал свои методы обороны, а я — и нападения. Ведь приговор суд должен был выносить каждому из нас в отдельности, и чем больше мы находили доказательств личной невиновности, тем яснее становилась общая картина предвзятости следствия.
У суда, а точнее — у стоящего за его спиной обвинения, оставалась не разыгранной главная козырная карта — Адамов. Еще в самом начале процесса мы и наши адвокаты требовали, чтобы он дал показания первым, но Кабанов пошел на поводу у прокурора Мартинсона, и «потерпевший», а с ним и Прошкин, получили позиционное преимущество. Но и эта закулисная игра не принесла ощутимого перевеса.
Располневший, обрюзгший, какой-то пожеванный, Адамов, оказавшись в центре внимания, даже в минуты своего призрачного торжества выглядел жалким. И это не было отголоском пребывания в заключении, как пытались утверждать Прошкин и вскоре — корреспондент «Литгазеты» Гамаюнов. Он, по моему глубокому убеждению, жил под постоянным чувством страха, что правда — рано или поздно — выйдет наружу, что за ложь придется отвечать. Поэ
тому, как и раньше, дрожали руки, беспокойно бегали мутные глаза, косноязычной и сбивчивой была невыразительная речь. По-прежнему, как и в суде над ним, лгал — вот в этом он приобрел постоянство. Уже с первых его слов стало ясно, что Прошкин поработал основательно. Адамов нарисовал прямо-таки ужасающую картину издевательств над ним. И милиционеры, и следователи, мол, с первого же дня запугивали его расстрелом; обещал и с помощью психиатров «сделать дурным», даже избивали. В отчаянии он пытался повеситься в камере. Все признательные показания добыты под давлением, на место убийства его «навели», на опознании вещей действовал по подсказке; повинные писал под диктовку... Повторяя этот заученный на репетициях монолог, Адамов вопросительно и тревожно поглядывал на прокурора, будто сверяя, по заданной схеме он говорит или отклоняется от сценария. Мартинсону было явно неудобно от этих «признаков внимания», и когда Адамов слишком выжидательно смотрел на него, прокурор прикрывал глаза ладонью, чтобы не выдать то ли смущения, то ли возмущения такой явной симпатией к нему потерпевшего. А тот, забыв, наверное, что написано на шпаргалке, и оставшись без суфлера — Прошкина, растерянно умолкал, тужась припомнить, какую еще «неопровержимую» улику ему следует обнародовать. А поскольку таковых не было в природе, сбивался на трафарет: пугали, угрожали, я боялся...
Совсем трудно пришлось ему, когда попал под перекрестный огонь наших вопросов. Оставшись без консультантов, Адамов то невыразительно мычал, то ссылался на слабую память, а зачастую напрочь отрицал очевидные, даже запротоколированные факты. Вот некоторые выдержки из нашего диалога на суде.
«СОРОКО: — Протоколы очных ставок заполнены мною правильно, там не было искажений?
АДАМОВ: — Я не читал (!) протоколов...
СОРОКО: — Объяснял ли я смысл cm. 37 УК БССР?
АДАМОВ: — Вы хлопали по Кодексу...
СОРОКО: — Рассказывали вы во время медицинской экспертизы о совершении преступления?
АДАМОВ: — Не рассказывал.
СОРОКО: — В котором часу вы предприняли попытку самоубийства?
АДАМОВ: — После отбоя, в 22 часа...
СОРОКО: — Кто может подтвердить, что вам угрожали на допросах?
АДАМОВ: — Других лиц я назвать не могу...
БУНЬКОВ: — Когда вы впервые заявили, что вас вынудили дать показания о хищении песка?
АДАМОВ: — Впервые о песке я заявил следователю Прошкину. Когда — не помню...»
По моему запросу .были оглашены показания, данные Адамовым следователю В. Борисову 14 января 1986 года.
АДАМОВ: «Сороко не помогал мне писать явку с повинной... Сорока не пытался ударить меня ногой в пах... Меня пока не бил еще никто...»
Протокол двухгодичной давности уличил Адамова в преднамеренной клевете на меня здесь, на суде в Риге. Эти же показания в упор стреляли по Прошкину: в составленном им обвинительном заключении утверждалось, что на Адамова физически воздействовали... Рассыпалось и «песочное» дело: реанимировал его, оказывается, не кто иной, как тот же Прошкин, сам же Адамов, даже находясь в заключении, не думал протестовать. Неудачным фарсом, рассчитанным на дешевый эффект, выглядела имитация самоубийства: по словам Адамова, он совершил насилие над собой в 22 часа, а его сокамерник показал, что снял петлю с шеи в 8 утра у живого и невредимого. Даже какого-либо знака на шее не осталось... И вот этот примитивный трюк истерично назван самоубийством, а вынудили его к этому, конечно же, следователи...
К концу своей «речи» Адамов окончательно растерялся. Наверное, он подсознательно чувствовал, что каждое его * слово начинает работать против него самого, и потому на последние вопросы отвечал односложно, даже не вдаваясь в их смысл. Зло, хрипло выдавливал из себя: «Не помню, не знаю, не было...» Собственно говоря, другой реакции трудно было ожидать. Еще раз повторяю: в нем жил страх, что в любой момент судья прервет поток его лжи и скажет: «А не надоело вам изворачиваться, Адамов? Давайте поговорим по существу...» И тогда уж не придет на помощь никакой Прошкин. И, будто стараясь отдалить, отодвинуть надвигающуюся опасность, он, будто в агонии, начинал снова и снова, даже вопреки сказанному ранее, твердить, что его заставляли, унижали, запугивали... Старый, бездоказательный, но, к сожалению, вполне устраивающий судью Кабанова метод. Как же: крик души невинной жертвы...
По нашей оценке, Прошкин, Мартинсон и Кабанов ждали от Адамова большего. (Пусть читателей не удивляет мое постоянное напоминание о Прошкине. На процессе его не было, но огромная тень каждодневно висела над столом судей, казалось, что он находится за кулисами или в суфлерской будке, дает руководящие указания.)
И ход суда замедлился. Неявки свидетелей, переносы заседаний, длительные перерывы стали не исключением из правил, а уродливой нормой процесса. За неделю до нового, 1988 года судья Кабанов взял еще один тайм-аут — аж до 7 января.
— Католики Рождество Христово празднуют,— высказал предположение Буньков.
— Но ведь Кабанов, если судить по фамилии, православный...
— Может быть, заседатели...
— Да наплевать им на процесс. Рождество, Новый год — эти праздники теперь не для нас, а для них. Они из суда выходят и забывают, что мы в камерах гнием...
— Это же надо, четвертый месяц суд идет...
— А все дело четвертый год крутится: 5 января 1985- го начато, в 88—ом закончится...
— Если на доследование не отправят...
— Поздно уже...
— А вдруг Кабанов испугается? Или ему в Москве прикажут...
— Там прикажут дать всем по верхнему пределу...
— Не каркай...
— Конечно, мужики, судьба наша в руках судьи. Окажется честным — то, как минимум, должен отправить на доследование...
— Не надо доследования, и так в изоляторах полздоровья оставили...
— Я тебя, Толя, понимаю, калеками можем выйти. Это — один из вариантов. Второй — оправдать нас.
— Многого захотел, Валерий Илларионович. Во-первых, этого ему не разрешат. Во-вторых, ты ему настолько печенки переел, что он хоть что-нибудь да оставит тебе. Ты же ему вздохнуть не даешь, загоняешь постоянно в угол. А еще больше — Мартинсона, прокурора. Забываешь, что два сапога — пара.
Мне не очень понятно было, хвалит меня Журба или не одобряет мою настырность, но должен признать, что говорил он объективно. Я действительно оспаривал каждый шаткий пункт обвинения (а они все были несостоятельными) , на помощь мне приходили свидетели, причем даже те, на кого следствие надеялось, как на каменную стену. Умело поставленный вопрос, необходимое уточнение — и свидетель обвинения становился свидетелем защиты. По сути, слушанье дела превратилось в состязательный процесс между мною и прокурором Мартинсоном, а также примкнувшим к нему судьей Кабановым. Эта конфронтация началась в первый же день, непримиримость возрастала, и в этом противостоянии не могло быть ничейного результата. Но признаюсь откровенно, меня иногда заносило. Строптивая натура, несмотря на плачевные обстоятельства, так и выпирала наружу. Я помнил просьбы и увещевания жены, советы адвоката, принимал к сведению позицию подельников, давал им обещания быть сдержаннее, не лезть на рожон. Но стоило столкнуться с явной ложью, как все добрые намерения летели в тартарары. Спецкор «Литературной газеты» Гамаюнов запомнил мою самохарактеристику:» прямой, как танк», привел ее в своем судебном очерке. Пожалуй, это было единственное место, где он не соврал. Хитрить, юлить, двурушничать, приспосабливаться — все это противно моему характеру, не укладывалось в жизненную позицию. «Умный в гору не пойдет — умный гору обойдет»,— эта ходячая истина была явно не для меня.
На этом прямолинейном пути и подстерегали неудачи, просчеты, болезненные камнепады, после которых оставались долговременные синяки. Черт меня дернул за язык вступить в суде в дискуссию с Василием Борисовым, следо- вателем по особо важным делам прокуратуры БССР. Насколько я понял чуть спустя, а особенно сегодня, у него не было желания топить меня. Как неплохой профессионал он понимал, что вызов его в суд в качестве свидетеля — нонсенс, юридический «ляп». Дело в том, что в то же время, когда я искал убийцу Татьяны Кацуба, он расследовал несколько неочевидных и нераскрытых убийств. Жили мы в Витебске в одной гостинице, часто просто встречались, иногда застольничали. У него была крепкая репутация «везунчика», которому Бог в кашу масло кладет. И однажды (я уже упоминал об этом) у меня вырвалась хмельная просьба:
— Василий, возьми меня в прокуратуру республики. Хочу учиться у такого спеца, как ты...
Ответ сразу отрезвил меня:
— Скорее я тебя посажу, чем возьму к себе на работу. Я — гений, а ты сошка районного масштаба. Таких, как я, единицы... Знай свое место!
На этом наши «дружеские» контакты закончились. Не знаю, запомнил ли тот гостиничный разговор Василий Федорович, но мне расхотелось контачить с ним, тем более — откровенничать... И вот судьбе было угодно распорядиться, чтобы именно он, Борисов, вошел в следственную бригаду прокуратуры СССР, упорный и настойчивый труд которой и привел меня на скамью подсудимых.
Судья Кабанов, поменяв статус Борисова, поступил, мягко говоря, не очень корректно: следователь и одновременно свидетель — такое мог допустить только советский суд. Как говорится, и дураку понятно, что «заинтересованное лицо» будет отстаивать свои, групповые интересы. Но так было, и Василий Федорович Борисов предстал перед светлыми очами Верховного суда Латвии. Повторюсь: он сам чувствовал двусмысленность своего положения и скорее «отбывал номер», чем давал показания. Умело, будто невзначай, оттенил скользкость Адамова, его неискренность, психическую неуравновешенность. Подтвердил, что дело об убийстве Кацуба контролировали руководители транспортной прокуратуры БССР. Казалось бы, о лучшем свидетеле и мечтать нельзя. Но я не мог простить ему отступничества, даже предательства, по моим представлениям, в первые дни следствия, когда он резко и четко провел между нами границу.
— Скажите, свидетель, я обращался к вам, более опытному коллеге, с просьбой о помощи в расследовании дела об убийстве Кацуба?..
— На чем вы основывались, когда записали в постановлении об аресте, что Адамова избивали?
— В каких обстоятельствах проходили наши встречи?..
— Вы делились со мной информацией о поиске убийц Кулешовой и Сорокиной?
Неуравновешенный, вспыльчивый до крайности Борисов не выдержал моей чрезмерной настырности и рассчитался со мной сполна:
— Сороко стремился попасть в прокуратуру БССР. Дело Адамова могло послужить ступенькой для его служебного роста. Он неоднократно просил меня включить его в состав моей следственной группы. Им двигали корыстные побуждения.
Тут я понял справедливость поговорки: «За что боролся, на то и напоролся...» Из человека, расположенного ко мне вполне лояльно, он превратился в стопроцентного свидетеля обвинения. Судья Кабанов неожиданно получил надежную поддержку, необходимую точку опоры. До этого он никак не мог сформулировать мою вину, четко обозначить ее. И тут я, разозлив Борисова, наступив ему на больную мозоль, сам напросился на статью Уголовного кодекса. (Забегая вперед, скажу, что именно мои якобы карьеристские побуждения и фигурировали в приговоре.) Правда, и эта статья была притянута за уши: Борисов хотя и являлся следователем по особо важным делам, но к кадровым перестановкам, естественно, не имел никакого отношения. С таким же успехом можно было подозревать меня в стремлении стать Генеральным прокурором или Генеральным секретарем КПСС. Но как бы там ни было, огонь на себя я вызвал...
Мои подельники не всегда поддерживали меня. У них, особенно у Журбы, все еще теплилась надежда на какую-то справедливость; если не на объективность, то хотя бы на снисходительность суда. Я же четко представлял, что бонзы из прокуратуры СССР приложат все усилия, чтобы отстоять свое нелепое обвинение, и выбить у них из-под ног почву можно лишь в бескомпромиссной борьбе.
— Ты всех адвокатов заменяешь, может, лучше тебе платить, а?— заметил как-то Кирпиченок после моего очередного боя с Мартинсоном.— А то мой больше тысячи рублей взял, а сам — ни рыба, ни мясо. Газетки почитывает, лишь для отвода глаз подаст реплику — две...
— Мой Данилов, сам знаешь, ничуть не лучше. Знал бы, не приглашал на помощь. Трусоватый мужик, да и в суть дела не вникает. Людмила более двух тысяч на него вбухала, а пользы, что с козла молока. Все какие-то намеки, недоговорки, догадки. Боятся они все против ветра дуть, с прокуратурой Союза цапаться. В общем, для мебели сидят, деньги наши проедают...
— Что после драки кулаками махать... Раньше думать надо было. Так что, друзья по несчастью, надейтесь только на себя. И ни шагу назад.
— Назад некуда... А шаг вперед мы с вами сделаем уже в новом, 1988 году,— вспомнил вдруг Владимир Буньков.— Так что с Новым годом Вас, дорогие товаищи!
Странно, конечно, выглядели мы со стороны: небритые, а Журба — даже с седой бородой, в давно неглаженной, пропитанной тюремным духом одежде, исхудавшие, с запавшими глазами. И обстановка вокруг: комната с зарешеченными окнами, обшарпанные стены, за дверью — конвойные с оружием. А мы, четверо мужиков, пожимаем друг другу руки, желаем призрачного счастья...
...Второй раз встречал я Новый год в изоляторах: начал с тюрьмы в Минске, на улице Володарского, теперь вот здесь, в чужой мне Риге, в изоляторе КГБ. Насколько это тягостно, невыносимо, противоестественно, думаю, поймет каждый, даже никогда не видевший, что такое тюремная камера. Новый год — это прежде всего семейный круг, елка, пирог, подарки, особое расположение души, некая таинственность и ожидание чего-то необыкновенно радостного, что должно произойти именно в эту ночь. Таким я запомнил этот праздник с детства, он был главнее всех остальных.
1 января 1988 года мне исполнилось 36 лет. Подняв гнутые кружки с так называемым чаем, будто хрустальные бо-
калы с шампанским, мы с Валерием Кирпиченком (к этому времени нас поселили в одной камере) проглотили теплую жидкость. Мне показалось, что «вино» чуть солоноватое... Может, от невольных слез, которые, как ни старался, я сдержать не мог. Подозрительно заблестели глаза и у моего тезки. Обхватив голову руками, этот молодой здоровый мужик, недавний спортсмен и сотрудник уголовного розыска, где хлюпикам и слюнтяям не место, глухо застонал. Выть — дико, протяжно, по-звериному — хотелось и мне. От тоски по дочке, жене, маме, от безысходности и беспросветности тюремного бытия... Хотелось разбить ненавистную электрическую лампочку, не дающую уснуть, выломать решетки, разнести вдребезги тяжелую дверь, добраться до проклятого Прошкина и его подручных, разорвать их в клочья. Я зримо представил, как отвисает его тяжеленная челюсть, как падают от испуга очки, как дрожит огромная рука, как он судорожно глотает воздух, как пытается что-то сказать, но слова застревают в горле... Пришлось даже тряхнуть головой, чтобы сбросить наваждение, настолько реально увидел я эту картину. Кирпиченок по-прежнему раскачивался из стороны в сторону, глухо молчали стены, сиротливо стояли на пустом столе пустые кружки...
Частые, все более длительные перерывы выбивали из напряженного ритма, в котором заставлял жить судебный процесс. Мы с Валерием были людьми действия, нам, особенно мне, была близка атмосфера борьбы: как ни странно, после очередной схватки с Мартинсоном я чувствовал прилив сил, во мне крепло желание выиграть этот неравный бой. С каждым днем обвинительное заключение «усыхало», сжималось, будто шагреневая кожа, терялась его кажущаяся первоначальная солидность. Будь Кабанов непредвзятым, не чувствуй над собой все той же тени Прошкина, он давно завернул бы дело на доследование или вовсе прекратил его. Но он, и это было понятно практически всем, лишь выполнял заказ свыше и ослушаться грозных начальников из прокуратуры СССР не мог. Да, судя по всему, и не пытался: карьера — она вещь заманчивая. Мы догадывались, зачем Кабанову нужны паузы: во-первых, чтобы проконсультироваться в Москве, во-вторых, чтобы измотать нас и физически, и морально. Он, конечно, понимал: мы живем только на нервах, на пределе, на грани срыва, каждый лишний день в СИЗО равен году... И надеялся, что хотя бы в конце процесса, но сорвемся, согласимся с любым обвинением, лишь бы пришел конец полуторагодичным мукам...
Если я еще старался сдержать эмоции, не давал им вырваться наружу, то мой сокамерник часто впадал в транс, доходящий до истерики. Если бы два года назад мне кто-нибудь сказал, что увижу плачущего Кирпиченка, я подумал бы, что это кошмарный сон. А теперь он метался от двери к окну, бросался ничком на койку, зарывался в подушку и рыдал. Когда приступ черной тоски и безысходности проходил, он до изнеможенияя отжимался от пола, стараясь заглушить душевную боль физическими перегрузками. Потом бросался в другую крайность: подряд, без всякого разбора, без отдыха, ночи напролет читал книги. Он боялся остаться наедине со своими мыслями, опасался, что не выдержит напряжения, что совершит безрассудный поступок. Я, как мог, успокаивал его, говорил, что не время сдаваться, что скоро наши беды окончатся... Хотя сам, признаюсь, на благополучный исход все меньше надеялся, особенно, когда попадал в полосу депрессии. В воспаленном мозгу, не знавшем ни секунды отдыха, нет-нет да и зарождалась мысль, от которой едва ушел в первые дни заключения,— о самоубийстве. Я гнал ее, принуждая, заставляя себя верить, что жизнь, даже при самом плохом исходе суда, не закончена, что обязан ради дочери, ради доброго имени моих родителей бороться до конца и доказать, хоть через много лет, свою правоту.
Стимулом к продолжению этой борьбы, как ни парадоксально, служили опять-таки эти незапланированные остановки в ходе судебного заседания. Значит, рассуждали мы, Кабанов на распутье, у него не сходятся концы с концами; может, у него заговорила совесть; возможно, он просто-напросто боится, что Верховный суд СССР может отменить его решение. А тогда — прощай, карьера, ради которой, как мы понимали, он и согласился принять такое липовое дело к производству. Все эти варианты мы просчитывали неоднократно, то отвергая их, то вновь возвращаясь к ним, дополняли их догадками, предположениями, сравнивая наше дело с подобными ему.
Чтобы отвлечься, разрядиться, дать душе отдых, незаметно подталкивал Валерия к теме, на которую он мог говорить часами,— о его детстве. Он вспоминал себя мальчишкой, когда с такими же сорванцами в Купальскую ночь прыгал через костер, как довольно рискованно проказничал, запирая снаружи двери, меняя калитки, уволакивая на чужие дворы изгороди. Запомнил он свой первый спортивный рекорд, который установил, убегая от разгневанного хозяина: сиганул в темноте через трехметровую канаву. Назавтра он и дружки удивлялись, откуда только сила и прыть взялись... Будто это было только вчера, видел себя в глухом лесу, ночью, когда возвращался из чужой деревни с танцев... Любил похвастаться успехами в спорте, как все, кто занимался им всерьез, но больших высот не достиг. Для таких энтузиастов памятна каждая грамота, каждая медаль, каждый жетон. Мог, когда отпускало сердце, бесконечно «травить» армейские байки, тем более, что и служить-то ему довелось в Прибалтике, отчего он иногда самоуверенно заявлял, что хорошо знает местный народ. Чуть выпячивая свои заслуги, рассказывал о работе в угрозыске, которая судя, по всему, ему очень нравилась. И вот теперь по злой воле он оказался в заточеньи, хотя его деятельная натура требовала дела.
...Процесс, хотя и со скрипом, как несмазанная телега, но близился к концу, все более четко вырисовывалась его несостоятельность... И тут следствие ввело в бой «резерв Главного командования» — общественное мнение, выразителем которого стала «Литературная газета». Что ни говори, а Прошкин оказался далеко не глупым человеком — «Лит- газета» пользовалась в то время большой популярностью, во многом отличалась от официальной прессы, в представлении многих она была выразителем идей духовной оппозиции. И вот именно на страницах этого «очага демократии» 2 марта 1988 года появляется судебный очерк «Метастазы», написанный тем самым худощавым элегантным корреспон-, дентом И. Гамаюновым, которого я увидел в зале суда в один из дней. Мой адвокат Данилов подробно пересказал мне содержание этого очерка. Под рубрикой «Мораль и право» спецкор на высокой публицистической ноте обличал злодеяния, учиненные Михасевичем, воспевал мужество и профессионализм следователей, раскрывших многочисленные преступления маньяка. Уже в начале материала, во вступлении, И. Гамаюнов сделал заявку на еще одну публикацию. Чтобы заинтриговать читателя, маститый журналист писал: «...в 11 судебных процессах было осуждено 14 невиновных людей; ... один ... успел побыть в неволе 10 лет; другой, после 6 лет несвободы, полностью ослеп и выпущен как «не представляющий опасности»; третий, приговоренный к высшей мере наказания, лишен жизни; четвертый пытался лишить себя жизни сам, но его успели вытащить из петли.
Четвертого я видел. Ходил с ним по паркам и улицам Риги, где вот уже полгода длится суд над группой следователей, сфабриковавших его дело. Я видел, как этого рослого тридцатилетнего человека колотила дрожь, когда он рассказывал подробности своего «дела», как выпрыгивали из его трясущихся рук успокоительные таблетки.»
Журналист, на первый взгляд, творит благое дело — сострадает невиновному, возмущается беззаконием. Фамилии пока не названы, объективность соблюдена. Но этой «объективности» хватает не надолго. К концу огромного очерка И. Гамаюнов не выдерживает и раскрывает карты: «Да неужели и после мозырской истории, после суда над теми, кто выбивал из подследственных «признания», здесь, в Витебске, продолжали то же самое?
Я спросил Олега Адамова об этом, когда мы гуляли с ним по улицам Риги. Нет-нет, качал он в ответ головой. Но тогда почему же он себя оговорил? Олег менялся в лице, дрожь сотрясала его крупные руки, распечатывавшие коробку с элениумом. «Не могу уже без этого»,— оправдывался он. И спрашивал: «А вам приходилось бывать в тюрьме?» Потом на судебном процессе, который еще идет в Риге под председательством члена Верховного суда Латвийской ССР Б. А. Кабанова, я понял: психика человека, попавшего под следствие, фактически беззащитна, и любой недобросовестный следователь множеством самых разных приемов может совершить над ней насилие. Но это тема другого очерка.»
Вот так: констатация, что процесс еще не завершен, приговора нет, но Гамаюнов уже расставил точки над «і» — дело Адамова «сфабриковано», следователи «недобросовестные»... И подсказка судье Кабанову: инкриминируй «воздействие на психику». И угроза написать еще один очерк... Именно такой поддержки и не хватало Прошкину, а, может, он и был анонимным соавтором?..
Залпа из орудий «Литературной газеты» показалось, наверное, недостаточно, и на одном из заседаний, когда должны были выступать Кирпиченок и Волженков, в зале появился настоящий десант журналистов.
— Атака на Кабанова продолжается,— обеспокоенно прокомментировал Буньков.— Сломается он под таким напором.
— Ничего, на каждый яд есть противоядие,— нашелся Кирпиченок.— Я скажу, что буду говорить о служебных инструкциях, приказах МВД, а они в открытой печати не должны упоминаться.
Подозвав своего адвоката, он попросил передать его слова Кабанову. Защитник понимающе улыбнулся и поспешил выполнить задуманное. А добрый десяток корреспондентов, не зная о нашем плане, расположился поближе к эпицентру событий, приготовив кто блокноты, кто фотоаппараты, кто магнитофоны. Одна из наиболее настырных журналисток, видимо, с местного радио, умудрилась примоститься у самой скамьи подсудимых, держа наизготове блестящий микрофон. Нам, отвыкшим от женского общества, такое соседство было, конечно, приятным, если бы не ее аппаратура...
Заседание началось с некоторым опозданием. Сказав традиционные фразы, судья Кабанов бесстрастно произнес:
— В связи с тем, что подсудимые будут говорить о засекреченных оперативных мероприятиях, сегодня слушание будет закрытым. Прошу посторонних покинуть зал.
Физиономии у непрошенных гостей вытянулись, послышалось недовольное ворчание, но Кабанов был неумолим. Нехотя покидали они зал, не добыв сенсационного материала. Правда, один из репортеров пошел на нехитрую уловку: оставил на стуле включенный магнитофон, чуть прикрыв его курткой. Кабанов, чуть улыбнувшись, попросил забрать технику...
— Факир был пьян, и фокус не удался,— нашел в себе силы пошутить Буньков.
После, в камере, мы с Кирпиченком пожалели, что он вынудил уйти журналистов.
— Может, Кабанов, испугавшись широкой огласки, побоится дублировать Прошкина и Мартинсона?— выстраивал я версию.— Все-таки он местный, ему работать в Латвии, не захочет терять репутацию?
— Он на Москву равнение держит, там его начальство.— Не очень уверенно противоречил Валерий и тут же соглашался со мной: — Пожалуй, ты прав: чем больше шума, тем труднее ему будет выбраться из тупика. Не будет же он насиловать закон.
— Понимаешь, есть еще один нюанс. Вдруг местные газеты захотят «вставить фитиль» Гамаюнову. У них тоже гонор есть, особенно здесь, в Прибалтике. Да и конкуренция: «Литературная газета» первой выступила, а они докажут, что это «заказной» материал. Это дело тонкое...
Повышенное внимание прессы, рваный ритм судебных заседаний, вызов на них дополнительных свидетелей обвинения — все это говорило о том, что тучи над нами сгущаются, что можно ждать любых неожиданностей. Первый сюрприз преподнесли мне.
— Оденьтесь получше. С вами хотят побеседовать.— Старший по смене работник СИЗО КГБ был предельно вежлив и предупредителен.
— Кто?
— Скоро узнаете. Собирайтесь.
Пока я переодевался, Кирпиченок высказывал догадки:
— Наверное, какой-нибудь начальник из КГБ. Хочет узнать, чего ты на их харчах так долго сидишь и камеру занимаешь.
— Нет, какое им до меня дело. Вероятнее всего, приехал кто-нибудь разобраться с жалобами. Люда, жена, пишет по всем адресам.
— Может, из прокуратуры СССР кто пожаловал. Поняли, что дело «мертвое», надо забирать его из суда, вот и хотят прощупать твое настроение... Забегали...
полмгрмп.т ил пулу, не лождутся такого подарка.
В полном непсдснии нажал кнопку вызова контролера. Тот сразу же открыл дверь и, оглядев меня с ног до головы, удовлетворенно хмыкнул и повел на непонятное свидание. В одном из следственных кабинетов меня ожидал... спецкор «Литературной газеты» И. Гамаюнов (Игорь Николаевич, как он позже представился). Спросив разрешения у работника СИЗО, протянул мне руку, поздоровался. (Здороваться за руку с заключенным служебные инструкции запрещают: в момент рукопожатия можно передать записку, лезвие, наркотики, яд и т. д.) Первое мое впечатление было самым благоприятным: пытливый взгляд из-за стекол модных очков, ровный голос, дружелюбный тон.
— Вы читали мою статью о Витебском деле?
— Сам не читал, но знаю содержание...
— Что, разве «Литературку» нельзя читать в изоляторе, она под запретом?— удивленно обратился гость к работнику СИЗО, который остался с нами в кабинете.
— Нет, никаких запретов не существует. Но мы не можем выписывать все издания...
Спецкора, я заметил, немного покоробило, что его газету отнесли ко «всем», и он переспросил:
— А вы можете дать ему этот номер, чтобы подсудимый ознакомился с материалом?
Сотрудник СИЗО равнодушно пожал плечами: это, мол, не моя компетенция, и вообще я тебе, товарищ корреспондент, не посыльный, у меня свои обязанности.
Гамаюнов понял, что попусту тратит время, и обратился ко мне:
— Я не указывал в статье вашу фамилию. До приговора этого делать нельзя. Но я собираю материал для второго очерка...
— Мою фамилию вы действительно не назвали, зато Олег Адамов там фигурирует в качестве невинно осужденного. Так что никакой разницы нет...
Журналист молча проглотил эту «пилюлю», только взгляд стал настороженнее и жестче.
— И как вы оценили бы очеркнис, но вопросы у меня возникли.
— ???
— Вы написали, что Адамов не может обходиться без элениума, глотает таблетку за таблеткой. Но, простите, как он тогда может находиться за рулем? Он ведь работает в большом городе, на тяжелой машине. Кто его выпускает на трассу, как он проходит обязательную медкомиссию перед выездом из гаража?
Брови Гамаюнова поползли вверх, он заинтересованно слушал каждое мое слово. А я, хотя и понимал, что зацепился за мелочь, возможно, за выдуманный для пущей убедительности факт, решил не щадить самолюбия автора.
— К тому же, насколько я знаю, в состав элениума входят наркотические вещества, так что без рецепта это лекарство получить нельзя. Вы бы поинтересовались в аптеке для достоверности, сколько раз он приобретал его...
— Но я сам видел, как он клал таблетку в рот,— совсем уж по-детски начал доказывать Гамаюнов.
— Допустим, я сейчас выпью серную или соляную кислоту, но ведь это не значит, что я без них не могу обходиться. Поверьте, я изучил Адамова, провел с ним не один десяток часов. У него неплохие актерские задатки, и он умеет их вовремя использовать... Кстати, заведующий Стражным отделением психиатрической больницы, который выступал на суде, отметил эту черту Олега. Экспертиза беспристрастна: лживость, неискренность свойственны характеру Адамова.
— Суд доказал его невиновность...
Но я продолжал держаться своей линии:
— На одном из допросов Адамов инсценировал нервный припадок, чуть ли не приступ эпилепсии. Но когда убедился, что на его трюк никто не отреагировал, встал как ни в чем не бывало и объяснил, что его научил симуляции сокамерник, вор-рецидивист «в законе». Так что школу он прошел хорошую...
— С вашей точкой зрения я уже хорошо знаком...
— Это не моя точка зрения, это факты. Он обвиняет всех, и за эти измышления ухватился следователь Прошкин... Знаете такого?— я прервался и в упор посмотрел на тс, конечно... Не мог, Прошкин попсрил, ЧТО Адамов пытался поноситься в камере. Если это действительно так, то такая своеобразная попытка самоубийства должна быть занесена в книгу рекордов Гиннеса: человек пробыл в петле с вечера до утра и остался жив. К тому же происходило все это в камере СИЗО, которая находилась под постоянным надзором контролеров. Уникальный случай!..
— Не надо кощунствовать по такому поводу. К тому же я ограничен во времени... Скажите лучше, Сороко, как могло случиться, что невиновный человек сознался в совершении тягчайшего преступления? Что привело его к такому странному, мягко говоря, поступку?
— Вынужден вас разочаровать: я и сегодня уверен, что Адамов либо убийца, либо причастен к убийству.
— Вот как? Вы это серьезно?— Гамаюнов не смог да и не пытался скрыть удивления. Он даже отложил в сторону авторучку и блокнот, настолько шокировало его услышанное.
— Напомню вам, Игорь Николаевич, общеизвестное и не опровергнутое ни в одном суде: Адамов сам, без чьих-то подсказок, показал место совершения преступления, захоронения трупа. Сам, подчеркиваю — сам — рассказал о способе изнасилования и убийства, причем с деталями, о которых не мог знать невиновный человек. А последовавший затем отказ от показаний — это лишь попытка уйти от ответственности, к сожалению, удачная... И вы ему в этом, вольно или невольно, помогаете...
— Все это было бы так, если бы Олег показал, где находится сумка Кацуба... Но он не мог этого сделать, потому что попросту не знал и, значит, не убивал...
— Или не захотел это сделать умышленно. Потому что боялся высшей меры наказания. Суд ведь мог и так решить...
— Мог бы с вами согласиться, если бы не маленькое «но»... Адамов называл разные места, где якобы находится сумка, а Михасевич, истинный преступник, сразу привел к колодцам. И там были обнаружены и сумка, и конспекты...
— Разочарую вас. Об этих колодцах впервые упомянул именно Адамов. И я откачивал из них воду, возился в грязи, можпосіп'і ЛО.Н-. Ml дело до конца. Промерил Гш гп,г ТТТ^ сколько колодцев и нашел бы эту сумку. А если откровенно, то к этому времени я перестал верить Адамову, он постоянно менял адреса, куда выбросил вещи... А Михасевича привели к колодцам...
— Привели???
— Почему нас не ознакомили с делом по обвинению Михасевича, как вы думаете? Уже здесь, в суде, от одного из свидетелей я услышал, что Михасевичу чуть ли не вешки выставили по дороге, чтобы он, не дай Бог, не ошибся. Оказывается, когда его вывозили на место преступления, организовали оцепление. Последний милиционер находился как раз у того куста, где был обнаружен труп, а для большей надежности вокруг стояли другие работники дознания. Так что только слепой мог ошибиться... Вы, наверное, знакомы с делом Михасевича?
— В общем, да...
— Вспомните тогда его первые показания, что он не насиловал потерпевшую, что задавил ее руками... Экспертиза же говорит о другом: изнасилована, во влагалище обнаружена сперма, задавлена косынкой... Причем же здесь Михасевич?
— По-моему, вы стараетесь доказать недоказуемое. Суд над Михасевичем уже все расставил на свои места и не верить ему нет оснований. Вы же отстаиваете свою версию... Впрочем, это ваше личное дело...
— Если бы только личное, а то ведь судебное, уголовное,— уточнил я, почувствовав, что Гамаюнов не хотел вдаваться в детали, что у него свое мнение, и надеяться на сочувствие или хотя бы объективность вряд ли следует.
Мой собеседник заглянул в блокнот, видимо, отыскивая заранее подготовленный вопрос. Я смотрел, как он нервно листает странички, как сосредоточенно морщит лоб и думал: «Как бы это узнать, на «ты» они с Прошкиным или поддерживают пока официальные отношения? Спросить, что ли?» Но Гамаюнов опередил меня:
— Вопрос, возможно, не совсем по теме. Скажите, как вы представляли себе будущую карьеру после успешного завершения дела Адамова? На что рассчитывали?
— Думал уйти в адвокаты. Слишком трудно оставаться честным, работая в прокуратуре: давят со всех сторон, особенно сверху. Это только формально прокуратура является стражем закона, а на самом деле, извините, она такая же проститутка, как и журналистика. Что прикажут парторга- ны, то и делает. Я человек прямой, как танк. Не люблю и не умею уступать, если считаю, что прав. А это, сами понимаете, не всем нравится. Сейчас, да и всегда, больше в моде было «не сметь свое суждение иметь»... Или как это еще у Грибоедова?.. «Ведь нынче любят бессловесных»? Я же в эту схему не вписывался и не хотел поступаться собственной совестью...
Этот мой небольшой монолог он записывал старательно, почти дословно, я заметил, как он дважды подчеркнул жирной чертой какую-то фразу. Гораздо позже, в обещанной второй статье я прочитал о себе «прямой, как танк». Тут он был достоверен, -только вот интерпретировал он мою самохарактеристику опять-таки по-своему... Впрочем, и ему когда-нибудь придется держать ответ перед Богом...
Пока же я продолжал отвечать на его вопросы.
— Скажем так: совершена ошибка. Но почему она стала возможной? Что надо сделать, чтобы невинных людей не только не осуждали, но и не подвергали унизительному следствию?— Гамаюнов решил увести разговор от конкретных фактов в область общих рассуждений, потому что в первом раунде нашего поединка (а я воспринимал нашу беседу, как бой с Прошкиным и его компанией) преимущества он не получил. Я готов был и к такому повороту событий.
— Как и в любом другом деле, любой работе, необходим высокий профессионализм и личная порядочность. В органах правоохрансния эти требования возрастают стократ. И чем выше у человека должность, тем требования эти возрастают. Это — аксиома, которую, к несчастью, многие забывают.— Я выдержал длинную паузу, давая понять, кого из его знакомых имею в виду. Затем продолжил: — Давно назрела необходимость объединить и дознание, и следствие в одних руках, в специальном комитете, управлении — можно назвать по-разному. А то получается, что одним делом занимаются разные «фирмы» из разных ведомств — МВД и прокуратуры. Возьмем, к примеру, дело Адамова,— вернулся я к наболевшему и главному.— Задержали его на 15 суток милиционеры, работали с ним, первую повинную об убийстве он написал им, вторую — о краже песка и гравия — опять же им. Мне он лишь подтверждал ранее сказанное. И я поверил в его признания, в его искренность, вернее, в то, что он то ли раскаялся, то ли испугался самого сурового наказания. Об этом же он говорил и отцу в моем присутствии... Так что, было оставлять его повинные без внимания?..
— Так что, вы хотите сказать, что Адамова вынудила признаться милиция?
— Я этого не утверждаю, не хочу бросить тень на своих подельников. Речь идет о другом: о ведомственной разобщенности, даже о некотором антагонизме между МВД и прокуратурой. Мы (я по привычке причислил себя к прокурорским работникам) контролируем милицию, нередко «заворачиваем» неподготовленные дела, а сами напрямую зависим от результатов дознания. Где ж тут логика?
— Да вы теоретик,— как-то непонятно улыбнулся Гамаюнов.
— Это не теория, а жизнь, каждодневная — с постоянными конфликтами, с недомолвками, чего греха таить, с дезинформацией. А кому нужна липовая статистика, в первую очередь, так называемый процент раскрываемости преступлений? Ведь, извините за грубость, даже «ежу понятно», что в погоне за этим показателем многие идут на подлог, лишь бы красиво выглядеть в сводке. Да и не только в сводке, а, как говорят, и в «личной жизни». Премии, оклады, должности, карьера — все это находится в прямой зависимости от пресловутого процента раскрываемости...
— Вы о себе говорите?— уколол Гамаюнов.
— Я-то как раз никаких привилегий или выгод не получил. Даже уходить из прокуратуры собрался,— отбросил я его ехидный выпад.— Вот мои следователи — Прошкин, Суханов, Кирсанов — явно рассчитывают на повышение. Только зря стараются...
— Но ведь вы просились в следственную группу прокуратуры БССР...
— Нс в группу я просился, а хотел, чтобы таким сложным делом, неочевидным убийством, занялись более опытные следователи, тот же Борисов. Вот предлагал ему взять расследование в свои руки, а он отказался. Теперь же на суде здесь, в Ригс, сам противоречит себе. Вы слышали его показания?
— Да, я знаю его,— как-то невнятно ответил спецкор.
— Он вначале утверждал, что я не просил забрать дело Адамова к производству, а затем проговорился: я, как он выразился, «хотел спихнуть это дело ему». Вот вам и порядочность более опытного коллеги... Да разве может о ней, о порядочности, идти речь, если этот же Борисов входит в следственную группу по моему обвинению... и вызван в качестве свидетеля. Надо же собрать побольше грязи, несуществующих улик, чтобы самому выкрутиться...
— Все-то у вас плохие, ни о ком слова доброго не сказали... Хотя бы перед Адамовым-вы вину чувствуете? Ведь он столько выстрадал, столько перенес. И в основном — по вашей вине, из-за вас...
— Не могу согласиться. Меня никто и никогда не переубедит, что Адамов не виноват. Даже если он не убивал Ка- цуба (в чем я до сих пор сомневаюсь), то его поведение на следствии, на суде над ним и уже здесь, в Риге, никаких добрых чувств к нему не вызывает. Жаль, что вы были в заде суда лишь дважды,— подчеркнул я, внимательно глядя на Гамаюнова.— Так вот, будь вы здесь постоянно, то смогли бы убедиться, что все доводы Адамова о каком-то давлении на него — вымысел, ничем не подкрепленный и никем не подтвержденный. Все это беспардонный оговор, который нужен следствию и только ему.
— Опять вы за свое...
— Потому что я не собираюсь отступать со своих позиций. К тому же, никто не может опровергнуть тот факт, что Адамов воровал и продавал песок, щебень, грунт, использовал государственную машину, как свою... Это же достоверно, что он сливал солярку на землю, гонял порожняком свой МАЗ, чтобы подогнать километраж пробега к нужному показателю. Да разве он один этим занимался?.. Подсчитайте, во сколько это обошлось государству: и переплаченная зарплата, и слитое горючее, и стройматериалы. А следственная группа прокуратуры СССР сделала вид, что ничего противозаконного не совершалось, что это мелочи... Не вписываются эти факты в биографию Адамова, которого сделали чуть ли не национальным героем. Вот у вас он выглядит страдальцем, а он преступник, совершивший, причем многократно, хищения... Прошкин умышленно умалчивает об этом, тем самым совершая преступление.
Моя явная агрессивность пришлась не по нраву Гамаюнову, и он снова изменил направление разговора, который, не скрою, мне все больше напоминал допрос, настолько предвзято был настроен собеседник.
— Ваша позиция мне ясна... Теперь немного о другом: вы не помните, в каких камерах и с кем вы содержались здесь, в Риге?
«Зачем это ему надо? Может, хочет еще компромат собрать. Ведь пришлось все-таки драться,— пронеслось в голове.— Только этого и не хватало.»
Не успел я что-либо сказать, как неожиданно пришел на помощь внимательно слушавший наш разговор работник СИЗО:
— Давать какую-либо информацию на эту тему заключенным запрещено.
— Что ж, нельзя так нельзя,— деланно вздохнул Гамаюнов.— Не будем нарушать порядок. А про Витебский изолятор узнать можно?
— Смотря что,— насторожился контролер.
— Я хотел бы спросить у подсудимого, как получилось, что сокамерники Адамова склоняли его к признанию несуществующей вины; кто подбирал ему соседей?..
— Вот об этом надо спрашивать у администрации Витебского СИЗО. В свою вотчину они не пускают никого, там свои законы...
— Но ведь вы следователь; Адамов, как говорится, числился за вами. Вы распоряжались его судьбой.
— Увы, но вы глубоко заблуждаетесь. Следователь не только не может, но ему категорически запрещено вмешиваться в работу таких учреждений. Если бы я сунулся туда со своим уставом, меня бы быстро поставили на место... Так что о тех лицах, которые якобы склоняли Адамова к признанию, лучше узнать в СИЗО... Может, им план добровольных признаний доводят или явок с повинной...
— Этой темы не касаться,— уже строже предупредил контролер.
Корреспондент посмотрел на часы. Видимо, время, отведенное на встречу со мной, истекало. Тогда решил задать вопрос я:
— Насколько я понимаю, Игорь Васильевич...
— Николаевич,— поправил он меня.
— Извините, Игорь Николаевич, память в тюрьме истощала. Насколько я понимаю, вы намерены опубликовать еще одну заметку...
— Нс заметку, а судебный очерк...
— Еще раз прошу простить меня, я не специалист, не разбираюсь в газетных жанрах... И все будет документально: с указанием фамилий, конкретных обстоятельств?..
— Да. Витебское дело вызвало большой резонанс, о нем говорят во всей стране. Поскольку вы проходите по делу первыми, я намерен после приговора написать еще один материал. Постараюсь быть объективным.
— По-моему, вы немного погрешили против правды в первой статье. Чтобы не повторить ошибки, прочтите все это.— и я протянул ему конспект своего последнего слова в суде.— Чтобы узнать мнение другой стороны, а не повторять ложь Адамова и фальсификацию следствия.
— Мне запрещено принимать от вас какие-либо материалы,— испуганно отодвинул от себя 200-страничный журнал с моими заметками, доказательствами моей правоты.
— Тогда возьмите черновик у моей жены. Она готова вам его предоставить,— настаивал я.— Кстати, такой же документ есть у судьи. Я просил приобщить его к делу. Прочтите, пожалуйста.
— Я уже слышал о ваших доводах,— как-то невразумительно, скороговоркой ответил Гамаюнов.
— Поймите меня правильно. Прокурор Мартинсон выступил в суде как доверенное лицо следователя Прошкина, он ничтоже сумняшеся повторил обвинительное заключение, состряпанное тем. Никаким анализом, никакой принципиальностью в его выступлении на суде и не пахнет. Боюсь, что и вы своим очерком оказали определенное давление на суд... Я допускаю, что Верховный суд Латвии может не выдержать такого массированного натиска... Но ведь он не последняя инстанция, есть еще Верховный суд СССР...
— Мой принцип: писать только о том, в чем удостоверился лично, что доказано судом. За это я несу ответственность.
— Давайте не лукавить, Игорь Николаевич, любой факт начинает «играть» лишь в определенном контексте, многое зависит от того, на чьей стороне вы внутренне, кому симпатизируете. Неосторожным словом можно не только ранить, но и убить, вы это знаете лучше меня. О таких делах, как наше, по-моему, лучше писать без лишних эмоций, не нагнетая страстей. Критический анализ, сопоставление, выяснение причин той либо другой ошибки, если она была,— вот что поможет установить истину.
— Вы будто профессиональный критик... Но ведь Адамов невиновен, а это самое главное. И вы причастны к его незаконному осуждению...
— Вот видите, еще нет приговора, суд не вынес решения, а для вас уже все ясно... Если же возвращаться к Адамову, то моя и Журбы объективность проверялась в ходе доследования, затем доказана в суде... Дело проверялось в десятках инстанций: в прокуратурах БССР и СССР, в Верховном суде БССР... И все сходились в том, что вина Адамова доказана. Теперь же все высокие начальники «умыли руки», а на расправу отдали «стрелочников». Четыре года против нас собираются улики, которые держатся лишь на абсурдных обвинениях Адамова. Подумайте: насильника и убийцу Ми- хасевича осудили за год и расстреляли, а нас держат в застенках уже полтора года, но так и не смогли что-либо доказать. Не потому ли, что даже самая красивая ложь так и остается только ложью... И правдой она стать никогда не сможет...
Я передохнул, но увидев, что Гамаюнов собрался уходить, добавил напоследок:
— Не там вы ищете сенсацию. Поверните свое перо против Прошкина и его команды, именно эта компания заслуживает внимания. А то слона вы предпочитаете не замечать, боитесь, что ли... Кого помельче решили раздавить...
Он уже почти не слушал меня. Раздраженно поднялся, попрощался, на этот раз не протягивая руку. За стеклами очков глаза сузились, смотрели неприветливо и отстранен- но. Правда, мне показалось, что где-то в глубине промелькнула тень сомнения...
— До свидания,— ответил я как можно спокойнее, а сам подумал: «Вот и еще одного врага нажил. Чувствует мое сердце, много беды ты мне принесешь, товарищ спецкор. А еще больше — жене и родным. Когда же кончится это проклятое дело?!»
Заочный диалог, а точнее — спор с Гамаюновым я продолжил в камере, где меня с нетерпением ожидал Кирпиче- нок. Не успел я переступить порог, как он встревоженно спросил:
— Что так долго? Кто вызывал?
— Корреспондент «Литературной газеты». Тот самый, что статью о Михасевиче писал. И об Адамове вскользь упомянул. Будь они оба неладны!..
— Не подвело меня предчувствие. Помнишь, говорил тебе, что еще будет выстрел прямо по нам. Распишет теперь на весь белый свет, причем пофамильно. Злости у него, очкастого, на троих хватит, разделает под орех...
— Что касается первой статьи, то я ему в лоб сказал, что не такой уж Адамов ангел, как он его изобразил. Прикинулся обиженным, больным... А сам лжец первостепенный... Мало ему суда, так теперь через газету нас грязью облить хочет.
— А кто с нами считаться будет?.. Ты — зэк, человек с дефектом. Один сокамерник еще в Минске сравнил себя с треснутой вазой. Как ни склеивай ее, а все равно трещина видна. Вот и задвигают ее в темный угол, подальше от глаз людских. Такая и наша доля теперь — жить на задворках. Этот писака нам такую рекламу сделает, что люди здороваться перестанут.
— Ничего. Зато популярными станем. У Чехова есть рассказ: мелкий чиновник, коллежский регистратор, попал в столице под лошадь. Бульварная газета напечатала об этом несколько строк. Пострадавший был на седьмом небе от счастья: он хвастался каждому встречному-поперечному, показывал номер газеты, в общем — чувствовал себя, как говорят, пупом земли. Так что и нам переживать нечего, в «герои» попали.
— У тебя еще юмор сохранился. Только, по-моему, он черного цвета. Если этот Гамаюнов прокатится по нам, надо бежать в тундру, где газет не читают.
— Мы-то, допустим, и в тундре не пропадем. Как-никак, мужики. А куда деться от позора семьям? Не с нами же мошку и комаров кормить! Представляешь, сколько горя они уже хлебнули... А если еще и ославят в газете, пиши пропало... Недоброжелателей уйма найдется, из каждой подворотни лаять будут... А все из-за чего?.. Один подонок спасал свою шкуру, нагадил в собственные штаны, а эта вонь и нас коснулась... Другие превратили его в невинную жертву, вознесли до небес, под этот шумок карьеру себе делают...
— Со всех сторон налетели вороны. Мало, что из-за них здоровье в этих казематах потерял, так еще семью отнять хотят... Ты посмотри, как они снюхались — витебский бабник и вор и московский следователь из прокуратуры Союза. Раньше никогда не поверил бы...
Кирпиченок говорил сумбурно, торопясь высказать свое возмущение, эмоции переполняли его. Иногда с языка срывались непечатные оценки, хотя Валерий, как правило, не сквернословил.
— Даст Бог, выйду, доберусь я до этих адамовых, Прошкиных, Сухановых. Попляшут они у меня, сами рыгать баландой будут...
На этот раз в лексиконе моего тезки были выражения и покрепче, доставалось и судье Кабанову, и прокурору Мартинсону, и спецкору Гамаюнову. Но тут я, неожиданно для самого себя, стал на защиту моего нового знакомого Игоря Николаевича.
— Может, мы зря на него ополчились? Кабанов сам чувствует, что дело еле дышит, вот-вот рухнет. А тут еще появляется этот столичный журналист из солидной газеты. А что делать, если напишет объективно? Признаваться, чтодейст- вовал по указке Прошкина? Вот и раздумывает наш судья, не убрать ли из обвинения наиболее несостоятельные эпизоды, не послать ли к черту всех этих начальников из Москвы и остаться честным человеком...
— Держи карман шире! Раскатал ты губу, Валерий Илларионович. Все они — и Прошкин, и Кабанов, и этот Гамаюнов — из одной кормушки жрут, из одного корыта хлебают. Сговорились, это же каждому понятно. Вкатят нам на полную катушку, век не отмоемся...
— Перестань скулить. Еще не вечер. Надо не задирать лапки кверху, а уже сегодня думать, в какой адрес первую жалобу писать. После приговора. Я Гамаюнова предупредил, что бороться буду до конца. И ему спуску не дам.
— Вот бы проследить, как следствие и прокурор Кабанова обхаживают,— вновь вспомнил навязчивую идею Кир- пиченок.— Застукать на месте преступления, прижать к стене... А потом — на наше место, в камеру!
— Фантазия у тебя богатая, друг мой,— умерил я пыл сокамерника.— Нельзя ли поближе к реальности?..
— Можно и так. Я точно знаю, что в воскресенье Пасха. Давай брагу приготовим!
Наверное, у меня был настолько смешной вид, что Валерий расхохотался:
— А что, православные мы с тобой или нет? Вон сколько раз Бога поминаем... Чем после Великого поста разговляться будем, сказать трудно, а вот питво приготовим запросто. Накрошим в чайник хлеба, зальем водой, добавим сахара... К празднику в самый раз поспеет... Причастимся, а там... хоть трава не расти!
— Налей полней стаканы! Кто врет, что мы, брат, пьяны?! Мы веселы просто, сй-Богу!— поддержал я Валерия.— ...Выпьем и снова нальем!
— Да, нальют нам Прошкин и Кабанов дополна, под завязку.— Перепады в настроении у Кирпиченка были так стремительны, что я не успевал реагировать.— Вот только похмелье будет тяжелым.
— Да не рви ты душу ни себе, ни мне. Чему быть — того не миновать. Гори они все синим пламенем, как первак самогонный.
— Как специалист рассуждаешь. Я в этих делах — полнейший ноль. После баньки иногда пивка кружку — другую принимал и — баста. А если чего покрепче выпью, назавтра выворачивает нутро наизнанку.
— Какой я специалист?.. Хотя от стакана доброго вина никогда не отказывался... И настроение поднимает, и для здоровья польза.
— Не зря тебя из прокуратуры уволили... Как же ты с такими взглядами Указ о борьбе с пьянством выполнять мог?.. А?— Валерий стал в театральную позу, чем-то напомнил прокурора Мартинсона.
— Мура это все, дорогой тезка. Очередная кампания. Я уже, по-моему, говорил, что бывшему алкоголику или старому маразматику моча в голову ударила, он и выдал этот идиотский Указ. Общество трезвости придумали, ученых привлекли... А эти как были марионетками, так и остались. Десять лет назад с умным видом толковали, что вино — это напиток богов, сегодня — что творенье дьявола...
— А такие, как Гамаюнов, этот бред размножают,— вернулся на грешную землю Кирпиченок.— Кричат о независимости прессы, а чем они отличаются от проституток? Кто заплатил побольше, тому и подпевают...
Фамилия заезжего журналиста, видимо, не зря засела в наших головах. На следующий день после моею «интервью» несколько раз открывалась и закрывалась дверь соседней камеры, где сидели Буньков и Журба, а после обеда контролер увел Кирпиченка. Такого повышенного интереса к нам раньше никто нс проявлял, в изолятор КГБ попасть не так и просто, а тут началась какая-то ажиотажная суета.
Настала моя очередь ждать и теряться в догадках: куда же и к кому вызвали Валерия?
— Он вызывал, писака,— не стал томить меня сокамерник.— Чтоб ему пусто было!— И заметался по узкому проходу от двери к окну, что-то возмущенно бормоча себе под нос. Потребовалось несколько минут, прежде чем я услышал от него что-либо вразумительное.
— Начал мягко стелить: пригласил сесть, спросил сколько лет, а затем быка за рога: «Почему Адамов признался в убийстве?..» Я в ответ: «Не при мне это было; в отъезде был, на сессии в институте... Помочь ничем не могу...» Он тогда с другой стороны зашел: «Как могло случиться, что Адамова арестовали, ведь он был заведомо невиновный?»
Валерий прекратил свое маятниковое хождение, присел на койку, сосредоточился, начал говорить более спокойно:
— Вопрос, как ты чувствуешь, каверзный. Пришлось сказать, что привлекала этого подонка, Адамова, прокуратура...
— Дальше,— настороженно произнес я.
— Какие были у вас факты, тем и руководствовались... Но ведь вы не боги, возможно, и ошиблись...
— Ну-ну...
— Не бойся, на тебя не капал. Наоборот. Сказал, что сделали тебя крайним, хотя и Самохвалов, и Кладухин, и Комаровский держали дело на контроле, допрашивали Адамова. А это киты, не то, что ты — новичок. И сразу же врезал нашим «друзьям» — Прошкину, Суханову, Борисову. Они, говорю, больше дров наломали, «шьют» нам, что ни попало, и ничего, сходит с рук...
— И как Гамаюнов отреагировал?
— Пропустил мимо ушей... Как, спрашивает, можно улучшить оперативную работу? А то, мол, в агенты идут одни пьяницы да тунеядцы...
— Это ему зачем? Про ваших агентов все равно писать нельзя. Хотя, это же «Литературная газета», ей на законы наплевать...
— А мне, как ты понимаешь, тем более. В органы я не вернусь, это факт...
— И что же ты ответил?
— Говорю, что можно подсаживать в камеры и аттестованных дознавателей.
— Напрасно, наверное...
— Почему? В суде при Адамове, Козлове сам Кабанов нашу секретную работу обнажил. Думаешь, они не растреплют по всему Витебску про нашу агентуру?.. Впрочем, какая она уже «моя»? Я — ломоть отрезанный... И еще сказал Гамаюнову, что бардак будет продолжаться до тех пор, пока и дознание, и следствие не соберутся под одной крышей.
Тогда и спросить будет с кого, а то Иван кивает на Петра... А чуть прокол — находят стрелочника. Вроде тебя.
— Про это я вчера тоже говорил. Только нужны ли ему наши рассуждения? Для отвода глаз ходит вокруг да около, а сам «жареные» факты вынюхивает.
— Еще поинтересовался, какое у меня мнение о Кабанове. Я хотел начистоту вначале: такой же, мол, как и Прошкин. Но потом одумался. Зачем перед приговором гусей дразнить? Говорю: кажется, принципиальный человек. Только бы под влияние прокуратуры Союза не попал, а то к концу процесса сомнения появляются.
— Мы с тобой в одну точку бьем.
— Если не будет оправдательного приговора, значит, Кабанов пошел на поводу у Прошкина, не захотел разобраться. А Гамаюнов удивленную мину состроил, спрашивает: «Неужели вы надеетесь, что вас оправдают? Наивный вы человек.»
— Наверное, уже знает, какой подарок нам Кабанов приготовил.
— Все может быть. Он же обязательно виделся с ним, тот ему разрешение на встречу с нами давал. Но я предупредил: пишите, что хотите, только обязательно укажите, что я, Кирпиченок Валерий, виновным себя не признал и не признаю. Пусть думает, что к чему.
— Думать не ему надо, а дорогому Кабанову. Приговор ему подписывать. Оставит, что Адамова избивали — Гамаюнов и распишет, какие мы держиморды. Вот тогда позора не оберешься. А что это грязная ложь, поди, докажи. Суд, мол, установил.
— Да, вспомнил. Он сказал, если приговор отменят, сам напишет опровержение.
— Это уже интересно.— Настроение у меня поднялось. Вчера я лишь намекнул, что Верховный суд Латвии — не последняя инстанция, а сегодня уже сам спецкор завел речь об опровержении.— Может, зря мы на него взъелись? Понял, что Прошкин и К0 туфту гонят, ему свинью подкладывают, вот и одумался. Дай-то Бог.
— Нет ему веры. Я только начну о Прошкине и Суханове говорить, об их хамстве и фальши, как он на часы показывает: времени, мол, у него мало. Доказываю, что Адамову ни в чем верить нельзя, он будто не слышит. Спрашиваю у него: почему, когда Адамова припирали к стенке шоферы автокомбината, вас, уважаемый корреспондент, в зале суда не было? А как только слово дали уголовникам, с которыми сидел Адамов, вы тут как тут. Да таких свидетелей за пачку чая купить можно, за пайку хлеба. К тому же, все они рады насолить «конторе»: хотя бы одного мента да посадят... Молчит, как рыба об лед. Я тогда ему напрямик: «Может, вас Прошкин послал? Не на него ли вы работаете?»
— Крепко ты. Какая реакция?
— «Как можно так думать,— говорит.— Я полностью независим. Меня интересует правда и только правда.» А сам свои манатки собрал и быстрее за дверь. Скользкий он тип, по-моему.
— Кому приятно, когда его называют агентом следователя? Ты же приравнял его к тем уголовникам, что сидели вместе с Адамовым.
— В самом деле!— Валерий вскочил с койки, вновь заметался по камере.— И кто меня за язык тянул? Всегда ляпну, что не следует...
— Брось переживать! Тебе же не детей крестить с ним. В первой статье сделал Адамова мучеником, по нам вскользь прошелся. Пусть получает, что заслужил.
Кирпиченок быстро остыл. Даже улыбнулся.
— В общем, оба мы ребята не промахи. Ты его на таблетках поймал: если Адамов — псих, кто его за руль пускает; я в сексоты произвел. Поговорил, называется, со столичным журналистом.
— Не заискивать же перед ним. Если бы он хотел быть объективным, писать только правду, как он утвеждает, не отмахивался бы от нашего мнения о Прошкине и всей группе. А так заведомо убежден: мы — преступники, Адамов — Божий агнец. Его если что и интересует, то сколько нам Кабанов определит. И чем больше каждый из нас получит, тем лучше для него. Справедливость, мол, восторжествует. Еще раз повторю: все его вопросики о системе следствия — дешевый камуфляж. Ему нужен «карьерит» Сороко, «садисты»
Кирпиченок и Буньков... И «человек без страха и упрека» Прошкин, который вывел нас на чистую воду...
— Не вспоминай ты больше эту фамилию, меня тошнит от нее,— решил подвести итог нашим бурным дебатам сокамерник. И добавил: — И от Кабанова, Гамаюнова, Мартинсона тоже. Я с ними в одном сортире сидеть не стану...
...О сортире Валерий вспомнил, видимо, зря. Можно верить в приметы, можно отмахиваться от них, но спустя час он пожаловался на боль в желудке. В животе у него урчало, слышал даже я. Побледневший страдалец то укладывался на койку, то сгибался в пояснице, то быстро шагал по камере. Наконец не выдержал и нажал на кнопку вызова контролера.
— Что вам?— В кормушке показалось недовольное лицо сверхсрочника.
— Принесите, если можно, какую-нибудь таблетку. В животе режет...
— А мне болеутоляющее,— добавил я.
— Ладно. Если фельдшера найду.
Нам повезло: вскоре пушкарь отдал лекарства, при этом он заставил нас раскрошить таблетки и принять их у него на глазах. Так мы и сделали. Но если я, улегшись на койку, вскоре почувствовал облегчение, то Валерию лучше не стало. Полуторагодичная тюремная баланда до предела испортила наши желудки, постоянные нервные стрессы вносили свою лепту, и понос стал все чаще и чаще мучать нас. В СИЗО КГБ в камерах унитазов не было, полагалось лишь ведро для и малой нужды», для более «серьезных дел» утром и вечером нас водили под конвоем в общий туалет. Сейчас же Валерию было невтерпеж, и он опять вызвал контролера. Я видел, что ожидание становилось для него невыносимым, что он буквально нс находит себе места. Наконец кормушка отворилась.
— Чего раззвонились? Я вам не секретарша...
— В туалет надо. Нс вытерплю...
Контролер попался отзывчий, и Кирпиченок чуть ли не бегом выскочил из камеры... Вернулся он повеселевшим.
— Надо же, совсем желудок забарахлил.
— Бывает. Все хорошо, что хорошо кончается,— не стал я развивать не слишком приятную тему. Но у сокамерника поднялось настроение, и он рассказал историю, которую якобы слышал от шофера-ленинградца.
— Ехал тот из Питера в Брест.. Добрался до Витебска, решил подкрепиться в столовой. Съел котлету, кофе — и снова в дорогу. Через час чувствует: в животе революция. Остановился — и бегом в кусты. Проехал километров пятьдесят — та же ситуация... В общем, около десятка таких марш-бросков сделал, аж шатает из стороны в сторону. Тогда нашел выход: снял сиденье, поставил на его место пустое ведро и так продолжил рейс. Перед Минском, у поста ГАИ, останавливает инспектор. Шофер открыл кабину, а милиционер чуть в обморок не упал. Езжай, говорит, отсюда поскорее в больницу... Отравление серьезное оказалось, две недели в палате провалялся... А кабина так провоняла, что целую бутылку одеколона вылил, чтобы хоть чуть заглушить «аромат»...
Меня самого подташнивало от такого «пахучего» повествования, но перебивать Валерия не стал: в камере необходимо считаться с собеседником, нравятся тебе его байки или нет. Всякое бывало в нашей с ним совместной жизни: и ссорились, и не разговаривали целыми днями, и... даже дрались однажды. Как ни стыдно об этом вспоминать, но из песни слов не выкинешь.
Вернувшись после одного из самых неудачных и тяжелых для нас судебных заседаний, мы, обозленные и уставшие, вдруг затеяли «разборку». Он утверждал, что в тюрьму попал из-за меня: «Тебе не следователем быть, а коров пасти», я, в свою очередь, возмутился: «Вы, милиционеры, подсунули мне «готопого» Адамова». Постояв друг против друга, будто бойцовые петухи, разошлись. Но конфликт должен был во что-то вылиться, наши нервы были на пределе, случись повод — и стычки не миновать. Этот повод нашелся назавтра. Вернувшись после душа «домой», в камеру, я, расслабленный и вроде бы умиротворенный, лег на койку, а тезка стал искать, где можно развесить выстиранное спортивное трико. Собственно, место такое было: подобие вешалки с тремя крюками, но на одном из них висел мой пиджак. Валерий зацепил трико за два оставшихся, но одна брючина легла на рукав пиджака. Я не поленился встать и перецепил трико. Кирпиченок сделал по-своему. Я не уступил... Казалось, что кто-то накачивает нас паром, это избыточное давление так и рвется наружу... Не проронив ни слова, Валерий отступил с «поля боя», но в глазах его было столько ярости, что мне стало не по себе.
Развязка наступила вечером. Не выдержав молчания, мы затеяли какой-то беспредметный спор. Обоим, как я сейчас понимаю, было абсолютно безразлична истина. В словесных баталиях я всегда был сильнее, и когда запас аргументов у соперника иссяк, он хлопнул меня книгой по голове. Может, это получилось случайно, потому что я лежал, а он в запале размахивал надо мною руками. Но тогда мне было не до рассуждений и анализа. Не вставая с койки, я резко выбросил кулак и угодил Валерию в солнечное сплетение. Он отшатнулся, судорожно схватил ртом воздух и все-таки ринулся вперед. Не успел я приподняться, как почувствовал удар по лицу. В носу потеплело, ноздри наполнились кровью. Рывком вскочив на ноги, я уже определил себе цель. Кулак будто магнитом притянуло к подбородку соперника, челюсти его лязгнули. Я успел заметить, как помутнели глаза Валерия, как повело его в сторону. «Нокдаун,— мелькнуло в голове.— Еще удар — и ляжет.» Сознание этого превосходства отрезвило меня, и я опустил руки. К тому же за дверью камеры, в коридоре, почудилось какое- то движение. Глянул — так и есть, приоткрылся глазок...
Задирая повыше голову, вновь лег на койку. Кровь, правда, не показалась, но ею были заполнены все каналы носа, дышать пришлось ртом. Мой спарринг-партнер немного похорохорился, по-мальчишечьи выкрикивая:
— Ну что, получил по носу? Нс будешь больше права качать?!
Но потом и он успокоился, лишь осторожно трогал пострадавшую челюсть. «То ли еще будет завтра, дружок,— совсем беззлобно думал я, уже сочувствуя тезке.— Сможешь ли ты завтра рот приоткрыть, кусок хлеба прожевать...»
...А в общем-то мы жили довольно мирно. Чтобы скоротать бесконечные вечера, изредка играли в домино, больше читали. А когда совсем становилось невмоготу, «травили» анекдоты, сами сочиняли байки. Валерий был просто напичкан всякими невероятными историями, причем отличить, что — правда, что — выдумка, было очень трудно.
...— Помню, только начал я работать инспектором розыска. Рвусь, сам понимаешь, в настоящее дело. А оно будто ждало меня: звонит в дежурку бабуся, жалуется — корову у нее украли. Доложили Шнееву, тот Бунькова вызвал... Наш подельник, который за стеной сидит, берет меня и Тищенко, садимся мы в машину и гоним за тридцать километров от Витебска. Нашли старушку, та плачет: «Сыночки, родненькие, увели у меня мою кормилицу, Красулю. Найдите, в ножки вам поклонюсь.» Привела на место происшествия, колышек показала, к которому ее Красуля привязана была. Все точно: наша зона обслуживания, полоса отвода железной дороги...
Почесали мы в затылках, матюкнулись по адресу и коровы, и Шнеева, но нечего делать — искать надо. Сам знаешь, какой наш начальник самодур. Возжа под хвост попадет, уволить может. В общем, начали мы шастать по кустам, по оврагам, по болотам... Пусто, нет Красули. Мы уже и звали ее по кличке, как родную. Потом давай на дорогах машины останавливать, прохожих опрашивать... Как в воду канула. Перемазались, как черти, проголодались, а результата никакого. Володя Буньков и командует: «Поехали к бабусе. Будем документы оформлять...» Заходим во двор, а наша бабуся... Красулю доит. «Нашлась моя кормилица, сама к вечеру домой пришла... Нс хотите молочка, сыночки?..»
Вернулись в отдел, Володя к начальнику на доклад: «Ваше задание, товарищ подполковник, выполнено. Корова найдена. Надо бы поощрить ребят...»
Слушая этот забавный треп, я тут же вспомнил, как копался в грязных колодцах, отыскивая сумку Татьяны Кацу- ба, как миноискателем пытался найти пуговицы от ее пальто, как ездил на мусоросвалку, как перелопачивал песок... Сознание мое было зациклено на деле Адамова и на своем собственном, на меня заведенном, так что даже курьезные
случаи из практики Кирпиченка не могли меня заставить забыть свою беду. Но я все-таки был благодарен Валерию, что он хоть немного уводил от глухой тоски. Один бы я не выдержал такой неимоверной тяжести. А если уж говорить начистоту, отношение к сокамернику у меня было далеко не однозначное. Еще в 1983 году я вынужден был возбудить против него уголовное дело за избиение подростков. Вел это дело Журба, потом оно было прекращено, сейчас, во время суда над нами, всплыло опять... Кирпиченок этого не забыл, конечно, иногда обида прорывалась. Я же, как и пять лет назад, считал себя правым... Поместив нас в одной камере, Кабанов, скорее всего по подсказке Прошкина, решил поставить эксперимент: не начнут ли потенциальные враги оговаривать друг друга, не дадут ли ему дополнительные козыри? И любой наш срыв, любой конфликт в камере могли послужить дополнительной уликой в суде. Здесь, в СИЗО КГБ, как мы догадывались, камеры имели и глаза, и уши...
Но надо было сохранять в себе человека. Причем, оставаться человеком не только внутри, но и внешне, хотя это было неимоверно трудно. В эти страшные полтора года дали себя знать все старые хвори, прибавились новые: прогрессировал гастрит, регулярно болела голова, мучала бессонница, портились зубы. Особенно стали они меня беспокоить в конце суда, накануне приговора. Воспаленная нервная система, как я полагал, искала выхода наружу, ей тоже надо было разрядиться. Конечно, это было дилетантское объяснение: мне нс хватало обычной еды, витаминов, свежего воздуха, качественной зубной пасты...
После очередного приступа зубной боли я записался на прием к врачу. Стоматолога в этом изоляторе не было, оставалось надеяться на Рижский централ. Кирпиченок посочувствовал мне:
— Я уже трех зубов лишился... Как представлю бормашину, заранее в пот бросает. А наркоз они здесь экономят...
— Отстань, Валера. И без тебя тошно. Тоже мне, утешитель. И без тебя знаю, какая это мука...
...Женщина-врач бесстрастно постукивала по моим зубам.
— Какой болит?
— Этот,— промычал я, когда легкий удар отозвался острой болью.
— Будем удалять.
— Доктор, он мне пригодится. Поставьте пломбу.
— Лечить нет условий. Требуется несколько сеансов... А ты у нас не один. Не надо было садиться.
— Не сам сел, посадили. Невиновен я.
— Все вы по ошибке сюда попали, знаю я вас. Наворовали, нахапали, теперь отвечайте. Я вот на одну зарплату живу, так меня никто не садит.
Будто заученно выговаривая слова, она готовила инструменты. Я искоса поглядывал на нее, предугадывая, какой экзекуции она меня подвергнет. Но полное розовое лицо сорокалетней женщины не выражало никаких эмоций, серые глаза были пусты и безразличны. Приказав еще раз открыть рот, прокомментировала:
— Запустил ты их. Чистить надо.
— От баланды крошиться стали. Витаминчиков бы...
— Зато на нашей еде не сломаешь,— спокойно парировала она.— А пока помолчи...
Я почувствовал два укола в десну. Вскоре помертвело даже небо. Взяв сверло от бормашины, она стала обрабатывать зуб. Вдруг острая боль пронзила все тело, в глазах помутилось. Я застонал.
— Спокойно, ты мужик все-таки. Сейчас закончу. Вот без новокаина ты давно бы трупом лежал,— своеобразно успокоила меня врач.
Взяв иглу, вновь коснулась нерва.
— А-а-а!
— Все ясно. Удалять надо. Я здесь его не вылечу. Зуб «сложный», глазной...
— Пожалейте, доктор. Положите мышьяк, убейте нерв. Надеюсь, скоро выйду, долечу на воле.
— Мышьяк не положено. Так и быть, прижгу раствором. А потом положу временную пломбу.
— Хотя бы месяц она продержалась, мне больше не надо,— попросил я и подумал: «А она не плохая баба. Не видела бы только в каждом рецидивиста...»
— Месяц я не могу гарантировать, вывалится через неделю, может — через две. Замуровать наглухо нельзя, вдруг опять воспалится нерв, опухоль пойдет. Что тогда?
Она говорила деловито, точными движениями выполняя несложную работу, заливала в дупло раствор. «А ты и в самом деле толковый врач,— уже с симпатией размышлял я.— Не халтуришь, правду говоришь. Забыла бы только, что работаешь в тюрьме...»
— Можешь вставать. Там у тебя еще один подозрительный зуб есть. Но с ним ты на зоне разбирайся.
— Лучше — на воле... Спасибо, доктор. Я думал, хуже будет.
— Считай, что тебе исключение сделала. Сидел в этом кресле перед тобой проходимец. Хвалился, что по десять тысяч в день заколачивал. Вот я ему два зуба и удалила, причем бесплатно... Ты все понял?
— Еще раз спасибо, доктор... Разные люди здесь сидят. Как и врачи разные бывают,— добавил я многозначительно.
Она высоко подняла брови, чуть улыбнулась.
— Ладно, иди, философ. Я и так на тебя много времени потратила.
Находившийся все время в кабинете прапорщик из СИЗО КГБ повел меня к машине. Когда наш «воронок» подъехал к воротам, я услышал снаружи голос:
— Сколько там у тебя в машине?
— Один зэк.
— Один зэк,— продублировал охранник.— Проезжайте.
...«Вот так и дома звать будут, когда вернусь,— будто током ударило в сердце.— И доказывай, что ты не верблюд.»
Одно короткое, будто удар бича, слово опять вернуло меня в реальность. А я после недолгого визита к врачу успел наивно подумать, что и во мне еще видят человека. Не скоро, видно, это произойдет, если произойдет когда-либо вообще.
Но недаром говорят, что жизнь человека состоит из черных и белых полос. Вернулся в камеру с испорченным настроением, а тут — праздник: сказали собираться в баню. Под этим громким словом подразумевался обыкновенный душ, но для нас, заключенных, он был лучше любой престижной сауны. Смыть не только пот и грязь, но снять усталость, вернуться в детство, которое у каждого так или иначе связано с водой,— это было высшее блаженство. Мы с Валерием беззлобно подшучивали друг над другом, пересчитывая выступающие ребра, считая позвонки. По нашим тощим телам можно было изучать строение скелета и первые симптомы дистрофии, но мы старались не думать об этом. Вначале разогревали мышцы под горячими струями, намыливались, ополаскивались. На исходе отведенного получаса обдались холодной водой, взбодрились, будто помолодели. А затем нас ждал сюрприз: нам выдали чистое нижнее белье. Такой сервис высшего класса буквально сразил нас — это было впервые за все полтора года нашего заточения. Обычно мы наспех прополаскивали свои вещи в холодной воде, если удавалось, сушили на батареях, а чаще просто натягивали полусырое белье на тело, и оно сохло от нашей всегда повышенной температуры. Приятные неожиданности продолжались и в камере: нам выдали ножницы, и мы смогли остричь ногти. Стыдно сказать, но раньше мы просто грызли их или, прячась от контролера, срезали тупыми лезвиями, что предназначались для бритья. А в этот день мы будто побывали в салоне красоты...
Разморенные, размягченные, мы улеглись на койках, блаженно закрыли глаза и начали перебрасываться фразами.
— Прошлой ночью сон видел, под утро уже. Плыву по большому, чистому-чистому озеру. Вот уже берег близок, два гребка — и я у цели. А тут судорога свела руки, не поднимаются они. Иду ко дну, как камень, страшно, задыхаюсь... Проснулся, а руки на груди скрещены. И уже наяву ими двинуть нс могу, омертвели. К чему бы это?
— Снам верить нс надо... Твой мозг не отключается ночью, продолжает работать. И сны — это продолжение твоих переживаний, мыслей.
— А все-таки?
— Я нс Мартын Задека и не цыганка. Хочешь, скажу, что свобода — берег — была рядом, но кто-то вяжет тебе руки.
— Прошкин, кому еще это надо...
— Не поминай ты его на ночь... Вот я тоже сон странный видел. Вначале будто на зоне был, за проволокой. А тогда
сразу в Минск попал, на широкую, светлую улицу. Бежим по ней с дочкой, радостные, счастливые, дочка смеется, как звоночек. Пробудился, и так захотелось продлить это состояние. Приоткрыл глаза, а на окне — решетка...
— Разгадай другой сон. Провалился я будто в яму, испугался, но до дна не долетел. Зацепился за какой-то корень, очухался и вылез наверх.
— Выпустят тебя прямо в зале суда. Успокойся. Спи.
— Твои слова да Богу в уши,— пробормотал, засыпая, Валерий.
...Визит корреспондента был, насколько мы поняли, последней попыткой группы Прошкина расшатать наши позиции накануне написания приговора. Гамаюнову была отведена роль троянского коня, засланного в наш лагерь. Но мы разгадали маневр противника, и он был вынужден ретироваться без ощутимых трофеев. Так же не солоно хлебавши покинул «поле боя» и некто Игорь Новиков. Он появился в нашей камере незадолго до окончания процесса. Мы с Кир- пиченком успели обжить свою «квартиру», как-то наладить быт, вошли в определенный ритм, как однажды, вернувшись из суда, увидели новосела. Симпатичный голубоглазый блондин приветливо улыбнулся и протянул руку для приветствия:
— Игорь. Вот просидел три дня один, а теперь к вам перекинули...
Мы сдержанно поздоровались, нс высказав особой радости. Пришелец нс высказал обиды, как ни в чем нс бывало вновь улегся на койку. Валерий и я переодевались, исподволь разглядывая незванного соседа. Добротные свитер I брюки, модные сапоги, спокойная манера, книга в руках — все это говорило о том, что сокамерник не из разряда простых уголовников. Да и откуда им взяться в изоляторе КГБ? Это заведение все-таки для «привилегированных» преступников, сюда мелкую сошку не помещают...
Выдержав продолжительную паузу, Игорь, видимо, решил, что приличия соблюдены, и он нс будет выглядеть назойливым:
— Насколько я понимаю, вы подельники? Из суда вернулись?..
— Угадал... Вот теперь отдыхать будем много дней...
— Приговора ожидаете или заболел кто?
— У двоих есть еще последнее слово, а судья начинает «бабки подбивать»: или приговор, или определение...
— Определение, говоришь? Что, возможно доследование?..
Последняя короткая реплика насторожила: я сразу понял, что Игорь знаком с юриспруденцией. Откуда простому смертному знать, что если судья выносит определение, то дело отправляется на доследование? Такое соседство нас совсем не устраивало: теперь надо следить за каждым своим словом; кто знает, по чьей воле этот Игорь попал в нашу камеру?.. Понимающе переглянувшись с Валерием, начали свою игру.
— Что-то слишком по-барски ты жил... Три дня один в камере — это высший шик. У них же мест не хватает, теснота неимоверная... Нас из Централа перевели, там вообще, как селедок в бочке.
— Не сам же я хату выбирал. А вначале в подвале городского отдела милиции неделю прокантовзлся. Признался полностью... Чего резину тянуть. Хуже не будет...
— Откуда тебе знать, что лучше, что хуже. Тут надо семь раз отмерить...
— Этим пусть дилетанты занимаются, а я все-таки следователь прокуратуры. Теперь, правда, бывший. Так что кумекаю, что к чему. Есть смягчающая вину статья, есть отягчающая... Признание, помощь следствию... В общем, все это суд учитывает при вынесении приговора.
«Ясно, молодой человек, к чему ты клонишь. Нам совет даешь. Наивняк. Слишком грубая работа.»
— Если ты так хорошо кодексы знаешь, что ж попал сюда?
— Подельник продал.
— Друзей самостоятельно выбирают. С кем поведешься...
— Это я теперь понимаю, «задним умом», как говорят...
— Вот видишь, сам определил, где у тебя ум находится!..
— Брось, коллега... И вы, судя по всему, не далеко от меня ушли. За что сидите, подельники?
— Я — за спекуляцию, он — птица покрупнее,— соврал Кирпиченок.
— Все ясно: и у вас был дефицит дензнаков. Такова наша интеллигентская жизнь... А что за товар был?
— Мелочевка... Спортинвентарь — лыжи, костюмы, мази... Тренером я работал,— вынужден был поддерживать версию Валерий.
— В самом деле, мелочевка. Стоило ли рисковать?
— Дело выгодное. Импортный товар с руками отрывали. И мастера спорта брали, и начальники всякие, кому для престижа надо.
— К импорту доступ не у каждого...
— Он и помогал,— показал Кирпиченок на меня.— В Министерстве внешней торговли служил. Все мог достать.
— Ого!.. Крупная дичь, выходит... Грех залетать на спекуляции.
— Какой он спекулянт?.. Сегодня мне переадресует партию ходового товара, завтра — другому. Все лимиты в его руках, он — хозяин, босс. А мы отстегивали «капусту». В конвертике, аккуратно...
Валерий вошел в роль, красочно расписывал мои мнимые возможности, а я еле сдерживал смех. Чтобы не выдать себя и своего подельника (только не по спекуляции), лег на койку, закрыл лицо спортивной курткой, заслонив глаза от яркого света. А Кирпиченок продолжал:
— Он чисто работал. У следствия ни одного конкретного факта нет. Все догадки, загадки, предположения. Вот и суд голову ломает, как за что-нибудь зацепиться. А он твердит: не виновен, привлекли необоснованно... Скоро полгода бьемся...— К моему немалому удивлению, Кирпиченок довольно хитро перевел разговор в нужное русло. Знает сосед, в чем нас обвиняют, не знает, но мы твердо стоим на своем: признаваться нам не в чем, у суда доказательств нет, мы не виноваты.
— Кодекс большой, статью найдут,— «успокоил» Игорь.— Квалифицируют, как поборы или получение взяток... Вы-то, может, хотя бы пожили в свое удовольствие, но я капусту даже в руках не держал... А светит мне лет десять...
— Солидно... А статья какая?
— Взятки в крупных размерах. Срок — от восьми до «вышки».
— С конфискацией?
— Да. Только я гол, как сокол: квартиры нет, машины — тем более. Как развелся второй раз, стал от бабы к бабе переходить. Менял их, как носки. Сейчас, пожалуй, даже шмотки свои не соберу, не помню, что у какой оставил... Хотя что по волосам плакать, если головы нет.
— Ты прав,— ехидно поддакнул Валерий.
— Одинаковые мы... Слушай дальше... Заело безденежье. Бабы — они «бабки» любят,— попытался он скаламбурить.— А у меня оклад 168 рэ. Разве можно в Риге на такой мизер прожить?
(«Правильно, оклад следователя 168 рублей»,— отметил я для себя.)
...— Как говорится, попал в финансовый цейтнот. А тут, будто по заказу, расписывает мне начальство одно дело о взятках в торговле. Доказано, в принципе, все. Готовь обвинительное заключение и отправляй в суд. И вот сидит передо мною хапуга молодой. Понимает, что срок грозит, а кому на зону хочется?.. Осторожно так удочку забрасывает: «Моя судьба в ваших руках, не губите. Отблагодарю...» Я, конечно, взъерепенился: как можно, что ты себе разрешаешь, за это отдельная статья!.. А сам лихорадочно размышляю: полностью дело прикрыть нельзя, это факт, но вот исключить несколько эпизодов вполне реально. Он, змей искуситель, почувствовал мою слабину, продолжает: «Вы же сами знаете, что я мелкая сошка, что «наверху» берут больше. Так чем мы хуже их?.. Помогите мне, не будете обижены...»
— Разведку, наверное, провел. Каждому следователю такое не предложишь...
— Хрен его знает. Он все намеками, аккуратненько... Отправил я его, сказал, что подумаю. Перетолковал кое с кем... Говорят: «Если клиент надежный, рискни». В общем, позвонил он мне, договорились, что он три тысячи в телефонной будке оставит, а мой приятель заберет капусту.
— Перестраховался. Правильно.
— Все равно, видишь, влип. Дружка моего с поличным сцапали. Оказывается, мой клиент рассказал все своему папе, а тот, старый еврей, сразу в ОБХСС побежал. Сразу трех зайцев решил убить: деньги сэкономить, следователя заложить и сынка выгородить — помог, мол, взяточника разоблачить.
— Мудро сделано, ничего не скажешь...
Игорь, ломая спички, прикурил, сделал несколько глубоких затяжек, немного успокоился.
— Я мог чистым выйти, если бы дружок так называемый гнилым не оказался. Повязали его, он и раскололся, привез милицию прямо ко мне. Наручники на запястья, и вот Игорек Новиков — опасный преступник, которому грозит вышка.
— Могу повторить: друзей сам выбирал...
— Знал бы, что он такая сволочь, в тюрьму упек бы. Была такая возможность — изнасилование на нем висело, пожалел, выволок из дерьма. Думал, добром отплатит. А он мало что раскололся, навел на меня, так еще бочки покатил: таким не место в прокуратуре, он не первый раз вымогательством занимается,.. У него судимость за спиной, знает, как выслужиться... Да и боится — может пойти как рецидивист... Вот и крутит задом.
— Кроме, как себя, винить некого,— подвел итог знакомству Кирпиченок.— Жадность фраера сгубила.
— Понимаю... Жалко только, что этими тремя «кусками» не попользовался. Хотя бы было за что сидеть. А так и в глаза их не видел.
Что было в рассказе Игоря ложью, что правдой, предстояло еще узнать. Немалый опыт, накопленный в изоляторах, давал нам основание надеяться, что истина рано или поздно выйдет наружу. Тем более, что назвался он следователем, и любая неточность могла выдать его: как-никак мы с Кирпи- ченком еще два года назад работали в этой же системе. Так что Игоря, вздумай он вести двойную игру, ждало разочарование. Но гнать лошадей не имело смысла: времени у нас было в избытке, суд над нами шел, как говорят, через пень- колоду, с неоправданными задержками, и мы даже могли извлечь пользу из соседства с незадачливым юристом: вдруг он проговорится, чего боится Прошкин, чего опасается Кабанов, какое место в обвинении они сами считают наиболее уязвимым? К тому же присутствие третьего не давало нам с
Валерием переходить черту дозволенного в не самых простых отношениях между нами. Я уже упомянул, что основания для взаимных обид у нас были, от этого никуда не уйдешь. И новичок нередко был громоотводом, принимавшим на себя наши нервные разряды.
Но поначалу мы попросту разыгрывали его, пользуясь тюремным опытом (будь он неладен!). Вернувшись с прогулки, я сказал, как о давно решенном и не поддающемся обжалованию:
— Давай меняться «корами». Я беру твои сапоги, ты — мои ботинки. А то у меня ноги промокли...
— А причем тут мои сапоги? Мне они самому нравятся... Да ты и сам говоришь, что твои ботинки дырявые...
— Ты еще и базаришь? Валера,— обратился я к тезке,— объясни молодому человеку, как надо относиться к просьбе старших...
— Как в армии: не обсуждать, а выполнять!.. Помнишь, как в «Свадьбе в Малиновке»?.. Снимай сапоги — власть переменилась.
— Что вы, мужики? Это же моя вещь, бросьте шутить...
— Шутки остались на воле, здесь злая действительность!
— Я сапоги матери передам, они же почти новые.— Игорь растерянно переводил взгляд с Валерия на меня, не зная, как поступить.
— Ладно,— смилостивился я.— Мне недолго здесь осталось обретаться, в старых дотопаю. А на зоне керзачи выдадут.
— Не хочешь ты, тогда я сапоги заберу. Мои туфли совсем развалились,— продолжал игру Кирпиченок.— Все равно его или на этапе, или в Централе разденут. Всучат какое-нибудь гнилье...
— Да не собираюсь я ни с кем меняться. Идите вы...
— А за такие «пожелания» тебе морду набьют, как пить дать,— не мог остановиться мой тезка.— Уголовная публика не очень церемонится. Мы-то знаем.
— Тем более, если вынюхают, что ты следователь. Пиши — пропало!
Неудавшийся взяточник затравленно съежился, даже вроде бы уменьшился ростом.
— Ладно, живи, знай нашу доброту,— хлопнул его по плечу Кирпиченок.— Не нужны нам твои сапоги, мы ж не мародеры. К тому же, если ты следователь, должен заметить, что у меня нога меньше твоей размера на два-три...
— Только мне на такие мелочи и обращать внимание. Напугали, что хоть караул кричи. От испуга даже жрать захотелось, у меня организм так устроен,— будто оправдываясь, сказал Игорь и взял ломоть хлеба. Ел он некрасиво: отхватывал большие куски, громко чавкал, сопел. Нарочно или по незнанию он нарушил неписанное правило: в камере отдельно никто не ест. Чувство голода настолько поселилось в нас, что одно только напоминание о пище вызывало обильную слюну. Но в первый раз мы сделали вид, что не заметили нарушения «конвенции» ... Поживет с наше, научится...
— Немного заморил червячка,— Игорь высыпал в рот крошки с ладони, отрыгнул, вытер не очень чистыми пальцами губы.— Хоть это не шашлык, но все же...
— На твои 168 рэ шашлыком не часто побалуешься,— решил я проверить услышанную информацию.
— Конечно, на такие гроши не разгонишься... Что делать, я только год проработал следователем, еще даже не аттестованный.— Игорь допустил первый сбой: такой оклад был у юриста 3-го класса.
— Я на самой нижней ступеньке стоял, если по-военному говорить, даже до младшего лейтенанта не дорос... Только у нас классные чины, а в армии — звания. Скажем, юрист третьего класса — младший лейтенант, второго — лейтенант, первого — старлей... И так вверх, по трупам, до советников юстиции — генералов...
— И за звездочки платят?
— Копейки... Десятка какая-то, что ли... Я прибавку не успел получить...
— А форма на прокуроре чья: за свой счет шьет, или государство обеспечивает?
— Материал выдают на костюм... Пальто еще, туфли, шапку... Власть все-таки...
«Детали знает, видимо, имеет к прокуратуре отношение,— определил я.— Хотя это несложно и запомнить.»
Сокамернику приятно было, видимо, вернуться хотя бы мысленно в прошлую жизнь, и он ударился в воспоминания:
— Зарплата, конечно, не для молодого мужика, тем более с моими запросами. Но ничего, кое-какие дела провернуть можно было. То сам дефицитный товар достану, то подскажу, где он есть. Так и крутился...
— Но это же использование служебного положения...
— Можно думать, что районный прокурор, мой начальник, святой. Вот есть, скажем, в прокуратуре автомашина, «Волга». Ты думаешь, я хоть раз на ней на происшествие съездил? Держи карман шире... Шеф ее в личную превратил, а мы то к милиции пристраиваемся, а то и попутку ищем. Рыба с головы гниет.
— Что же молчали? Есть ведь и на прокурора управа...
— Против ветра дуть?.. Знаешь, в одном анекдоте вывод такой: «Кто в шубе ходил, тот и будет в ней ходить, кто голым задом светил, тот и продолжит». А с таким начальником еще и легче: у него рыльце в пуху, и мы под эту марку свое урвать можем.
Своеобразная логика в житейской философии Игоря была. Под «крышей» прокуратуры, руководитель которой сам нарушает служебную этику, несложно поступиться профессиональной честью и обделывать личные дела. Что, собственно, и сделал наш сокамерник. Только вот не повезло, попался.
...— Свела же меня нелегкая с этим подонком,— в который раз недобрым словом вспоминал Игорь своего подельника.— И куда мои глаза глядели? Ведь знал, что он уже сидел, три года за спекуляцию на зоне отбухал. Даже для карьеры не самый лучший знакомый, мало ли кто узнает?.. Так нет, познакомились в теплой компании, приглянулись друг другу...
— Прямо любовь,— ухмыльнулся Кирпиченок.
— Нам баб достаточно было, лишь бы шуршало в кармане. Показалось, что деловой он парень: разворотливый, сообразительный, конъюнктуру знает. Попросил машинку швейную достать —я помог, миксер понадобился — не отказал, запчасти к автомашине — пожалуйста. В общем, нашли общий язык. А теперь моя доброта боком вышла. Как повязали его, так все сразу и выложил, причем все на меня валит: Игорь, мол, спровоцировал, Игорь инициатор... Вот и верь людям.
— Не вижу повода для паники,— я сделал удивленное лицо.— Ты же следователем работал, а не можешь найти выход из простой ситуации. Деньги ты в глаза не видел, тем более — не брал. За что ты должен отвечать?
— Как — за что? Фактически пойман с поличным. Выхода нет, я уже сотню вариантов перебрал, но ни одной убедительной версии.
— Могу сто первую подсказать, только за плату. Вот, к примеру, за сапоги. Очень они мне понравились.— Розыгрыш Новикова продолжался.
— Если ты такой умный, то чего сам второй год сидишь и просвета не видно? Тоже, юрист доморощенный...
— Оправдают подчистую, даю гарантию,— не стал я распространяться о своей судьбе.
— Скорее булки с неба падать начнут, чем ты со своими делами на волю выскочишь. Не трепись, лучше давай совет, как мне отвертеться.
— Платить согласен?
— Посмотрим...
— Это не серьезно. Мне нужна гарантия.
— Даю слово. Подойдет вариант — сапоги твои.
— Тогда скрепим наш договор, как принято. Валера, будь «нотариусом».
— А мне какая выгода? Хоть что-то я должен иметь от этой сделки. Мое условие: проигравший отдаст свою пайку колбасы и сала...
Мы с Игорем протянули друг другу руки, Кирпиченок соединил их, а затем резко ударил ребром ладони по этому «договору»... А я вспомнил, как еще в Минске, в СИЗО МВД, заключил пари со следователем Андреевым, что суд определит мне срок меньше восьми лет. Рефери тогда был сам Прошкин. С кем только не приходилось вступать в спор за эти долгие тюремные месяцы!..
— Бросай свой спасательный круг, я готов.— Новиков нетерпеливо подгонял меня, то ли талантливо играя, то ли в самом деле надеясь на подсказку.
— Запоминай, горе — следователь. Ты должен заявить на допросе, что намерения взять взятку у тебя не было. Это была проверка взяткодателя, твоего торгаша. Получив деньги, ты хотел обратить их в собственность государства, сделав официальное заявление, что он тебе вручил энную сумму денег. Как, устраивает?
Вариант был ущербным, с изъяном, я это знал, но меня интересовала реакция Новикова. Он задумался, потом разочарованно произнес:
— К сожалению, версия несостоятельная. Поясняю: взяткодатель освобождается от уголовной ответственности, если он заявит, что дал такому-то лицу деньги. А взяткополучатель — нет. У него уже законченный состав преступления, как только он завладел деньгами. Вот не послал бы я кореша за деньгами, а заявил своему шефу или милиции и поехал с понятыми к той Телефонной будке, тогда бы не я отвечал, а мой «доброхот», чтоб он сквозь землю провалился. С поличным поймали бы его...— Игорь, вполне логично завершив анализ, свысока бросил в мой адрес: — Соображать надо, дядя. Не лезь с советами, если голова не варит.
— Как она у тебя варит, ты сам убедился. Связался с проходимцами: один — хитрый торгаш, второй — зэк. И обвели вокруг пальца следователя... А что касается моей версии, то другого шанса на спасение у тебя нет. Так что думай...
— Не учи ученого... Я правильно сделал, что признался. За это несколько годков скинут со срока. Вот и считай, что лучше.
Меня опять насторожили слова Новикова о признании вины, о смягчающих обстоятельствах, об уменьшении срока. Уж очень это походило на прямой совет нам с Кирпичен- ком, хотя сокамерник говорил о своем выборе. Странное все-таки совпадение. Или, может, это наша психика настолько надломлена, что мы в каждом видим врага, в данном случае — «подсадную утку»... Тяжело ты, бытие изолированное.
— Кто же проиграл? Ты, что ли, Валера?
— Почему? Пусть он скажет вариант следователю, затем повторит его в суде... И посмотрим, что из этого получится.
Цыплят по осени считают... А ты уже сегодня хочешь сала и колбасы. Рановато...
— Ну тебя, болтун. Никак не ущучить. Судья и тот не знает, куда от тебя деться. Не ты, а он на вопросы отвечает... Смех, да и только.
— Правду надо уметь отстаивать. А слово — это могучий инструмент для достижения этой правды,— став в позу трибуна, закончил я затянувшуюся проверку нового жильца камеры. Определенного мнения пока не сложилось. Мог быть и беспринципным взяточником, а мог и агентом, играющим чужую роль. Во всяком случае одно бесспорно: ухо с ним надо было держать востро, двуличия ему не занимать. Мог и добровольно «накапать» на нас, чтобы выторговать себе послабление.
Как оказалось, не питал особого доверия к новоселу и Кирпиченок. Когда Новикова вызвали к следователю, я успел его попросить:
— Игорь, возьми, если сможешь, чистой бумаги. Разбогатею, рассчитаюсь...
— С тебя рубль. Можно и в долларах. Беру, впрочем, любую валюту.
— Я уже забыл, как копейка выглядит. Полтора года денег в руках не держал. Как при коммунизме...
— Валера, который раз прошу: брось ты этот черный юмор. Я отупел от безделья, чувствую, гвоздь забить не смогу, не попаду по шляпке. Скоро восемнадцать месяцев держат здорового мужика взаперти, тунеядца воспитывают. А потом перевоспитывать начнут, к работе приучать станут. Прошкина с Кабановым замуровать тут хотя бы на неделю, посмотрел бы, как они завоют. Один два года следствие ведет, другой полгода в суде дело мурыжит. Бардак, да и только!
Новиков внимательно выслушал эту гневную тираду, заметил вскользь:
— Главное — не попадаться. А попавшись, не чирикать.
Валерий хотел что-то возразить, но Игоря увели из камеры.
— Что это он загадками заговорил?
— Это он про себя. Если не врет, то дела у него хуже губернаторских. Много ему светит, больше нашего...
— Кстати, сколько светит нам? Давай погадаем.— Кир- пиченок был способен быстро переключать внимание, вот и сейчас смешал на столе костяшки домино, зажмурил глаза и наугад ткнул пальцем. Медленно перевернул: «два-два».
— Видишь, ты везунчик — всего два года.
— Не торопись, давай по всем правилам. Тащи еще два раза. А затем сумму разделим на три.
В сумме получилось восемь, а мне, таким образом, выпадало получить от Кабанова два с половиной года.
— Повезло тебе, я же говорю — счастливчик,— будто гадалка, зачастил Валерий.
— Ничего себе — счастливчик. Я думаю из зала суда домой уйти, а ты, как прокурор, жаждешь моей крови...
— Разве я против? Позвони пушкарю, пусть выпустит. Скажи, что я так решил.
— Слушаюсь!— Я подошел к двери и нажал кнопку звуковой сигнализации.
— У тебя что, крыша поехала? Сдвиг по фазе? Эти дяди шуток не понимают.
— Какие тут шутки? Передам твою команду слово в слово.
— Запишись на прием к врачу. Лучше всего — к психиатру. И прикидываться не надо. Невооруженным глазом видно: дурак.
— Что случилось?— В кормушке показалось раскрасневшееся лицо контролера.
— Извините, пожалуйста. Нужна иголка с ниткой — трико зашить.
— Надо было утром просить, на обходе!
— Только что порвалось. Нагнулся, а швы и разъехались. Сгнило все от сырости.
Через несколько минут я держал в руках катушку ниток с воткнутой иголкой.
— Тебе же, авантюрист, шить ничего не надо. Доиграешься когда-нибудь.
— Зато у Игоря спортивные брюки в дырках. Надо же проявлять заботу о ближнем.
— Странный этот ближний. Не лежит у меня к нему душа. По его рассказам, не биография у него, а компот: дна раза женат, институт еще не окончил, а уже следователь, в каких-то притонах ночевал, спекулянтам помогал. Слишком много для одного человека. Боюсь, что подослали его. Пронюхать хотят, что мы еще для Кабанова приберегли.
— А нам все равно, не боимся мы волка и совы...— Увидев, что у Валерия удивленно поднялись брови, я поманил его пальцем и зашептал на ухо: — Легенду продолжаем: я из внешторга, ты мой подельник, тренер. Манипулировали валютой, имели отношение к дефициту. Пусть передаст своим хозяевам, бумаги у них нс хватит, чтобы записать все.
Валерий в осторожности пошел еще дальше: на листке бумаги задал вопрос: «Может, скажем ему правду, кто мы есть?» Я отрицательно покачал головой, для убедительности написал: «Ни в коем случае». Кирпиченок воспротивился: «Если мы не будем скрывать, кто мы на самом деле, его информация станет достоверной. Скажем, что невиновны, и это дойдет до ушей Кабанова.» «Правда им не нужна. Они ищут компромат. Продолжаем «вешать на уши лапшу». Пусть почувствуют, что здесь сидят не дураки. Только повторяй почаще: наша вина не доказана.»
Закончив этот бесшумный диалог, мы подмигнули друг другу; тезка на мелкие кусочки изорвал «секретный» листок и выбросил в мусорное ведро. Договор был заключен, игра продолжалась.
Какие сомнения мучали в эти минуты нашего сожителя, мы никогда не узнаем. Давал ли он действительно показания следователю, писал ли рапорт о нашем поведении и настроении — все это осталось тайной. Вполне возможно, что выступал сразу в двух ролях: и подследственного, и осведомителя. И такое случается, когда человек не выдерживает давления, ломается и готов на любой шаг, лишь бы угодить следствию. Возможно, это только домыслы, но каждый новый день добавлял довольно странные штрихи к портрету Новикова.
Вернувшись в камеру, Игорь протянул мне стопку белой бумаги:
— Знай мою доброту. И про обещанный рубль не забудь.
— Добро не требует оплаты. Оно не продается. Я вот в твое отсутствие и, значит, совершенно бескорыстно для тебя доброе дело сотворил.
Мой «высокий штиль» немного сбил Новикова с толку, он недоуменно посмотрел на меня, пожал плечами, чуть возмутился:
— Тебе легко говорить о бескорыстии, когда сотни тысяч где-то припрятал. Знаю я таких, встречал: кричат, что не виноваты, а сами еще те жуки. Вот и ты из этой обоймы. Вижу, парень не промах... Впрочем, с тобой есть кому разбираться... Что за приятный сюрприз ты мне приготовил?
— Держи.— Я протянул ему иголку с ниткой.
— ???
— Зашей трико, а то голым задом светишь. Как в том анекдоте, что ты начал рассказывать...
— Я ведь не обезьяна,— обиделся Новиков.— Нашел, когда подколоть... Неохота мне сегодня ничем заниматься. Лучше кайф половлю...— И он достал из кармана две пачки сигарет: «Балтику» и «Столичные».
— Следователь передала,— похвастался чуть ли не по- детски.— Давно хорошего табака нс нюхал.
Для начала он выбрал более дорогую сигарету, с фильтром. Удобно устроившись на койке, он забросил ногу за ногу, мечтательно уставился в потолок, изредка пуская дым кольцами.
Мы с Валерием никогда не курили, дым забивал и без того ослабленные легкие, и поэтому, естественно, особой радости сосед — курильщик нам не доставлял. Однако тюрьма — нс собственный дом, где можно сделать замечание нежданному и бесцеремонному гостю. Приходилось мириться, хотя Кирпиченок не стал скрывать неудовольствия:
— Иди хотя бы к форточке. Зачем мне твой никотин глотать.
— Не видел я, чтобы мужик дым не переносил. Вот у меня следователь — баба. И сама курит, и меня, видишь, выручила.
— Это интересно,— оживился Кирпиченок.— Считай, что тебе повезло. Разжалобишь ее, покаешься: влюбился, мол, без оглядки, хотел невесте угодить. А откуда у бедного следователя деньги? Вот бес и попутал...
— У меня две женитьбы уже за спиной. Так она и поверит в безоглядную любовь. Еще подельник про наши похождения, небось, растрепался... Не проходит твой вариант.
— Тогда к ней самой подкатись. Ты же мужик ничего, в самом соку. Тары-бары: «я разглядел и почувствовал ваше доброе сердце». Впрочем, ты у Сороко проконсультируйся. Он мастак по женской части. Дай ему возможность, он так голову задурит, что она через день сама шоколадки носить будет. Правду я говорю, Валерий Илларионович?
— «На то мужчине дана речь, чтоб в сети женщину завлечь»,— поддержав шутливый тон, по памяти процитировал я.— Это сказал великий сердцевед Уильям Шекспир. Не спорьте с классиком, господа...
— Вот вы скалите зубы, а мне не до смеха. Сразу установила дистанцию, тон сугубо официальный, вопросы ставит жестко. Никаких сантиментов. Не знаю, как и подступиться. Хочу прощупать, что у нее в загашнике, что, кроме основного обвинения, против меня есть, но ничего не получается. Кручусь, как белка в колесе, а выхода пока не вижу. А она потихоньку сеть плетет, чувствую, что запутываюсь... Боюсь, что дело мое — труба.
— Не хорони ты себя. Не успел под следствие попасть, а уже сопли распустил. Что нам тогда говорить? Второй год крутят нас, но, видишь, пока живы. И надеемся, что докажем свою правоту. А в крайнем случае, опротестуем решение суда. Еще не вечер...
— Бросьте треп, мужики.— Новикову было не до шуток.— От того, как она повернет дело, жизнь моя дальнейшая зависит, а вы про се экстерьер, будто у кобылы, брешете.
— С се экстерьером да в хороший интерьер — на диванчик, на чистые простыни...— Кирпиченок не мог остановиться.— Если полненькая, то Валерию подойдет, он любит, чтобы в два обхвата...
— У меня не такой испорченный вкус, коллега,— включился я в игру.— Не приписывайте свои пристрастия мне...
— Нет, ты представь, Валерий Илларионович: лежит с тобою рядом шесть пудов женского тела — жаркого, пышного, благоухающего французскими духами... И это все добро — твое...
— Многовато для меня... Остались кожа да кости, двадцать килограммов потерял... К тому же, уважаемый подельник, за полтора года под штыком я уже забыл, где находятся женские прелести...
— Лежала бы рядом, сразу вспомнил бы... А если провал в памяти, она напомнила бы: бабы до голодных мужиков охочи...
Непростая «женская» тема постоянно всплывала в наших разговорах. Ни мерзкий тюремный быт, ни полуголодное существование, ни изнуряющее душу и тело ожидание результатов суда не могли вытравить, полностью уничтожить мужское начало. Мне стукнуло тридцать шесть, Кир- пиченку едва перевалило за тридцать — мы находились в возрасте, как утверждает медицинская наука, зрелой любви, и половое воздержание отнюдь не являлось для нас обязательным, наоборот, оно было нам категорически противопоказанным. Мы, конечно, понимали, что СИЗО — это далеко не так называемый клуб для тех, кому за тридцать, где можно выбрать себе подругу для «удовлетворения взаимных интересов», и поэтому стоически переносили и эти лишения. Сложнее было выбросить из головы назойливые мысли о возможной неверности наших жен. Предвижу возражение блюстителей морали, что каждый судит о другом в меру своей испорченности, но прошу сделать скидку на экстремальные условия, в которых мы находились. Нет, ни моя Людмила, ни жена Валерия нс давали ни малейшего повода для таких подозрений, мы были бесконечно благодарны им за поддержку, за неподдельную доброту, которые ощущали и за глухими стенами тюрьмы. Мы понимали, что им приходится намного тяжелее, чем нам, что на их плечах и семья, и мы, отверженные; что только самый близкий и родной человек согласится делить неимоверные тяготы, которым, к сожалению, не было видно конца. Ни я, ни мой тезка — Кирпиченок нс скрывали слез, получив письма из дома, перечитывали их вслух; как драгоценность, принимали скромные посылки с продуктами; нам казалось, что вещи, переданные с воли, хранят тепло рук наших жен. И все-таки, да простит нас Бог и, главное, они сами — наши жены — страдалицы, мы их ревновали. В горячечном мозгу всплывали какие-то красавцы-обольстители, солидные толстосумы, «друзья семьи» — кто только ни привидится в полубредовом состоянии, когда не чувствуешь разницы между сном и явью, когда подступает глухое отчаяние и сам себе кажешься никчемным, никому не нужным человеком...
С трудом отогнав ничем не оправданные подозрения, вернулся к действительности. Услышал самоуверенный и пренебрежительный голос Новикова:
— Брось ты переживать, парень. Ты этих баб пачками будешь иметь, лишь бы желание. Вот я уже двоих бросил, найду еще дюжину... Это не проблема. А что касается твоей жены, пусть она голову ломает: кому она нужна с «прицепом»?.. Если, конечно, не дождется; не вильнет «налево»...
— Дурак ты, хотя и следователь!— не совсем логично, но решительно оборвал его Кирпиченок.— Для тебя женщина — это постельная принадлежность, а мне в человеке душа важна. Ты сдохнешь помойным котом где-нибудь в подворотне, мне это ясно. И нс давай советов: в своей семейной жизни я сам разберусь.
Новиков обиженно умолк, а Валерий начал до изнеможения отжиматься от пола. Такое с ним случалось довольно часто.
...Вызывающая циничность нового сокамерника отталкивала: не хотелось верить, что такой беспринципный хлюст работал следователем, был моим коллегой, что от него зависели судьбы людей. К тому же в изоляторе он жил по какому-то странному графику, будто его не касались ни принятый распорядок дня, ни служебные инструкции. Однажды утром мы ожидали разрешения идти на прогулку, но тут отворилась дверь, и Новикова во внеурочное время вызвали на допрос.
— Прямо-таки таинственный узник,— обеспокоенно заметил Кирпиченок.— Ты заметил: с допросов возвращается с дорогими сигаретами; говорит, следователь покупает для него. И в то же время утверждает, что тот же следователь — злая, неприступная баба. Не вяжется как-то одно с другим. Туфту он гонит, по-моему.
— Пусть его... Он темнит, и мы продолжать будем. Раз сказали, что сидим за спекуляцию, на том и стоять будем. И надо повторять, что вину нашу никто не докажет, кишка, мол, тонка. Если он агент Прошкина, пусть передает своему шефу. Тот, надеюсь, поймет, что к чему... А чтобы проверить этого Новикова, попробуем провести эксперимент. Мы же с тобой профессионалы...
— Как это?
— Очень просто: ты заметь, в каком порядке лежат твои бумаги, я между своих листов положу стержень, карандаш и ручку. Придем с прогулки — проверим.
— Я волос засуну в тетради,— загорелся идеей Кирпиче- нок.— Его трудно заметить... Быть не может, расколем пижона.
Поставив предполагаемому сексоту нехитрые ловушки, мы ушли на прогулку. И там, не боясь чужих ушей и глаз, продолжали искать варианты разоблачения Игоря Новикова.
— У тебя скоро должна быть встреча с адвокатом,— вспомнил я.— Попробуй выведать, знает ли он что-нибудь о нашем сокамернике. Если он говорит правду, что попался на взятке, то об этом должны знать в Риге. Не так это часто случается, чтобы следователя ловили за руку...
— Верно! Это идея. Местные юристы могут многое рассказать.
Довольные собственной сообразительностью, в хорошем темпе провели интенсивную физзарядку, даже попробовали немного бороться, чем вызвали немалое удивление охранника: «Надо же, суд над ними идет, зоной «пахнет», а они, будто дети, силой меряются. Непонятный народ, эти белорусские следователи и сыщики.»
В камере уже был Новиков. Он лежал на койке, закрыв глаза. В пепельнице дымилась дорогая сигарета...
— Как, половой разбойник, соблазнил свою следчую?— полушутя попытался вызвать я его на откровенность, а Валерий тем временем проверял наши «капканы».
— Плевать хотел на эту старую лярву. У меня молоденьких шкур хоть отбавляй,— не глядя в мою сторону, отрезал Игорь.
Я удивленно глянул на Кирпиченка. Тот вначале недоуменно пожал плечами, а потом знаками показал, что наши записи не тронуты.
— Что не в настроении?— не отставал я.
— Наверное, не договорился о свидании,— будто не замечая плохого настроения Новикова, ответил за него Валерий.— Видишь, встреча шла меньше часа. Показала она ему от ворот поворот.
— Тебе бы только зубы скалить... Подкинула она мне ежа, не знаю, что и думать... Неужели кто-нибудь проболтался из друзей? Может, Гарька?.. Или в записной книжке что обнаружила?..
Сосед говорил какими-то загадками: то ли рассуждал сам с собой, то ли продолжал диалог со следователем.
— Если записная книжка ей в руки попала — дело дрянь... По ней быстро все твои «концы» установят, всех дружков и подружек вычислят...
— До меня только теперь дошло, как я накололся. Всех знакомых потянут на допросы, а те от страха на меня столько навалят, что век не отмоешься... Не знаю теперь, откуда и ждать подвоха... Вот и играет моя красотка со мной, как кошка с мышкой...
— Бери пример со старших,— назидательно произнес Кирпиченок.— Вот этот коммерсант,— он показал на меня,— на глазах у следователя изорвал записную книжку. Так что остался тот с длинным носом.— И Валерий изобразил, какой хобот вырос у Прошкина.
— Где мне с вами тягаться. Вы хоть пожили в свое удовольствие, небось, заначки припрятали. А я и денег в глаза не видел, и баланду вонючую хлебаю...
Игорь рывком встал с койки и, ни у кого не спрашивая разрешения, залез в наш НЗ — запас сухарей, который мы создавали на случай, если вновь попадем в Рижский централ, где хлеб является дефицитом, не говоря уже о том, что он там отвратительного качества. Должен сказать, что Новиков не впервые посягал на наше богатство, и это его самоуправство вызывало протест, правда, пока внутренний: нам с тезкой было неудобно поднимать скандал из-за куска хлеба. Хотя от громкого чавканья и хруста, стоящего в камере, обильно текла слюна: мы, повторюсь, были постоянно голодны, и любое упоминание о еде оказывалось настоящей пыткой.
— Перестань чавкать!— не выдержал Кирпиченок.
— А тебе что, жалко?— засовывая в рот новый сухарь, прошамкал Игорь.
— Если хочешь откровенно: да, жалко! Мы бережем каждую крошку, у самих под ложечкой сосет, а ты, как хомяк, набиваешь защечные мешки. Надо же и о других думать!
— Жадина! Жадина!— совсем по-детски выкрикнул Новиков, казалось, он вот-вот расплачется, как ребенок, которого лишили любимого лакомства. Сцена была до унизительности неприятная, но что делать — такова тюремная жизнь. Игорь вновь лег на койку, повернулся к стене и угрюмо молчал до самого обеда. Когда пришло время хлебать баланду, он демонстративно не притронулся к хлебу, всем видом выражая свое недовольство сокамерниками. Нам было немного смешно, но еще более грустно: взрослые мужики поссорились из-за пайки хлеба.
После скудной трапезы Новикова опять вызвали на допрос. Решив не тратить эмоции на разбор «нештатной» ситуации, мы занялись более важным делом: анализом выдвинутых против нас обвинений и поиском контраргументов. Собственно говоря, такая логическая игра, ставки в которой были очень высоки, являлась основным нашим занятием в последние полтора года. На этот раз мы просчитывали все «рго» и «contra» в судьбе Кирпичснка.
Все рассуждения Валерия вращались вокруг четырех человек, давших показания против него: самого Адамова, инспектора милиции по делам несовершеннолетних из Витебска Татьяны Кукуруза, подростков Гирева и Мотыленка (впрочем, двое последних к этому времени уже давно вышли из юного возраста).
— Адамов — подонок, это, я надеюсь, поймет и судья Кабанов. Меняет показания, как проститутка. Даже на своем суде не заикался, что его избивали, а тут купил его Прошкин... И вот получите подарочек: «применяли физическое воздействие...»
Валерий расхаживал по камере, жестикулировал, громко спорил с воображаемыми оппонентами, возмущался, приводил доводы в свою пользу, опровергая домыслы врагов.
— Это будет самое страшное, если поверят Адамову,— согласился с ним я.— Но вряд ли суд зайдет так далеко, проглотив наживку Прошкина. Должна же совесть у Кабанова заговорить.
— Про совесть они забыли давно, наверное, не знают, что это такое,— отбросил высокие материи Кирпиченок.— Другое дело, что элементарно побоятся вносить в приговор заведомую ложь. Ведь есть же и на них какая-то управа. Тот же Верховный суд Союза.
Вычеркнув из перечня предъявленных ему обвинений этот эпизод, Валерий с яростью начал опровергать показания Т. Кукуруза, с которой он раньше работал в Витебском ЛОВД.
— Эта шлюха не может простить, что я выступил против нее на товарищеском суде чести. Так и сказал тогда: «Гнать надо таких блядей из милиции, чтобы не позорила мундир!» Сколько она пропустила через себя южных красавцев, одному черту известно... И вот подобрала момент, стерва, ударила поддых. Я, кричит, видела, что Кирпиченок избивал несовершеннолетнего. Чего ж ты, сука, рапорт на меня в тот же день не написала?
Попадись ему в тот момент под руку эта самая Кукуруза, я бы и гроша не дал за ее жизнь. Действительно, в свое время, когда против Валерия было выдвинуто обвинение в превышении власти, в избиении подростков, заподозренных в краже мотоцикла, Анатолий Журба допрашивал инспектора по делам несовершеннолетних Кукуруза. И она ни словом не обмолвилась о применении силы. Теперь же «вдруг» вспомнила. Женское коварство и женская месть не знают предела...
Продолжить «разбор полетов» нам не удалось: вернулся в камеру Игорь Новиков. Злой, расстроенный, он бросил на койку свои бумаги, смачно выматерился.
— Опять неудачное свидание?— не пожалел сокамерника Валерий.
— Пошел ты с этим свиданием!.. Обвинение предъявили: взятка в крупных размерах... От восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Так что десять, как пить дать, сунут.
— Бывает, суд изменяет санкцию. Так что не паникуй,— забыв о своих подозрениях, искренно пожалел я неудачника.
— Вряд ли суд пойдет на это. Сейчас как раз мода на борьбу с нетрудовыми доходами. К тому же я — должностное лицо. По самую завязку отвалят бывшему коллеге.
— Оперативно твоя «подруга» работает, ничего не скажешь...
— А чего ей тянуть. Считай, с поличным попался... Хорошо, что от «довеска» отвертелся, а то бы вообще вешаться надо.
— Какого «довеска»?
— Переспал с пацанкой. Слава Богу, что ей шестнадцать стукнуло, а то загремел бы под фанфары еще по одной статье: «вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Хоть тут повезло, пол месяца в мою пользу оказалось. Перед самым арестом по пьянке трахнул. Правда, я у нее уже не первый был...
— Первый — не первый, какая разница. Тебе что, взрослых мало? Ты же распинался здесь, что женщины тебе на шею вешаются. А полез к малолетке...
— Я же говорю: по пьянке. Что я, паспорт у нее спрашивать буду? Подвернулась, вот и переспал.
— С тобой все ясно. Я тебе точную характеристику выдал — «помойный кот».
— Брось мораль читать. Поздно. Буду тянуть срок, хоть вспомню. Все-таки десять лет на голодном пайке — это не каждый вытерпит...
Новиков шумно вздохнул, затем бесшабашно махнул рукой и предложил Валерию:
— Давай лучше сыграем в домино. Вдруг выиграю.
— Не до тебя. У меня суд идет. Вот сейчас надо прокурора раздолбать. Заготовки делаю...
— А судья кто?— почти по Грибоедову задал вопрос Новиков.
— Кабанов.
— Чего ж вы резину тянете? Всуньте ему взятку — и дело в шляпе. Вернее, вы его выиграете.
— Не трепись. Если ты брал, это не значит, что все взяточники...
— А я вам говорю, что Кабанов берет взятки. Даю гарантию. Ваше дело верить или не верить, но это точно.— Новиков говорил с таким убеждением и уверенностью, что мы готовы были ему поверить, если бы... Если бы не было подозрения, что он человек Прошкина, специально подосланный в камеру, чтобы прощупать наше настроение, а то и спровоцировать на необдуманный поступок. В данном случае он прозрачно намекал на возможность взятки, подсказывал точный адрес. Это в нашем положении было бы смерти подобно...
Любвеобильный взяточник-юрист прощупывал нас, а мы с Кирпиченком почти с удовольствием вели против него свою игру. Валерий получил от своего адвоката достоверную информацию, что действительно в Риге арестован следователь Новиков, которому предъявлено обвинение во взяточничестве. Но вот кто сидит с нами в камере: Новиков или его двойник, никто сказать не мог. Мы неплохо знали кухню сыска и слежки, в судебном заседании нам зачитывали показания тайных агентов, так что доверяться словоохотливому сокамернику у нас оснований нс было. А вот поводить его за нос стоило.
Я же на одной из прогулок прощупал даже его физические возможности. Новиков часто хвастался, что он отлично боксирует, даже выполнил норматив кандидата в мастера спорта. И когда я после разминки начал вести «бой с тенью», нанося удары предполагаемому сопернику, Игорь предложил себя в качестве спарринг-партнера. «Ну, заяц, погоди!» — злорадно ухмыльнулся я и взялся за дело всерьез. Наверное, увидь меня в те минуты мой добрый друг Владимир Ботвинник, чемпион Спартакиады народов СССР, он дал бы мне высокую оценку. Новиков был младше меня, недавно пришел с воли, не успел отощать, как я, но ничего серьезного противопоставить моим атакам не мог. Я сериями пробивал его глухую защиту, временами даже подсказывая, куда буду наносить удар. О каких-либо активных действиях Игорь и не помышлял, лишь болезненно морщился от довольно чувствительных аперкотов и крюков. Кирпиче- нок с улыбкой наблюдал за нашим своеобразным ритуальным танцем, временами бурно приветствуя наиболее эффектные удары. Правда, скоро мы с Новиковым выдохлись. Мне было трудно передвигаться по тюремному рингу: стертые подошвы зэковских ботинок скользили по настывшему бетону, к тому же мои «боксерки» были без шнурков, так требует служебная инструкция. У моего соперника была цивильная обувь — туфли на капроновых «протекторах», это давало ему определенное преимущество, но воспользоваться им он не мог.
— С явным преимуществом победил Валерий Сороко (Белоруссия),— торжественно объявил наш рефери Кирпи- ченок.
— Не тянешь ты на кандидата в мастера,— подвел я итог боя.— Второй разряд, не больше.
— Ладно, чемпион, согласен, ты сильнее,— не стал перечить Новиков.— Я вот только диву даюсь: сидишь в СИЗО полтора года, а форму сохранил. Двужильный ты, что ли?
— Тренируюсь. Хочу выйти и морду Прошкину набить. Хотя мы в разных весовых категориях: он, наверное, во второй тяжелой, а я теперь, пожалуй, в легкую или полулегкую попал бы. Но ничего, на него здоровья хватит. Пару боковых по печени, а потом прямой правой — в челюсть. Валера секунды отсчитывать будет:... восемь, девять... аут!
— Это я с большим удовольствием. А сам еще бы и Суханова отдубасил.
— Разошлись вы что-то, агрессоры,— улыбнулся Новиков.— Эти мужики следователи ваши, что ли?
— Да. Чтоб им ни дна, ни покрышки. Мурыжат, гады, концы с концами у них не сходятся, вот и тянут резину.
— Слушайте, подельнички, а как это получилось, что вы столько месяцев за следствием числились? Ведь больше шести месяцев закон не разрешает, не обращались же они в Президиум Верховного Совета СССР, чтобы продлить срок содержания под стражей?
— Тут хитрая тактика. Обращаться за продлением срока никто не хочет, побаиваются. Вот и нашли лазейку: как полгода прошло, они передали дело в Верховный суд БССР. Пять месяцев мы числились за ним, затем месяц за Верховным судом Союза, столько же за прокуратурой СССР, а с июля 1987 и до сих пор, до марта 1988-го, за Верховным судом Латвии. Прошкин и его компания спихнули в суд, а следствие-то, по сути, до сих пор продолжается. Свидетелей новых где-то на помойках откапывают, хотя по закону не имеют права этого делать.
— Смотрю я, здорово ты сечешь в юриспруденции. Скрытный ты мужик, братка белорус...
— А зачем мне душу нараспашку держать? В моей ситуации каждое слово на вес золота.
— Ты не ответил все-таки, откуда кодексы так хорошо знаешь,— не отставал Новиков.
— За эти полтора года, что я сижу, все законы наизусть выучить можно. Сами следователи зачеты и экзамены принимают, а я «неуд» не люблю получать. Нельзя мне в двоечниках ходить. Не стипендии лишают, а свободы.
— Все равно, темните вы со своим подельником. Я к вам со всей душой, а вы все хотите меня бортануть.
— У тебя своя беда, у нас — своя. Помощи-то от тебя ждать не приходится, чего же зря воздух сотрясать, впустую шары гонять.
— Как хотите... Но я все-таки местный, здешнюю публику немного знаю.
— Какой же ты местный? Ты же говорил, что родом из Вильнюса.
— Когда это было?.. Я уже давно рижанин. Две жены здесь, полгорода знакомых. В университете на юрфаке кое- какие концы есть...
— Какие концы могут быть у студента?— подколол Кир- пиченок.— Помнишь, ты рассказывал, что диплом готовился защищать?
— А я его и защитил, тема у меня: «Уголовное наказание за контрабанду и валютные операции». Только накрылся мой университет, наверное... Госэкзамены сдавать надо, а я тут «загораю».— Забыв об обещанной помощи, Новиков переключился на собственные заботы.
— Будет справка о неоконченном высшем образовании,— меланхолично заметил я.
— Справка — это бумажка, а диплом — штука солидная, одни корочки чего значат. Только не видеть мне их, как своих ушей.
— Благодари Бога, что попал в камеру к умным людям,— покровительственно похлопал я его по плечу.— Могу дать совет, причем, в отличие от тебя, бесплатный.
— Опять какая-нибудь подначка?
— Не меряй всех на свой копыл. Ты же сам недавно говорил, что мы с Валерой — люди серьезные. Так вот, передай через адвоката матери, чтобы сходила в университет и написала от твоего имени заявление об отчислении по собственному желанию. Причину придумать несложно. Отсидишь, выйдешь и восстановишься в вузе. Ясно?
— За такой совет бутылку «Наполеона» не жалко. Или самую лучшую кадру из валютного ресторана.— Игорь взволнованно зашагал по камере, вслух придумывая убедительную причину для подачи заявления. Потом вдруг остановился, разочарованно вздохнул:
— Боюсь, успели дать информацию в деканат. А если так — пиши пропало...
— Суда-то не было еще. Так что по закону ты пока не виноват. До приговора никто не может назвать тебя преступником.
— Плюют они на все законы, вместе взятые. Наша прокурорская фирма, небось, сразу накапала: очистили, мол, свои ряды от матерого взяточника. Дело-то у меня шумное, звон по всей Латвии прошел.
— Звон может быть и пустым...
— Будет видно. Но попытку я сделаю обязательно. Думаю, что вузу самому лучше отчислить втихаря, чем по какому-нибудь постановлению. Зачем лишнее пятно...
Несостоявшийся юрист, без всякого сомнения, остался доволен моей нехитрой подсказкой. Заметно повеселев, он сладко потянулся и неожиданно выпалил:
— Женщину бы сейчас. И винца красненького бутылочку для мужской потенции...
— Мне бы твои заботы!— удивился Кирпиченок.— Я, когда попал в СИЗО, неделю глаз сомкнуть не мог, думал, с ума сойду. А ты дрыхнешь, как пеньку продавши, а чуть глаза продерешь — жрать начинаешь, сухари жуешь. А тут уже и о бабах заговорил. Не нервы у тебя, а канаты пеньковые...
— Переживай — не переживай, ничего не изменишь. Чему быть — того не миновать. В общем, мой девиз: «плюй на все, береги здоровье».— Новиков заговорил избитыми афоризмами.
— Это тут, в КГБ, можно еще говорить о каком-то здоровье. Вот, не дай Бог, попадешь в Рижский централ, волком взвоешь. Здесь, считай, курорт по сравнению с тем изолятором. В том бардаке кошмарном улыбаться разучишься, не то, чтобы хохмить. Но, может, минует тебя чаша сия,— успокоил я сокамерника, увидев, как вытянулось его лицо.
— Буду надеяться. Я вообще-то фартовый, если не считать последнего прокола...
Везучий Новиков или нет, узнать нам не удалось. Как только судья Кабанов объявил, что взял перерыв для написания приговора, Игоря забрали из нашей камеры.
— Вот видишь,— резюмировал Кирпиченок,— слушанье дела закончено, и наши разговоры перестали всех интересовать. Миссия его завершена.
— И, надо сказать, безрезультатно. Ни хрена он от нас не услышал. Зря только с нами баланду хлебал.
— Не переживай за него. Сам знаешь, по два раза в день якобы на допросы вызывали. Подкармливали, конечно. И сигаретами одаривали. Одни убытки конторе. Это только ты Адамова за свой счет жареной курицей угощал. А он сейчас тебя, как ту курицу, сожрал и косточки выплюнул. Гуманизм — он нс для таких, как Адамов. Ты поверил: ах, он раскаялся, решил очистить душу от греха, совесть в нем заговорила. Он, как и Прошкин, и понятия не имеет, что это такое.
...Последние дни перед приговором превратились в сущий ад. Государственный обвинитель — прокурор Мартинсон — потребовал для каждого из нас пятерых, включая и не взятого под стражу Анатолия Волженкова, таких сроков, что будь только его воля, то (простите за каламбур) нам «век воли не видать». Оставалась призрачная надежда на порядочность судьи Кабанова, но и она улетучивалась по мере приближения 5 апреля 1988 года, когда должны были огласить приговор. И вот этот день наступил. Он настолько запечатлелся в моей памяти, что я почти поминутно могу восстановить все его события.
Итак, 5 апреля 1988 года, вторник. Проснулись мы с Кирпиченком задолго до шести утра, когда контролеры поднимают всех обитателей СИЗО. Еще раз пересмотрели ставшую неказистой от долгого лежания одежонку, смазали кожицей от сала туфли, попробовали подшутить друг над другом.
— На тебе, тезка, костюм как на пугале огородном висит...
— ... «Не лучше ль на себя, кума, оборотиться»,— вспомнил я в ответ строки Крылова.
— Кстати, это и хорошо, что мы так выглядим. Я анекдот вспомнил, как раз про нас.— На Кирпиченка, как это часто бывало в стрессовых ситуациях, напала болтливость.— Хочешь, расскажу?..
— Вали кулем...
— Прекрасных дам здесь нет?— Валерий обошел камеру, заглянул под койки, дурашливо понизил голос до шепота.— Тогда слушай, коллега. Приходит старушка в аптеку и просит продать ей ... презерватив. Девчата молоденькие похихикали, но покупатель есть покупатель, отпустили товар. Старушенция отошла в уголок, распечатала упаковку и начала натягивать находящийся там предмет на голову. «Бабуся,— кричат аптекарши,— он предназначен не для головы, а для другого органа...» «Знаю, детки, знаю,— отвечает бабка.— Я иду в райсобес, помощи просить. Вот и надо, чтобы у меня вид был...» — Тут Валерий помолчал, подбирая слово, и закончил: — Хреновый!
— Мораль сей басни такова: нам надо выглядеть замученными тяжелой неволей,— сделал я резюме.— Но боюсь, что поздновато уже бить на сострадание. Судьба свершила приговор...
— Не судьба, а Кабанов. И мы пока не знаем, проклинать его или в ножки кланяться...
— А ты погадай, любезный...
Валерий быстренько смешал кости домино, зажмурил глаза, выхватил из кучи костяшку.
— Тебе два года условно,— обрадовал он.— Везунчик...
Дрожащей рукой взял еще «карту».
— Тьфу ты, черт!.. Четыре с половиной... Где же справедливость?!
— Все врут календари.— Я смешал домино, предложил тезке: — Послушай, как настроение у подельников. Что-то тихо у них.
Кирпиченок подошел к стене, приложил к ней ухо, замер. В соседней комнате ждали, как и мы, решения своей участи Анатолий Журба и Владимир Буньков. В утренние и вечерние часы, когда в изоляторе стояла полная тишина, мы часто слышали глухой кашель Журбы, его охрипший баритон... Слов разобрать, конечно, было нельзя, но по тональности мы безошибочно определяли, какое настроение у соседей. Сегодня там было непривычно тихо.
— Спят еще, как сурки,— удивился Кирпиченок.— Ну и нервы у под ельничков.
— Вчера допоздна шум стоял. Ночью слышал, как Журба что-то бубнил. Сморились, наверное, сны последние досматривают. Я и сам под утро будто на зоне побывал. Бараки видел, колючка вокруг многослойная, вышки с пулеметами... Проснулся в холодном поту.
— Не переживай. Сны всегда наоборот предсказывают. Домой пойдешь...
— Ладно уж, предсказатель. К концу дня определим, чем сердце успокоится...
— Оно у меня до конца жизни не успокоится. Эти месяцы под штыком я Прошкину и судье никогда не прощу. Попаду на зону, каждый день жалобы писать буду, никому не дам пощады. Нас вроде бы за липу судят, а сами столько наворотили, столько дерьма собрали, что диву даешься. Что мы для них? Мелкие сошки, нас и придавить можно.
— Не так и просто это сейчас. Все-таки перестройка горбачевская идет, гласность в моде. Побоятся они, в первую очередь, Кабанов, взять на себя грех. Самим недолго на наше место попасть.
— А кого им бояться? Прокурора Союза?.. Он же, по сути, и держит нас здесь. Ты что думаешь, они «искренно» заблуждаются, приписывая нам невесть что? Может, считаешь, что Прошкин не раскусил Адамова? Сегодня им этот подонок нужен, они его и используют против нас, заигрывают с ним. А попадись тот же Адамов в самом начале не нам с тобой, а Прошкину или Суханову, они бы ему не пятнадцать лет припаяли, а вышку. Как тому же Михасевичу. И глазом не моргнули бы...
Валерий «сел на любимого конька». Доставалось всем подряд: и Адамову, и Прошкину, и судье. Зацепил краем и меня — ему не понравилось, что я представил суду 200- страничное опровержение.
— Этот Кабанов пока разберется с твоей писаниной, нервы нам вымотает.
— Успокойся, во всем он уже разобрался. Сегодня на приговор нас везут. Забыл, что ли?
— Ничего я нс забыл. Только ты своими подколками довел его до белого каления, вот и выпишет нам на полную катушку,— Валерий вернулся, наконец, к началу разговора, к самой большой проблеме: сколько лет лишения свободы определит судья каждому из нас.
Возразить я не успел — открылась кормушка.
— Кушать подано!— раздался голос баландера.
— Веришь или нет, первый раз про еду забыл,— нашел силы улыбнуться Валерий.— Быстрее бы вся эта тягомотина окончилась.
От завтрака мы все-таки не отказались — день предстоял трудный, и даже тюремная пайка была далеко не лишней.
— Что день грядущий нам готовит?— Я нетерпеливо выхаживал от окна к двери, задерживаясь у нее подольше, прислушиваясь, нс заскрипит ли в скважине ключ.
— Уже скоро 9, суд начинается в 10. Пора нам подавать карсту.— Нс находил себе места сосед.— Конвой забастовал, что ли? Прибавку к жалованью требуют? Мать их пере- мать...
— Валера, не переживай. День — туда, день — сюда: какая тебе-то разница? Ясно, что ты идешь домой. Вот мне нет на что надеяться, это факт. Восемь лет запросил Мартинсон у суда для моей персоны. Ты вдумайся: восемь! С ума сойти можно!
— От этих сволочей всего ждать можно. Чует мое сердце, что сговорились — договорились они давно, а с нами в кошки-мышки играют, для маскировки делают вид, что анализируют, размышляют. Нажали на Кабанова, это ясно. А что ему делать? Не враг же он себе. С волками жить — по-волчьи выть.
— Сейчас Кабанов с заседателями должен находиться в совещательной комнате. И — никаких контактов ни с кем, даже с Генеральным секретарем или с Генеральным прокурором. Абсолютная независимость. Так требует УПК.
— Опять ты про закон, про кодексы. Забудь про них, гражданин бывший юрист! Плюют они на все с высокой колокольни. Нас с тобой, между прочим, в первую очередь.
Все, о чем говорил и даже кричал Кирпиченок, я знал не хуже его: уже одной встречи с Прошкиным было достаточно, чтобы перестать думать о высоких материях. Но... надежда, опять-таки, покидает последней, и вера в справедливость, в чудо не оставляла меня.
5 апреля 1988 года никаким надеждам сбыться было не суждено. Открылась кормушка и бесстрастный голос контролера сообщил:
— Сегодня на суд не поедете! Готовьтесь на прогулку.
Мы с Валерием онемели. Я ни разу не слышал такой оглушительной тишины. Сколько длилась эта немая сцена, сказать нс могу. Привело меня в чувство карканье вороны, ворвавшееся в открытую форточку. Кирпиченок, сжав голову руками, еще был в шоке.
— Ка-а-а-р-р!— вновь донеслось из-за окна.
— Да заткнитесь вы там!— вскочил Валерий и замахнулся на невидимых ворон.— И без вас хоть вешайся!..
— Это Прошкин с Кабановым над нами издеваются. Приготовились падаль клевать, надеются, что мы загнемся здесь.— В моем мозгу рождались самые невероятные аллегории, но каждая из них нс отражала и сотой доли того возмущения, что буквально распирало меня.— Гестаповцы и те гуманнее были: к стенке — так к стенке. А эти же корчат из себя блюстителей права, а сами поджаривают на медленном огне.
— И нас еще обвиняют в каком-то воздействии на Адамова!.. Да мы с тобой ангелы по сравнению с этими кровопийцами. Ведь знают, гады, что каждый день здесь годом кажется. Тем более теперь, перед финишем. Сорок пять дней писать приговор — и на тебе: опять «пусто-пусто». Кабанов в книгу рекордов Гинесса попадет, это точно!
В лексиконе Валерия были выражения покрепче, не выбирал их и я. Долго мы сотрясали застоявшийся воздух камеры проклятьями, угрозами, а то и просто элементарной матерщиной. Такой же «концерт» слышали из-за стены, ще находились Буньков и Журба. Даже контролеры, обычно требующие тишины, и те не решались сделать нам замечание. Здесь, в СИЗО КГБ, они, кстати, были довольно человечными.
В положенное время заскрипела дверь, и старшина-пушкарь приказал-прсдложил:
— Идите на прогулку. Проветрите мозги. Может, немного остынете. А то крик стоит, как в Рижском порту.
Пришлось снять «парадные» одежды. Нехотя натянули на отощавшие тела выношенные спортивные костюмы, поплелись на воздух. Обычно прогулка доставляла нам радость — это была единственная за сутки возможность увидеть над собою небо, пусть даже и в клеточку. Сегодня нам вверх смотреть нс хотелось. Апрельская просинь оставалась недосягаемой, а мы, наивные, надеялись окунуться в нее — вольные и счастливые — уже завтра...
— Что за ЧП произошло? Судью убили? Прокурор повесился? Заседательница аборт сделала?— Кирпиченок был зол до предела и крыл наших мучителей с помощью всего словарного запаса русского и белорусского языков.
— Очереденой финт наших «благодетелей». Наверное, узнали, что Кабанов по меньшему пределу нам отмерил, вот и обложили его, как зайца. Свою шкуру спасают, сволочи!..
— Давай не паниковать.— Валерий иногда (я об этом уже рассказывал) буквально поражал меня резкими переходами, после безоглядной ругани начиная рассуждать четко и осмысленно.— Все прояснится к вечеру. Кто-то из наших должен приехать на суд?.. Должен!.. Значит, к концу дня ждем передачу. А с ней — и какую-либо весточку.
— А если им заранее сообщили, что судебное заседание перенесено?.. Так и будем сидеть у разбитого корыта? Ты думаешь, придет судебный исполнитель или секретарша, извинятся перед нами... Так, мол, и так, уважаемые подсудимые, вы уж простите нас, пожалуйста, мы не управились написать приговор. Не обессудьте...
— Мне их извинения до одного места... Но что-нибудь к вечеру узнаем.— Мой подельник обрел уверенность.
На этот раз он оказался провидцем. Возвращаясь с прогулки, мы спросили у этажного контролера:
— Когда на нас «заяву» подали?
— Сегодня.
— Так чего ж ты... Извините, чего же вы нас проветриваете?
— Заявку на вас подали на 11 апреля. Недельку еще с нами поживете...— И добавил совсем не по-уставному: — Что, мужики, переживаете? Обрыдло все?..
— Спасибо за информацию... Но чтоб все их родичи в гробу перевернулись!.. Это же надо: за полтора месяца приговор написать не могут!.. И где только таких дубарей находят?!
— У нас, в Риге.— Добродушно ухмыльнулся контролер.— А вообще-то, братки белорусы, не торопитесь на зону. Там далеко не сахар...
В этот день в нашей камере находился своеобразный филиал Верховного суда Латвийской ССР. То я, то Кирпиче- нок поочередно выступали в роли прокурора, судьи, адвокатов, даже потерпевшего Адамова. И к обеду мы сошлись во мнении, что при всей нашей вине на зону, за проволоку, нас отправлять нет за что. Адамов, правда, оставался при особом мнении, а второй наш враг-оппонент, обвинитель Мартинсон, будучи все-таки квалифицированным юристом, должен был признать несостоятельность своей позиции.
Судья Кабанов, по нашим рассуждениям, не желая терять репутацию и будучи в душе честным человеком, напишет единственно правильное: «за отсутствием состава преступления... оправдать». И заседатели, интеллигентные мужчина и женщина, с чувством выполненного долга удостоверят это решение.
Такой вариант приговора нас вполне удовлетворил; умиротворенные, мы лежали на койках и уже в полудреме лениво перебрасывались ничего не значащими словами. Вывел нас из этого «кайфового» состояния голос контролера.
— Я же говорил вам, мужики, что жизнь продолжается. Вот Кирпиченку передача. От матери. Значит, не все потеряно.
Валерий обрадованно вскочил:
— Спасибо, шеф. Никогда не забуду ангела-хранителя.
Отведав копченого сальца, пахнувшего дымом и домом, мы вновь вернулись к обсуждению проблемы: почему перенесено судебное заседание.
— Приговор кого-то не устраивает.— Безапеляционно заявил Кирпиченок.— Ясно, что Кабанов дал почитать председателю Верховного суда Латвии, а тому давно сверху дана команда: посадить! Вот и крутится теперь, бедолага...
— Да не жалей ты его!— взорвался я.— Если честный, на кой черт кому-то давать читать, консультироваться... Тут слепому видно, что дело слиповано. А если по натуре проститутка — нечего в судьи лезть... Впрочем, говорят, что Кабанов — бывший прокурорский работник. Так что одна фирма.
— Ты, между прочим, тоже из этой же кормушки ел.
Он будто невзначай напомнил, что руководил следственной группой я, а он, как и другие милиционеры, лишь выполнял мои указания. И главная вина, мол, на мне. В общем, всплыли старые обиды, вечное противостояние прокуратуры и МВД, взаимные недомолвки и недосказанности. Но мне в решающий час было не до мелочных обид, не до выяснения прежних отношений.
— Давай не будем ворошить старое, Валера,— еще раз напомнил-предупредил я.— Займемся делом.
За полтора года так называемой жизни в изоляторах я превратился в хрестоматийного жалобщика. К сожалению, это был единственно дозволенный вид переписки с волей. И своим многочисленным адресатам — Верховному суду БССР, прокуратуре БССР, ЦК КП Белоруссии, затем Верховному суду СССР, прокуратуре СССР, ЦК КПСС, а в конце и Президиуму Верховного Совета СССР — я ставил один и тот же вопрос: есть ли в стране правосудие? Тщетность своих усилий я знал заранее, но все-таки где-то в самом уголочке души теплилась надежда: а вдруг найдется хотя бы один нормальный человек, кому небезразлична моя судьба, вдруг кто-то не успел зачерстветь, вдруг в ком-то пробудится совесть?.. Увы, я стучался в дверь, которая вела в никуда...
5 апреля 1988 года я написал очередное прошение. Причем, как говорят, впрок, заранее. «В Верховный суд Латвийской ССР от осужденного Сороко Валерия Илларионовича. Прошу предоставить для ознакомления протокол судебного заседания с приговором о моем осуждении. Данную просьбу аргументирую тем, что необоснованно, незаконно привлечен к уголовной ответственности на основании бесспорно установленной в ходе судебного разбирательства фальсификации следственных документов. Приговор считаю необоснованным, он противоречит доказательствам, собранным в ходе рассмотрения дела в суде. Именно поэтому документ необходим мне для сверки и сопоставления показаний допрошенных лиц и материалов, собранных следствием ранее.»
Я заранее соглашаюсь с читателем, который уловит некоторое расхождение между моей уверенностью в невиновности и этой «телегой» в адрес Верховного суда Латвии, где я уже называю себя осужденным. Но не торопитесь, любезные граждане, обвинять меня в двойственности или, тем паче, в двуличии. Существует огромная разница между желаемым и действительностью. Тогда, в апреле 1988-го, я жил надеждой, что есть на этом белом свете правда. Но надежду эту все время подтачивал червь сомнения. За полтора года (да не утомит вас это напоминание) я разуверился во многих устоях прежней, дотюремной, жизни. Правда, честность, искренность, доброжелательность, товарищество, дружба — все, что воспитывали во мне мои родители, что я считал главными качествами Человека — на все это наплевали, все это постарались растоптать во мне. Бесполезные по сути своей бумаги в высокие адреса я сочинял скорее от отчаяния, от последней веры в какую-то, пусть призрачную, но высшую справедливость. Одновременно не веря почти ни во что доброе...
Попытался я и «забронировать» место в этом же СИЗО. «В целях личной безопасности, в связи с резким ухудшением состояния здоровья — в результате полуторагодичного пребывания в местах заключения нажил хронический гастрит, если не язву, постоянные головные боли, сердечную аритмию, изнуряющую бессонницу — прошу содержать меня до этапирования в ИТК (исправительно-трудовую колонию) в следственном изоляторе КГБ Латвийской ССР.» Не пытаясь набить себе цену, могу утверждать: такая просьба не часто появлялась на столах судей. Меня бросала в дрожь лишь сама мысль, что вновь придется видеть голые задницы педерастов, возмущаться, но оставаться бессильным при акте онанизма, дышать миазмами говна, куча которого может появиться утром рядом с твоей койкой... И все это бесправный заключенный вынужден терпеть. Даже моей, не самой слабой, воли и крепких кулаков (грех, конечно!) было мало, чтобы остановить такой узаконенный беспредел. Камера в изоляторе Латвийского КГБ была раем по сравнению с дьявольским шабашем в стенах Рижского централа.
...Шариковая ручка поскрипывала по бумаге, казенные слова ложились на страницу, рука автоматически выводила не самые каллиграфические буквы. Без веры на положительный результат я все-таки писал. А Кирпиченку, отошедшему от шока, стало скучно. Он ритмично, будто телеграфист, постучал в стену, за которой были Журба и Буньков. В ответ раздалась чуть ли не барабанная дробь: подельники, видимо, соскучились без общения с нами. Валерий без раздумий продолжил разговор с помощью азбуки Морзе. Сколько бы продолжалась эта «интимная беседа», сказать не могу, но конец ей положил на удивление веселый голос контролера.
— Вы оба запишитесь на прием к начальнику.— Как он появился на пороге камеры, я и не понял. Сам увлеченно писал, а Кирпиченок, повернувшись к стене, самозабвенно перестукивался. Так что возникновение в камере старшины-сверхсрочника было полной неожиданностью.
— ???
— Попросите, чтобы провел вам телефон. И соседям тоже. Перестукиваться не будете. Стены целее будут.— Старшина, не дав нам даже рта раскрыть, закрыл дверь.
— Отупели мы с тобой, тезка...— Я смог очухаться только через минут пять.— «Подколол» нас старшина, как детей... Молодец мужик!..
Кирпиченок, сам любивший всяческие розыгрышы, буквально напичканный анекдотами, согласился без оговорок:
— Надо запомнить на будущее. Вдруг пригодится.
У меня же настроение почему-то испортилось:
— В понедельник, 11 апреля, будет нам и белка, и свисток: запрут на зону, а какие там телефоны-телевизоры, одному Богу известно. Не к добру мы развеселились...
— Чему быть — того не миновать.— Валерий не в первый раз вспомнил эту не самую оптимистическую фразу.— Но знаю точно: Володя Буньков, мой начальничек, из зала суда домой отправится.
— Во-первых, не Буньков, а ты у нас первый кандидат. Даже прокурор меньше всех тебе запросил — всего четыре года. Твоему шефу на год больше — целых пять. Так что не плачь, девчонка, пройдут дожди...
— Этому прокурору веры нет. Врет, как сивый мерин. Аж уши вянут...— Отказывался Валерий от лучшей участи все-таки вяло, любое, даже всуе сказанное, слово в его пользу было ему приятно. Впрочем, все мы были одинаковы, всем хотелось на волю.
Перенапряжение сумасшедшего дня сказалось к самой ночи. Перед отбоем меня охватила «вселенская» дрожь: стучали зубы, самопроизвольно дергались руки и ноги, подрагивали веки и — главное — внутри поселился какой-то невообразимый холод. Мороз изнутри пробился наружу: заледенели, даже посинели, кончики пальцев, по всему телу побежали зябкие мурашки, перехватило дыхание, будто панцирем, сковало поясницу... Я испугался — на меня повеяло могилой. Попытался встряхнуться, вырваться из ледяного плена — бесполезно. Будто на ходулях, не чувствуя ног, попробовал пройти по камере.
— Прекратить хождение! Лечь!— Контролер, наверное, был уже другой.
Лег на койку. Закутался в одеяло, подоткнув края, оставив наверху только глаза. Озноб не проходил, меня колотило, как при малярии.
— Что с тобой?— участливо, буквально по-братски, спросил Кирпиченок.
— Ко-ло-тун...— Я едва выговорил это короткое слово, зуб едва попадал на зуб...
Валерий встал, несмотря на существующий запрет, предложил укрыть потеплее.
— Спа-си-б-бо, пр-р-р-ой-дет.— Я был благодарен тезке за этот минимум внимания, от которого в тюрьме отвыкаешь с первых же дней.
— Если что надо, скажи, я все равно пока спать не буду.— Сокамерник будто устыдился своей размягченности, вернулся на свое «койко-место». Но краем глаза все время поглядывал в мою сторону.
Я согрелся. Теплая волна дремы накатывала на меня, сквозь благостную пелену до моего сознания доходило лишь странное бормотание соседа.
— Ты что, Богу молишься?— проговорил-прошептал я.
— Нет. Считаю.
— Что ты делаешь?— Я даже взбодрился на несколько мгновений.
— Вычисляю рост человека.— Непредсказуемость Валерия прямо-таки выпирала из него.— Недавно прочитал, как пограничники определяют рост нарушителя границы. Оказывается, размер следа, оставленного на контрольной полосе, надо умножить на семь. Произведение и будет соответствовать росту человека.
Я от души расхохотался и задал встречный вопрос:
— А как быть с карликами, лилипутами? Я видел их. Размер обуви — 41—42, а росточек — всего 1 метр 20 сантиметров. Как тут быть?
— Исключение из правила лишь подтверждает это правило,— нашелся Кирпиченок.— Я на себе проверил. Совпало точь-в-точь.
— Давай спать, Карацупа. День трудный был.
— Давай... Вот только ще наш соседушка бывший, Новиков?— совсем невпопад вдруг спросил Валерий.
— Не вышло у нас, куда-нибудь, перекинул и. Чего зря казенные харчи переводить...
— По-моему, я его следы недавно видел.— Сосед явно зациклился на «пограничной» теме.— Подошву типа «протектор». Где-то тут обретается. Я ошибиться не мог.
— Послушай, следопыт. Забудь ты про этого Новикова. Он нам в кашу не нагадил. Может, и зря мы на него ополчились. Пижон, брандахлыст, бабник, взяточник... Это ясно. Но вдруг не нагрешил против нас, не «подсадка»? Что тогда?
— В самом деле, начхать и забыть... А как в суде, на приговоре, себя держать? Ты не думал?.. Полный зал, родственники, а мы в этой проклятой клетке... И судья на финише читает: «...с содержанием в колонии усиленного режима».
— Перекрестись на ночь, Валера. И так голова пухнет от всего этого маразма. Спи!
— Добро... Только жрать что-то хочется... Давай съедим по кусочку сала. А то у меня от мандража аппетит прорезался. Под ложечкой сосет.
— Согласен. «Сальце — это витамин «С», как говорил знакомый врач. А мы про витамины уже забыли...
— Постой, начальник. Мне же цыбульку мама привезла. В передаче несколько луковиц. Так что мы с тобой сейчас царскую трапезу устроим. Ночью или днем — какая разница. Лишь бы на пользу.
Отрезав по солидному ломтю сала (гулять — так гулим.!), ОЧИСТИВ по целой луковице, мы с удовольствием \м.і mi in >•■ I к і|к хднеішуіо пайку. Сколько той жизни...
Л I а мо лесом пахнет, хвоей... Аж голова кружится...
('шісіч) копчений. У соседки в баньке коптильня устроена. За кйломі ip «лишки течь начинают... Хоть на минуту домой попасть - полжизни отдал бы!
Через неделю гам будешь. Освободят прямо в зале — и на поезд. До Витебска без пересадок...
— В столыпинском вагоне,— мрачно закончил мою фразу Кирпиченок.
— Не говори дурного на ночь. Спи...
Так закончился один из самых трудных дней — 5 апреля 1988 года.
10 апреля 1988 года, воскресенье, Пасха. День этот, как мы надеялись, последний перед приговором, начался с музыкального сюрприза — откуда-то издали донесся колокольный звон. Видимо, служили заутреню.
— Люди со всенощной пришли, за стол сели, разговляются, чарку поднимают. Счастливые...
— Может, и за наше здоровье выпьют...
— Помянут, как покойников...
— Это через неделю, на Радовницу...
— На Радовницу мы дома будем...
— Кто будет, а кто и нет...
— Бог поможет, я в это верю...
Под аккомпанемент такого разговора мы умывались, делали зарядку, ожидали завтрака. Когда готовили из съестных припасов доппаек — бутерброды с салом и луком, неожиданно получили еще один приятный сюрприз. Золотистая луковица, полученная Кирпиченком в посылке, проросла. Несколько перышек потянулись к свету, и их неяркая зелень показалась нам прекраснее самого изысканного букета. В пластмассовую коробку из-под домино я налил воду и опустил в нее луковицу.
— Вот у нас и свой огород...
— Хорошо бы только, чтобы урожай с него снимали не мы, а кто-нибудь другой,— дополнил Кирпиченок.— Отпустили бы нас завтра...
— Согласен с тобой, дружище. Но кто знает, какой подарок готовит нам Фемида в лице Кабанова...
— Все будет в норме. У меня хорошее предчувствие. Не посмеют они на Пасху грех на душу принимать.
То ли сказался бодрый тон Валерия, то ли подействовало ярко-голубое небо за решетчатым окном, то ли праздничная атмосфера проникла в наш каземат, но настроение у меня поднялось. И вдруг четко, как на хорошо отретушированном снимке, я увидел себя в родной деревне, на отцовском подворьи. Такое же солнечное утро... Мы трое — сестра, брат и я, выпив по доброй кружке парного молока, беремся за первую весеннюю работу — устройство огорода. Острые лопаты легко входят в подсохшую землю. Аккуратно отрезаем черные пласты, переворачиваем их, разбиваем комья, удивляемся обилию жирных червей. Из-за сарая под предводительством петуха появляются добровольные помощницы — куры. Они склевывают червей, разгребают, рыхлят землю. Совместными усилиями заканчиваем первый этап работы. Затем под руководством мамы делаем ровные длинные грядки. На одной она сеет морковь, на другой редис... Самая большая грядка отводилась под лук. Разрезанные наполовину луковицы замачивались на ночь в слабом растворе марганцовки, чтобы убить неведомого мне вредителя, а затем ровными рядками высаживались в теплую землю, обильно поливались. Проходило несколько дней, и грядка превращалась в зеленую щетку... А еще погодя наш обеденный стол украшал толстый пучок остропахнущего лука. Возьмешь несколько перьев, обмакнешь в солонку, откусишь молодыми зубами, и рот наполняется жгуче-приятным соком. О той счастливой поре я вспоминал еще в Минском изоляторе, когда выращивал зеленый лук в камере, а затем делил эти горькие витамины с несовершеннолетними преступниками. Вернула меня в детство и луковица, привезенная матерью моего земляка Валерия Кирпиченка с Витеб- щины... Только когда я попаду в родные края снова, кого застану в отцовской хате?..
Наверное, последние слова я произнес вслух, потому что Кирпиченок удивленно посмотрел на меня и спросил:
— А откуда ты знаешь, что я тебе про отца рассказать хотел? Только не про настоящего, а про книжного. Я сегодня всю ночь повесть читал. Называется «Суровая песня», автор Перегудов. Почему-то запомнилось мне одно место. Отец, заводчик старой закалки, послал сына-наследника на дальнюю фабрику с контрольной, как сейчас сказали бы, проверкой. Молодой хозяин возвратился и докладывает, что, мол, управляющий фабрикой ворует: построил себе два дома, третий начал возводить. И вот слушай.— Валерий быстро нашел нужную страницу:
— Глупец!— сказал старик.
— Нет, он не глупец, глупец не сумеет такие дела обделывать.
— Ты глупец!— Отец встал.— Ты человека не понял и работника в нем не разглядел. Ты думаешь, я не знаю, что он три дома построил? Знаю. Но я знаю и другое: Копейкин умело руководит заводом; с тех пор, как я его управляющим поставил, завод больше прибыли стал приносить. У каждого хозяина управляющий помимо жалованья кое-чем еще пользуется. Тут уж ничего не поделаешь, это и воровством нельзя назвать. Нет такого человека, который, занимая большую должность, о себе забывал бы. Правда, попадаются люди — без меры хапают, но таких следует гнать в три шеи!.. Истратил он на строительство дома, предположим, полторы тысячи рублей, а за это время в карман хозяина полтораста тысяч положил. Так что же это, воровство? Вот когда у тебя рабочий дюжину чашек унесет — это воровство, за это строго карать надо. Если каждый хозяйское добро таскать начнет — хозяину разорение. Вот за чем строго следить надо...
— Кто тебе наговорил о Копейкине?
— Конторщик один.
— Есть такие люди — не работают, а языком продвинуться хотят. Люди эти лживые, подлые, на них опереться нельзя. Сегодня они за тебя, а завтра тебя же норовят ударить.
— Выходит, не управляющего, а конторщика гнать надо.
— Гнать и его не надо: в хорошем хозяйстве всякая дрянь пригодится; иногда и поощрить, и обласкать следует: пусть, как собака, нюхает — хозяину сообщает... Все доносы и обиды ты своим умом, как ситом, просеивай,— глядишь, в куче мусора драгоценный камешек обнаружишь...»
Валерий захлопнул книгу, выжидательно посмотрел на меня.
— Что ж, философия хорошо известная. Она и сейчас жива: приносишь пользу хозяину — можешь приворовывать, только не зарывайся. И от мелких доносчиков отказываться не следует, досье на подчиненных не должно пустовать... Ты думаешь, в прокуратуре Союза не знают, что
Прошкин нам «шьет» дело? Знают, но они уже в ЦК доложили, что мы — преступники... Вот и выходит, что доля наша, как у тех рабочих, что дюжину чашек унесли... По я думаю, что если кто и крал, так это тот же конторщик... А виноватыми оказывались другие...
— Как мы с тобою.— Кирпиченку понравилось мое толкование.— Даже если представить, что Адамов сидел зря, ни за что, то почему под штык взяли нас, а не высокое начальство? Тебя же десять бугров проверяли-перепроверяли: из твоей прокуратуры, из прокуратуры БССР; областной суд его судил, Верховный — оставил приговор в силе... А виноват оказался все равно ты — стрелочник... И я...
— За таких мерзавцев, как Адамов, никто не должен сидеть. Разве что Прошкин за сговор с ним...
— А что, отличный был бы тандем. Представляешь: в этой камере не мы, а они. И грызутся, как голодные собаки. За пайку хлеба. Оба бугаи здоровые, пожрать, конечно, любят. С удовольствием посмотрел бы на такой цирк!
Вариации на эту непростую тему я уже слышал не однажды, фантазия Валерия рисовала такие жуткие картины совместного пребывания Адамова и Прошкина, что мне приходилось урезонивать сокамерника. Остановил я его и на сей раз:
— Давай лучше разложим пасьянс на завтрашний день. Я ставлю себя на место судьи. У него два варианта: дать нам большой срок или поступить по совести, постараться выписать минимум. В первом случае жалобы будем писать только мы, прокуратура и Адамов скажут Кабанову спасибо. Если судья решится на второй вариант, протестовать будут обе стороны. Нас устраивает только полное оправдание, а противникам нужно побольше нашей крови.
— Брось, Валера, он уже давно все решил. Или за него решили, а он только проштампует...
— Нет, давай продолжим. Если мои посылки правильные (а я думаю, что это так), Кабанов накручивает нам почти на полную катушку. Держать оборону только против нас сподручнее, тем более, что поддержка ему обеспечена. Но...
— Какое еще «но»?..
— Но вдруг (чем черт не шутит?) приговор отменит Верховный суд СССР? Что он тогда должен делать? Представляешь, вызывают его в Москву и спрашивают: «На каком основании загнал людей в колонию?..» Не говорить же, что Прошкина спасал, что вступил с ним в сговор?.. А?.. Вот и оттягивает решение, консультируется, прикрывает тылы...
— Все вы домой пойдете, только мне зона светит!— Валерий вновь запаниковал.
— Кстати, точно так ты говорил перед выступлением Мартинсона. А даже он запросил тебе меньше всех. Так что не плачь, друг сердечный... Все у тебя будет хорошо!— Теперь в роли утешителя выступал я.
Дождались завтрака. Конечно, наивно было предполагать, что администрация СИЗО КГБ захочет в день святой Пасхи чем-либо порадовать своих постояльцев, но подспудно такая надежда жила. Увы, ей не суждено было сбыться. Три куска черного хлеба, кружка чая и опостылевшая каша, от которой мы сразу же отказались — желудок ее не принимал. Так что разговляться нам пришлось белорусским салом и белорусской цыбулей. И благодарили мы в это утро Господа Бога и простую крестьянскую женщину — мать Валерия Кирпиченка...
На прогулке Валерий прислонился к стене дворика и бездумно уставился на небо «в клеточку». Сделав несколько привычных кругов по периметру нашего убогого стадиона, остановился рядом с ним и я. Наши плечи соприкоснулись, товарищ по несчастью оторвал взгляд от плывущих по небу облаков, посмотрел на меня, и я увидел в его глазах такую глубокую, безысходную тоску, такое отчаяние, что у меня перехватило дыхание. Под ресницами соседа блеснула слеза и медленно покатилась по щеке... Валерий судорожно вздохнул, тряхнул головой и вновь поднял ее к небу. Так и стояли мы, как два скорбных изваяния, ощущая выпирающими лопатками шершавую стену тюрьмы, жадно следя воспаленными глазами за стремительным бегом легких облаков...
Прогулка эта, как началась, так и закончилась на траурной ноте. Вернувшись в камеру, легли на койки и надолго замолчали. Не знаю, как Валерий, но я провалился в какое- то тяжелое, вязкое забытье.
...Зал судебного заседания. Вот-вот должен войти Кабанов и зачитать приговор. Я сижу в своей арестантской клетке и стараюсь найти в заполненных рядах хоть одно знакомое лицо. Встречаюсь взглядом с плачущей сестрой. Каким- то непостижимым образом освобождаюсь из-под стражи и оказываюсь рядом с ней. «Почему ты одна, где жена?» Она кивком показывает куда-то в угол, и я наталкиваюсь на холодные глаза своей Людмилы. Сердце срывается в бездонную пропасть, я понимаю, что стал ей чужим, ненужным человеком. Медленно пройдя вдоль рядов, Людмила садится рядом с сестрой, выжидающе-сурово смотрит на меня. Я сбивчиво, торопливо, кляня себя в душе за косноязычие, начинаю говорить, что понимаю ее, что не вправе рассчитывать не то чтобы на любовь, но даже на сострадание. Я и так взвалил на ее слабые плечи неимоверный груз и по гроб буду благодарен, что она не оставила меня в эти кошмарные полтора года заточения. Теперь же, когда меня ждет большой срок, она вольна распоряжаться своей судьбой сама. Ей незачем долгие годы ждать зэка... Говорю, говорю, мысли путаются, я хочу увидеть в глазах Людмилы протест, опровержение моих догадок, но она молчит... Тогда я вновь повторяю, что она свободна в своем выборе, что ее обещание ждать меня хоть всю жизнь не должно связывать ей руки, что я понимаю, как трудно молодой женщине быть женой преступника... Прошу, чтобы не забирала навсегда от меня Инночку, чтобы позволила когда-нибудь встретиться с ней... Через долгие годы...
Сестра тихо плачет, а жена, глядя мимо меня, будто уже увидев новую жизнь, спокойно, буднично говорит: «Да, нам надо расстаться. Будь мы на необитаемом острове, еще куда бы ни шло; а здесь, в реальной жизни, нам с тобой не по дороге. Все, что ты говорил про Адамова, оказывается, присуще тебе самому. Ты лишь прикидывался добреньким, ласковым, внимательным. Пойми, я живу среди людей, а они против тебя... Так что не обессудь и... прощай.»
...Видимо, я застонал, и Кирпиченок громко спросил:
— Что, дурное привиделось?
Наваждение ушло, кошмар рассеялся, за тюремным окном по-прежнему светило весеннее солнце.
— Все тот же суд, будь он неладен!..— Мне не хотелось вновь рассказывать тезке о подозрениях и сомнениях. Ему и своих переживаний было вполне достаточно.
— А вот я на свои штиблеты блеск навожу,— Кирпиче- нок, как и в минувший вторник, надраивал шкуркой от сала стоптанные до дыр туфли.— Знать бы только, куда они понесут завтра: сюда, в клетку, или на свободу?
— Об этом знает только Всевышний, а простому смертному сие не дано,— философски заметил я.— И правильно: жизнь потеряла бы смысл, если бы каждый человек точно знал, что ждет его впереди.
— Позволь не согласиться. Все беды и происходят только от того, что мы действуем наугад, как в потемках. А знай расклад на завтра, был бы осторожнее, все ямы и ухабы сторонкой обошел бы. А так из лужи в лужу, из грязи в навоз... И так до самой смерти.— Как ни старались мы настроиться на пасхальный лад, праздник никак не хотел поселяться в нашей камере. Тюрьма и радость — понятия несовместимые. Подтверждение этой истины мы получили от контролера изолятора. Чтобы не предаваться мрачным рассуждениям, я решил заняться делом: законспектировать события последних дней, упорядочить старые записи. Нужна была писчая бумага. На мою просьбу молодцеватый старшина ответил отказом:
— Сегодня воскресенье. Со всеми просьбами обращайтесь завтра.
Я решил пойти на хитрость.
— Ваш начальник разрешил написать заявление в суд, чтобы нас после приговора оставили в вашем СИЗО. Хотим утром отдать судье...
— А вы никуда завтра нс поедете. Так что сидите или лежите спокойно.— Контролер ухмыльнулся и захлопнул кормушку.
Это сообщение показалось нам громом с ясного неба. Я так и остался сидеть на корточках перед кормушкой, а Валерий в отчаянии схватился за голову, потом яростно закричал:
— Что же вы, гады, с нами делаете?! Мы же люди, а не скоты! Боже, если ты есть, покарай этих сволочей! Пусть это будет последняя Пасха в их жизни!..
С трудом поднявшись на ноги — вдруг свело поясницу, она будто омертвела — я доковылял до койки, обессиленно присел. Возмущение прорвалось лишь позже:
— Нет, господа присяжные, это даром не пройдет! Такого издевательства я вам не прощу. Пусть срок, пусть свобода — все равно наши муки выйдут вам боком. Я постараюсь! Жизнь на это положу, с лихвой рассчитаюсь!
— Почему только ты?! Что, думаешь, я забуду эти фокусы Прошкина и его компании... Да и Кабанов такой же. Пляшет под их дудку!..— Глаза Валерия лихорадочно блестели, он был на грани полного срыва.
Мы были настолько ошарашены неожиданным известием, настолько возбуждены, что не услышали, как вновь открылась кормушка, и в ней показалась рука с белыми листами бумаги.
— Возьмите, помните мою доброту,— стражник готов был закрыть окошко.
Преодолев боль, я вновь присел на корточки, чтобы увидеть лицо контролера.
— Спасибо большое... Но, ради Бога, скажите правду: едем мы завтра в суд или нет?
Старшина невозмутимо молчал, а я, просительно заглядывая ему в глаза, буквально молил его:
— Поймите наше состояние. Мы на пределе... Так и до инфаркта недалеко. Если в самом деле суд переносится, мы можем не выдержать...
— Поедете завтра, не переживайте,— непонятно улыбнувшись, пушкарь прекратил переговоры.
Выждав мгновение, Кирпиченок разразился оглушительной бранью, что, скажу не в первый раз, случалось с ним довольно редко. Я был с ним солидарен: такие шутки пахли очень дурно. Но что поделать, мы бесправны, изгаляться над нами можно каждому.
После нервного шока Валерий попробовал уснуть. Накрывшись пальто, даже спрятав под него голову, он затих. Спустя минуту переменил положение *— повернулся к стене, затем лег на живот, но сон не шел.
— Чертова тюряга! Последнее здоровье отняла — уснуть и то не могу. Выйду отсюда шизиком, это факт...
— Завтра — послезавтра отпустят, поедешь в деревню, на чистый воздух, на свежее молочко. Как надышишься свежим воздухом, все хворобы пройдут...
— А если на зону?.. Кирпичи, цемент таскать?.. Здоровья не прибавится. Пришлось мне побывать на цементном заводе. В Могилевской области. Там спецкомендатура есть, зэки работают. Надо было допросить одного, вот и ездил в командировку. Не только завод — весь город, как в муке. Еле отхаркался после — и нос, и горло, и легкие цементом были забиты. А я там и суток не пробыл...
В камере неожиданно потемнело. Мы глянули в окно: с недавно еще голубого неба падал снег.
— Весна, как и осень — погод восемь...
— Вот такой же снег и над цементным заводом идет. Причем каждый день...
Вспомнив о давней командировке, Валерий тут же рассказал интересный, по его мнению, случай:
— Добрался до места назначения на попутных машинах. Вышел у поста ГАИ. Толкую с лейтенантом. Тот вдруг срывается с места и рысью к самой бровке дороги. Вытянулся, честь отдает. А мимо на скорости «Волга» промчалась. Возвращается, делится: «Секретарь райкома с любовницей поехал. Есть там одно укромное местечко...»
Мне было не до подробностей интимной жизни какого-то районного партийного босса, но Кирпиченок сразу же связал воспоминание с нашим бедственным положением.
— Начальники всюду одинаковые: ни стыда, ни совести. У Прошкина большие звезды, у нас — малые. Вот и давит нас, за людей не считает. Как и Мартинсон. Садят, судят заведомо невиновных — и хоть бы что. Гниль. Болото.— Валерий, как заведенный, кружил по камере, размахивал руками, выплескивал наболевшее.— Эх, пулемет бы крупнокалиберный да патронов побольше... Одна шайка-лейка: прошкины, Сухановы, гамаюновы. И примкнувший к ним Адамов... За что только они его так полюбили?! Сделали ге- роем-страдальцем...— Он вдруг остановился, поднял глаза к потолку, перекрестился и попросил: — Боже праведный, накажи врагов наших, покарай нечестивых христопродавцев... Ты же все видишь, все знаешь... Не допусти, чтобы пострадали невиновные!..
— На Бога надейся, а сам не плошай. И здесь найдется управа на эту волчью стаю. Не на нас, так на других сгорят, до поры треснувший жбан воду носит... Суханов, я слышал, уже схлопотал выговор за необъективность, после нас вообще полетит с работы. А то и в тюрьму сядет. И у Прошкина такая же доля. Они же по-другому работать не умеют: только нахрапом, только обманом, только фальсификацией!..
— И журналист этот, спецкор... Кто ему дал право в совещательную комнату лезть, что он вынюхивает здесь, в СИЗО? Ясно, что на Прошкина работает, на судью давит... Ничего, и на него управу найдем, просто так не выкрутится...
Послав проклятья всей нечестивой братии, мы умолкли. И в наступившей тишине услышали, как возмущенно спорят о чем-то в соседней камере наши подельники — Буньков и Журба. Валерий не поленился и приложил ухо к стене.
— Толя Журба чем-то недоволен. Его голос выделяется: «бу-б-у»,— он скопировал глухой и хриплый баритон. Прислушавшись, рассмеялся: — Да они в домино играют, видимо, обдуривают старика, вот он и лезет в бочку... Ну и нервы у мужиков!.. Мы с тобою бесимся, а они «козла» забивают...
— Молодцы, чего зря порох тратить,— заметил я, хотя еще пять минут назад сам метал громы и молнии в адрес судей. О логике на втором году заключения говорить трудно...
— Чтобы порох был сухим, нс мешало бы и подзаправиться. Жрать хочется.— Сокамерник на этот раз приложил ухо к двери.— Зверей кормить пора, а они и не чешутся...
— А ты позвони пушкарю и скажи: «Зверинец проголодался. Сейчас клетку начнем грызть.»
— Им до лампочки. Хоть и Пасха, а ту же баланду дадут. Нехристи...
На этот раз зов наших желудков был услышан, и кормушка вскоре открылась.
— Бери ложку, бери бак, нету ложки — хлебай так,— пропел Валерий, принимая нищенскую трапезу. Хотя, впрочем, нищие в день светлого Воскресенья Христова получают более богатое подаяние...
...Длинный день медленно катился к вечеру. Мы тысячекратно обсудили все варианты возможного приговора, решили, что будем делать при благоприятном и печальном исходах, а ночь все не наступала. Чтобы как-то убить время, Кирпиченок принялся гадать. Вокруг миски с водой он через равные промежутки разложил костяшки домино. Получились своеобразные часы с цифрами от 1 до 8. Затем раскрутил воду ложкой и в этот водоворот бросил зажженную спичку. Вся эта процедура сопровождалась заклинанием: «Водица, не обмани, нам всю правду расскажи. Сколько лет получит завтра мой бедный товарищ Валерий Сороко?» Затаив дыхание, следили мы за обгоревшим концом спички, предугадывая, на какую цифру он укажет. Будто дразня нас, спичка долго не могла остановиться, подрагивала, словно стрелка компаса при магнитной буре; наконец замерла между цифрами 4 и 5.
— Невиновный Сороко! За ваше упорство и мужество, за несгибаемую стойкость определяю вам четыре с половиной года лишения свободы...
— Многовато, тезка!..
— Тс-с-с!— Валерий приложил палец к губам.— Гадание продолжается... Раб Божий Анатолий Журба просит определить его судьбу...
Вновь завихряется вода, вновь ныряет в рукотворных волнах спичка, вновь «маг и вошебник» делает над миской таинственные движения...
— Хитрый Журба получает три с половиной года,— объявляет Кирпиченок.
На год больше, сколько и мне, выпало провести за решеткой Владимиру Бунькову, совсем не повезло Анатолию Волженкову. Его, еще сегодня находящегося на воле, завтра должны были взять под стражу на четыре года... Тщательнее всего готовился Валерий к определению своей судьбы. Запретив мне находиться рядом с магическим сосудом (не дай Бог, дохну на воду, помешаю чистоте гадания), он сотворил маленькую бурю и в горловину водоворота бросил спичку с самой крупной головкой. Вспыхнувшая сера слабо зашипела, в камере появился специфический запах... Мне показалось, что я нахожусь в лаборатории средневекового алхимика... Да и сам Кирпиченок — бледный, с осунувшимся небритым лицом, с лихорадочно блестящими запавшими глазами — напоминал и злого колдуна, и его невинную жертву одновременно... Спичка замедлила вращение, ее «носик» остановился между 2 и 3. Валерий подозвал меня, будто не веря глазам своим, спросил:
— Сколько?
— Два с половиной...
Лицо его разгладилось, он разулыбался:
— Я же младший среди вас по званию. Так что все справедливо...
— Пусть будет так,— я не стал портить ему настроения.— Только лучше бы выпала свобода.
— Мечты, мечты, где ваша сладость...
— Оковы тяжкие падут, темницы рухнут — и свобода нас примет радостно у входа...
— Пушкин написал не «нас», а «вас»,— поправил меня Валерий.— Ему легко было: сам за девками бегал, а декабристы в кандалах руду добывали...
— Не понимаешь ты литературы, хоть и был школьным учителем. Главное — моральная поддержка.
— Во-первых, я физкультурник. А, главное, какая им польза была от той поддержки. Как решал царь, так и было... Сгнили они все в рудниках.
Литературный спор готов был затянуться, это даже нравилось мне, а Кирпиченок повернул разговор в неожиданное русло:
— Посмотрим, какие песни запоет друг Толик Волжен- ков, когда попадет сюда, в СИЗО. Ну, первые три дня его на караул поставим, дежурным. А сами копченку лопать будем. Илйца крашеные. Отъедимся за все месяцы...
— Не забывай, он твой начальник...
— Бывший, так что ничего, переживет. Пусть считает, что ему еще крупно повезло, что в этот изолятор попал, а не в Рижский централ. Там бы ему сразу небо с овчинку показалось... Представляешь, от жены — да в камеру, где человек двенадцать и все - рецидивисты...
— Что-то нас не в ту сторону занесло... Товарища под штык силой тащим. Как бы не накаркать...
Но Валерия уже трудно было остановить:
— Мы ему прописочку устроим, честь по чести, чтобы знал, по каким законам теперь его подельники живут... А в наказание заставим пересказывать все фильмы, которые за эти полтора года без нас прошли.— Все-таки с моим тезкой соскучиться было трудно: настроение у него менялось настолько круто, что я порой не успевал адекватно реагировать. А он, уже печально улыбаясь, закончил свой пассаж: — Волженкову бояться нечего. Если сразу в клетку не заперли, то теперь — тем более. Посидит завтра в зале, послушает бред Кабанова, посочувствует нам и отправится в Витебск вольной птицей. А мы — снова сюда, в этот гроб.
— Сплюнь три раза. Давай лучше укладываться спать. Завтра силы нам понадобятся.— Поправляя жесткую постель, я изо всей силы ударил по ней кулаком.— Чтобы я тебя больше никогда не видел, проклятая. Опостылела ты мне, как тюремная баланда. Чтоб на тебе Прошкин валялся!..
— А на моей — Суханов,— в тон мне проговорил Кирпи- ченок.— И чтоб их запор каждый день мучал. Или понос...
Пожелание было настолько искренним, что я не выдержал и рассмеялся. Но тут же спохватился:
— Не к добру мы развеселились. Как бы завтра горькими слезами не залиться. Или, может, внутренний голос подсказывает, что завтра наступит День свободы?
Валерий не успел мне ответить — за окном громыхнул артиллерийский залп.
— Это салют в честь нашего освобождения!— Сокамерник даже подпрыгнул на койке от неожиданного совпадения.
Окно задребезжало от очередного залпа. Кусочек темного неба, видный сквозь решетку, осветился далеким фейерверком.
— Наверное, праздник какого-либо рода войск... Не могут же в честь Пасхи салютовать...
— Какая разница. Давай думать, что в нашу честь...
Как ни старались уснуть, ничего не получалось. Я досчитал почти до двух тысяч, приказывал себе: «Спать..., спать..., спать...», но испытанный метод не помогал. Не давала покоя мысль, что в эти же часы бессонно коротают время в поезде жена и родственники. Они едут в надежде, что чеонутся домой вместе со мной, что все беды позади. Но кто и как их успокоит, утешит, кто протянет руку помощи, если суд надолго зашлет меня в лагерь? Перенесет ли беду больная, старенькая мама, узнает ли меня после долгой разлуки повзрослевшая дочь? И вообще — смогу ли я вернуться домой, будет ли мне куда возвращаться?..
Не выдержав напряжения, встал угрюмый Кирпиченок. Явно нарушая режим, заметался по камере.
— Ложись, Валера! Не дразни контролера!
— А ты сам чего не спишь, ворочаешься, как принцесса на горошине?..
— Думы мои, думы...
— Вот и у меня голова буквально раскалывается... Быстрее бы эти несколько часов пролетели. А то чувствую, что свихнусь...
— Как ни стараюсь, не могу составить текст обвинительного приговора. Нужны факты, аргументы, доказательства. А их нет. Разве что Кабанов с потолка их возьмет. Вся грязь, собранная Прошкиным, вылилась на него самого. Нечего нам вменять; иначе любого следователя и оперативника можно прямо из кабинета в тюрьму пересаживать...
— Была бы шея — хомут найдется,— вздохнул Кирпиченок.— Был бы арестованный, а статью подберут. И не одну. Сам знаешь: кодекс большой. Прошкин от нас не отступится... Из его лап просто так не вырвешься.
— С ним все ясно. Но неужели судья решится на подлость? Ведь ему, я думаю, по ночам хочется спокойно спать, а не мучаться от угрызений совести.
— У нас с тобой совесть чиста. Давйй спать...
...В окно ударил резкий порыв ветра. Затем на жесть подоконника упали первые капли, спустя несколько секунд редкие удары превратились в сплошную барабанную дробь. Пошел сильный дождь. И я сразу вспомнил, что под проливным дождем сидел вместе с этапом на станции Минск-Вос- точный, ожидал отправки в Ригу. И мне, как и тогда, стало одиноко и зябко. Вновь я стоял перед неизвестностью, только теперь меня отделяла от приговора одна лишь ночь. Опустив набрякшие веки, я тут же увидел печальные глаза дочурки... В них стояли слезы. И я почувствовал их привкус на своих губах. Натянув одеяло на голову, я глухо застонал...
11 апреля 1988 года
Одиночество
В темном тоннеле
Разлука ты, разлука
11 апреля 1988 года, второй день Пасхи. Опять сдуты пылинки с «парадных фраков», опять надраены салом изношенные башмаки. Скрипят засовы, лязгают двери, перекликаются конвойные, воняют несгоревшим бензином «воронки». До предела тесный — ни встать, ни повернуться — металлический отсек, будто камера смертников. Так и ждешь, что пустят отработанный выхлопной газ от двигателя (изобретение, кстати, гулаговского сотрудника), и этот недолгий путь до суда окажется твоей последней жизненной дорогой... Кого-то запихивают в соседнюю душегубку, несчастный ворочается, устраивается, затихает.Я подаю голос:
— Сосед, ты кто?.. Журба?.. Толя?..
— Я
— Сороко это. Как настроение?..
— ... Ты как?
Пришлось держать хвост пистолетом:
— Как гвоздь!.. Ничто не бросит в дрожь...
Голос, правда, предательски сорвался, хорошо, что Журба не видит меня, иначе куда бы мне спрятать воспаленные глаза, запекшиеся губы...
— Шутишь все. Никакая хворь тебя не берет!— Низкий голос Анатолия гудел в железной клетке, резонировал, и я подумал, что наш диалог прервет какой-нибудь старшина. На секунду затаился, прислушался, но конвойные еще были во дворе СИЗО.
— Не бери до головы, Толя. «Врагу не сдается наш гордый «Варяг»... «Моряк вразвалочку сошел на берег»...
— Мне бы твой характер... Вроде бы один шаг до свободы, а как пройти его?..
— Будь спок!.. Вины нашей нет, поскольку нет доказательств. Или наоборот: нет доказательств, значит, нет вины... Домой пойдем! Ты — первым...
— Прокурор замного запросил, чтоб ему скула на заднице выросла! Боюсь я...
— Мартинсону не подписывать приговор. Он звездочки отрабатывает, вот и загнул по верхнему пределу... Кабанову решать...
— Хрен редьки не слаще... Скорее бы!.. Мотор не выдержит...
— Товарищ, верь!..— Я успокаивал не столько Журбу, сколько самого себя. Покаявшись в несовершенном грехе, Анатолий вольно или невольно помог Прошкину и мог надеяться на снисхождение. Мои же отношения со следствием и судом зашли так далеко, что никаких скидок ожидать не приходилось. Полумеры исключались: или оправдание, или срок, причем немалый. Винить Журбу я не мог — не каждому дано сохранить человеческое достоинство, когда над головою висит пудовый камень, готовый в любую секунду размозжить твою голову... Я вот встал на дыбки — сразу кнут появился, удила железные, хомут тесный, стойло, проволокой опутанное... В оглобли меня, да на лесоповал, бревна таскать, чтобы не взбрыкивал, не показывал норова...
Журба затих. За стенами нашего автозака громко переговаривались сопровождающие, где-то лаяли собаки, раздавались команды. Машина еще раз слегка качнулась — привели новых пассажиров. По отрывкам фраз распознал голоса Бунькова и Кирпиченка. «Значит, суд состоится. Наконец-то кончилась неизвестность, приплыли к финишу... Только счастливый ли он будет?»
«Воронок» задрожал, будто гончая перед выходом на охоту. Заскрежетали ворота, водитель дал газ, и «корабль судьбы» начал свой скорбный путь. Сколько ни внушал я себе, что нужно быть спокойнее, что надо беречь душевные силы, что самое трудное уже позади, а предстоит лишь чистая формальность, сладить с нервами не удавалось. «Кто из близких будет на суде?.. Жена?.. Она, конечно, приехала, сомнений нет... Может, сестра?.. Что делать, если останусь один?.. Прокурор мне больше всех запросил... А если освободят сегодня же?.. Жаловаться, что незаконно держали под стражей?.. Забыть, простить?.. Рассмеяться в лицо Адамову?.. Взять за шиворот Мартинсона?..» — Мысли метались, я не мог сосредоточиться; тело сотрясал озноб. Резко, будто натолкнувшись на непреодолимое препятствие, автозак затормозил.
— Приехали!— Услышал я громкий голос Кирпиченка. В наигранной бодрости прозвучали и страх, и надрыв, и отчаянная вера в близкое освобождение.
— Как приехали, так и уедем. Выдадут каждому по гостинцу, и вернемся в родной хлев.— Владимир Буньков был настроен пессимистично. Дышал он тяжело, будто не везли его в суд, а заставили бежать рысью.
— Один из нас уж точно будет спать спокойно... Толя Волженков.— Вспомнил я о пятом нашем подельнике, которого не взяли под штык.
Буньков заворочался в тесном отсеке, громко зашаркал ногами, закашлялся, затем как-то надрывно, фальцетом выкрикнул:
— Я тоже хочу на волю! Если Волженкова оправдают, оправдают и меня!..
— Тише вы там, пассажиры!
Окрик снаружи остудил наши эмоции. А прапорщик (я узнал голос начальника караула, обычно сопровождающего нас в суд) продолжал распоряжаться, отдавая команды свои подчиненным:
— Четверо на постах! Четверо сопровождают! По местам!..
Первым из передвижной тюрьмы вывели меня. Даже не успев оглядеться по сторонам, я интуитивно почувствовал, что во дворе Верховного суда Латвии произошли какие-то перемены. Когда глаза привыкли к яркому апрельскому солнцу (в отсеке автозака постоянный полумрак), увидел, что на меня нацелен объектив кинокамеры. Вспыхнули мощные лампы освещения, возле аппаратуры засуетились два невзрачных мужика. Опустив голову, я пошел вслед за солдатом внутренней службы.
— Лицом к стене! Не поворачиваться и не разговаривать.— Команда была уже привычной, и на этот раз я выполнил ее почти с удовольствием.
Через короткие интервалы в такой же позе вскоре стояли Журба, Кирпиченок, Буньков.
— Цирк снимают... Зверей привезли заморских,— зло процедил Буньков.
— А Прошкин — дрессировщик,— в тон ему добавил Кирпиченок.
— Прекратить разговоры!.. За мной шагом марш!..
Сержант, видимо, был несказанно рад, что и его снимают в кино, корчил из себя бравого служаку, выпячивая грудь, бросал на нас грозные взгляды. Однако выглядел он довольно смешно — вовсю светило солнце, на деревьях курчавились первые зеленые листочки, а наш «командующий» потел в толстой шинели, в шапке-ушанке. Ему бы на Колыму, в Заполярье, а он «давит форс» в центре Европы, в Ригс...
Прелюдия к представлению окончилась — нас доставили на второй этаж, в бокс, где мы обычно ожидали начала судебного заседания. Полтора месяца я не видел подельников, только слышал отголоски их споров, ссор, мог иногда даже разобраться, кто выиграл или проиграл в домино — обитали они за стенкой, в соседней камере. Увидел их — и ужаснулся. Пятидесятилетний Журба выглядел дряхлым стариком. Тощий, с бурой щетиной на щеках, с неопрятной клочковатой бородой, с красными слезящимися глазами, Анатолий мог вполне сойти за узника Освенцима. Еще более поразил Буньков. Подтянутый, даже элегантный мужчина «в соку», гроза хулиганов и всяческой шпаны, умелый оперативник и строгий начальник уголовного розыска превратился в одного из персонажей горьковской пьесы «На дне». Жеваная одежда, давно не знавшее бритвы лицо, истеричные интонации... Хочу, чтобы меня правильно поняли. Я нисколько не пытаюсь унизить своих товарищей по несчастью. Вполне вероятно, что я и Кирпиченок выглядели не лучше. Но мы с ним видели друг друга каждый день, круглые сутки, и перемены в своем обличьи не замечали. Пожалуй, ко всем нам подходило одно, траурное, определение: «краше в гроб кладут». И чтобы закончить эту затянувшуюся сентенцию, могу сказать, что сегодня, в году 1993-м, я ужасаюсь когда смотрю на свою фотографию времен заключения. И больше всего боюсь, что когда-нибудь такого папу увидит дочка...
...— Напоследок зверинец решили устроить. Мало им показалось, совсем добить решили... Я где-то читал, что Гитлера собирались в клетке возить. Чтобы все плевали в него.— Володю Бунькова, как и меня, возмутило, разозлило и, признаюсь, немного испугало присутствие киношников.
— Остается, как обезьянам, конфетку бросить или бублик. Обнаглел Прошкин до предела,— подлил масла в огонь Валера Кирпиченок.
— Надо «прохора» спросить, откуда эти оглоеды приперлись. И кто дал разрешение на съемку.— Наиболее деловым на этот раз оказался я. Кирпиченок начал стучать в дверь, вызывая «прохора» — прапорщика, который охранял нас в суде.
— Пачыму стучыш?! Ни-ззя!..— Молодой солдат из Средней Азии не знал, что предпринять; ему приказали нас охранять, а других инструкций, видимо, не дали.
— Позови, чурбан, начальника конвоя! Срочно!— У Кирпиченка вдруг прорезался начальственный голос, и растерявшийся солдатик затопал по коридору.
— Вот что, мужики,— взял в свои руки инициативу Буньков.— Если они будут снимать в зале, надо заявить протест. Предъявим ультиматум. На кой хрен нам это кино...
— Правильно,— подхватил я идею.— Мы туда не пойдем. А без нас приговор читать не станут. Так что: или — или...
— Я этой прессе уже сыграл однажды отходную,— вспомнил Кирпиченок.— Ушли, как миленькие (на этом месте у него было слово посочнее...).
Наши тактические планы прервал прапорщик. Открыв дверь, он неожиданно весело спросил:
— Чего, братва, расшумелись? Аль не нравится что? Пишите заяву!.. Разберусь....
— Откуда эта братия с объективами? Издалече?— в тон ему спросил Буньков.
— Землячки ваши пожаловали из Минска. Соскучились, наверное...
— Что, и в зале снимать будут?
— Конечно. Ламп всяких понаставили, прожекторов. Аппаратуры воз и маленькая тележка... Войдете вы в историю, граждане подсудимые...
Мы немного скисли. Все понимали, что просто так, ради собственного интереса, никто не попрется из Минска в Ригу, за тридевять земель. Тем более — киносъемочная группа. Значит, кому-то это надо, кто-то держит нас на контроле, кому-то выгоден обвинительный приговор, где-то нашелся, как сегодня говорят, спонсор.
— Сделайте милость, гражданин начальник, проявите отзывчивость. Позовите, пожалуйста, распорядителя судебного заседания. Нам надо переговорить с ней.— Я говорил настолько елейно, что самому стало противно, но иного выхода не было.
— Она сюда не пойдет. Не надейтесь...
— Тогда мы не тронемся с места.
— Ой, мужики! Это уже перебор. Получите по шеям и сами рванете в клетку... Трусцой, на полусогнутых...
— По шеям — это вы можете. Но есть еще УПК — Уголовно-процессуальный кодекс. А там, кстати, записано, что подсудимый вправе отказаться присутствовать в зале суда. Понимаете — вправе!
— Ладно, мы университетов не кончали... Куда уж нам... Пойду, доложу судье.
Прапорщик ушел. Мы с Буньковым, возбужденные и взъерошенные, только тут поняли, что возмущались, «качали права» только мы двое, а наши подельники молчали, ушли в тень.
— Вы чего, ребята? Не согласны с нами, что ли?..
— Я — как все...— Кирпиченок отделался ничего не значащей фразой. И повторил, отозвавшись на наши удивленно-возмущенные взгляды: — Я — как все.
— Толя, ты чего молчишь?— затормошил я Журбу.
— Ерунду вы затеяли. Приговор зачитают и без нас. А корреспонденты, между прочим, имеют право присутствовать на суде. И никто нашего согласия спрашивать не будет...
— Как это не будет? Это мое, наше конституционное право. Мы ограничены в правах, но не лишены их. Не хочу я им позировать — и точка!..
— В самом деле, братва! Что нам делать в зале? Приговор готов, зачитают и без нас. Придет тот же прапор и сообщит, кому сколько выписано... Хоть на людях мучаться не будем. Гори они все огнем!..
Журба разволновался, достал очередную сигарету. Он всегда много курил даже в нормальной обстановке. Теперь же, в тюрьме, я практически ни разу не видел его без сигареты в зубах. А если попадал в стрессовую ситуацию, то прикуривал одну от другой.
— Дай и мне «в зубы»,— попросил Кирпиченок.— Тошно на душе. Нагадили, сволочи...— И он глубоко затянулся дымом.
В другое время я бы возмутился, может быть, даже наорал на подельников. В маленьком боксе и так дышать было нечем, а они «дуют в две дудки». Но тут не до здоровья было...
— Лихорадка трясет,— поежился Буньков.— Полтора года отмучался, всякое было, с такого колотуна не помню. Прокурор «пятак» запросил, а за что?.. Ни хрена же за мной нет, вы же знаете, мужики!
— Гадал я вчера. Загремлю на зону, как пить дать.— Кирпиченок впал в паническое настроение.
— Уж кто домой пойдет, так это ты,— перебил его Буньков.— К Адамову не причастен, а те пацаны давно забыты... Чепуха на постном масле. Так что передашь от нас привет родным и близким, бывший подчиненный...
— Здесь останусь я.— Неожиданно для самого себя произнес я роковую фразу.— Не травите вы себе душу. И не дурите мне голову. Если выскользну, буду считать, что родился в рубашке...
Продолжить мне не дал запыхавшийся прапорщик.
— Судья сказал, что выгнать киношников не может. Сейчас гласность; обо всем и писать, и говорить, и показывать можно. А на приговор идти или не идти — дело ваше. Зачитают в любом случае. Решайте сами. Силой не поведем.
— Благодарствуем,— вздохнул Буньков.— Мы подумаем.
— Только не долго. Через три минуты выходим.
Вбоксе повисла тягостная тишина. Каждому хотелось увидеть родных, которые, безусловно, приехали в Ригу, каждый сам жаждал услышать долгожданные слова — «признать невиновным». Но... Вот это «но» и делало нас зажатыми, вызывало сомнения, бросало в бездну. Нарушил молчание я.
— Что, голосовать будем?..
— Провались они пропадом. Пойдем. Если свобода — плюю я на всех корреспондентов вместе взятых. А если на зону — популярным стану, как Высоцкий — Жеглов,— решился Буньков.
— Я иду,— коротко сказал Журба.
— Как все,— остался при своем мнении Кирпиченок.
— Тоскливо, братцы!— тяжело вздохнул я.— Но не оставаться же одному! На Голгофу, так на Голгофу...
— Ты уж прости нас, грешных,— постарался скрыть смущение Буньков.— Дай-ка я лучше тебе прическу поправлю. Тебе первым идти...— И он постарался замаскировать мою лысину.— Ну вот, почти Штирлиц перед вызовом к Мюллеру.
Шутка была не из самых остроумных, но в нашей ситуации и такая сошла. Я собрал всю оставшуюся волю в кулак, решительно шагнул в коридор. Прапорщик вновь поставил всех лицом к стене, проинструктировал:
— Сороко идет первым, за ним Буньков, Журба, последним Кирпиченок. В зале не переговариваться, вести себя корректно...— Он еще раз критически оглядел нас и подал команду: — Караул, вперед! Пошли!
Процессия тронулась. Возглавляли ее три солдата, затем, заложив руки за спину, следовал наш квартет, сзади шли еще три стража; дополняли кортеж два охранника, шедших справа и слева от нас.
— Нюрнберг номер два,— пробормотал у меня за спиной Буньков.
— Разговорчики!— У прапорщика был почти что музыкальный слух.
— Оставь надежду всяк, сюда входящий,— выдохнув воздух, я переступил порог зала. Голова конвоя, первые три солдата, специально оторвалась от остальной группы, и на меня обрушилось неимоверно много света. «Вот так ночью на зоне, в запретной полосе»,— пронеслась совсем некстати мысль.
Заняв привычное место за барьером, провел рекогносцировку. Рядом со столом прокурора стояла стационарная кинокамера, еще одну таскал на плече здоровенный оператор. Эта аппаратура, как и звукозаписывающая, еще ждала своего часа, а по залу уже бегал невысокий мужичок и щелкал затвором фотоаппарата. Несколько корреспондентов сидело на стульях для зрителей, среди них я сразу узнал Гамаюнова. Ехидно ухмыляясь, он внимательно смотрел на меня. Встретив мой взгляд, кивком головы поздоровался, но я сделал вид, что не увидел приветствия... Таких знакомых лучше не иметь...
Появились адвокаты. Мой Н. В., Данилов, суетливо и беспорядочно затараторил:
— Как дела?.. Выглядишь, как огурчик... А у меня здоровье пошаливает...
«Тебя бы хоть на неделю в камеру! Что тогда запел бы?» — неприязненно подумал я, но вслух спросил о главном:
— Что слышно о приговоре?
— Понятия не имею,— отвел он глаза.— Никто ничего не знает. Засекретились... Но ничего, много дать не должны. Нет за что...
— Ладно... А кто из моих приехал?
— Жена, Людмила, с родственницей. Вначале немного раскисла, но потом взяла себя в руки. Мужественный она человек.— К сожалению, он и сейчас, в самые трудные минуты, оставался прежним — ничего не знающим и, я это чувствовал, безразличным. Не придумав, что еще сказать, он неосторожно затронул и без того больную струну: — Пресса собралась, как на событие века...
Увидев, как недовольно я поморщился, спохватился:
— Не переживай, сенсации, я думаю, никакой не будет. Уедут не солоно хлебавши. Вроде бы все складывается неплохо.
Снова те же обороты — «вроде бы», «кажется», «может быть»... И ничего конкретного, кроме сообщения о плохом настроении жены. Обрадовал, нечего сказать, мой дорогой в прямом смысле защитничек... Неохотно продолжая пустой разговор с адвокатом, я неотступно смотрел на входную дверь. И дождался — в зал вошла Людмила. В который раз сердце провалилось в пустоту, во рту пересохло, в горле запершило. Осунувшаяся, с темными кругами под заплаканными глазами — я это увидел даже на расстоянии, даже через толстенное оргстекло, отделявшее нашу клетку от зала... Кулаки сжались, тело напряглось, я готов был разнести вдребезги эту загородку, расшвырять охрану... Почувствовав какую-то перемену в моем настроении, стоявший сзади солдат предупреждающе кашлянул, насторожился. Я все- таки не выдержал, махнул рукой, жестом показал, что все будет хорошо.
— Сидите спокойно! Не нарушайте!— конвоир был настороже.
Людмила со спутницей заняла место метрах в десяти от скамьи подсудимых, ее полные тревоги глаза неотрывно смотрели на меня. Сжав зубы, я заклинал себя: «Как бы ни окончился суд, ты должен, обязан рассчитаться за каждую ее слезинку, за каждую бессонную ночь, за каждую новую морщинку. Эта прошкинская команда должна заплатить за все! Придет время!..»
...Шум в зале затих — через отдельную дверь вошли судьи. Впереди — женщина в строгом костюме, за ней — председатель Кабанов, последним, сутулясь и будто стесняясь, поправляя очки, старик-интеллигент. Кабанову явно не нравилась суета кино- и фотобратии, он недовольно хмурился, устраиваясь на своем троне — массивном кресле с высокой спинкой. Пробежал глазами по залу, внимательно, будто считая, оглядел участников процеса — прокурора, адвокатов, подольше задержался на подсудимых. Наши взгляды перекрестились. Не знаю, прочел ли он мои чувства, но глаза первым отвел он...
Дождавшись полной тишины, Кабанов встал, выдержал' длинную паузу, бережно, будто Нобелевский диплом, взял папку в коленкоровом переплете, развернул ее... Еще раз строго посмотрел на притихшую публику, будто певец перед микрофоном, чуть слышно откашлялся, набрал в легкие побольше воздуха и хорошо поставленным голосом начал читать...
— Приговор небольшой, сегодня прочтет,— шепнул стоявший рядом Буньков. На бледном, изможденном лице проявились красные пятна, скулы заострились, на челюстях ходили желваки.
— Толи Волженкова нет. Оправдали,— не поворачивая головы, еле шевеля губами, произнес Журба. Краем глаза я заметил, как подрагивают его пальцы с заусенцами, как трясется старческий подбородок. Кирпиченок стоял дальше всех от меня, весь подавшись вперед, вплотную к стеклянной стене. Рот его был чуть приоткрыт, лоб прорезала глубокая морщина, на неожиданно тонкой шее судорожно двигался кадык.
Сознание автоматически фиксировало суть преамбулы приговора, в памяти откладывались акценты, расставленные судом... Слушая гладкие, будто обкатанная морская галька, фразы, я пробегал глазами по рядам. И словно обжегся, даже вздрогнул. Набычившись, тупо уставившись в спинку стула переднего ряда, время от времени поводя шеей, будто ему мешал ворот рубашки, стоял Олег Адамов. Рядом злорадно ухмылялась его мать... Она торжествовала, глаза фанатично сверкали; мне показалось, что она на пороге истерического припадка. Ей не стоялось на месте, она толкала сына локтем в бок, что-то нашептывала. А тот все больше втягивал голову в плечи, отклонялся от назойливой матери, теснил Гамаюнова. Да, спецкор «Литературной газеты» выбрал себе место в одном ряду со своим персонажем — подзащитным. Может быть, теперь он каялся, что поступил так неосмотрительно. Компания была у него не из лучших. Он потихоньку отступал в сторону, словно хотел показать, что не имеет к этому дуэту никакого отношения.
...— Пока нормально, не сглазить бы,— услышал я реплику Бунькова.
— У меня хуже. Психическое воздействие подает как физическое. Сто семьдесят пятую, часть вторую приклеил...
— Журба идет домой. По идее... С тезкой твоим пока неясно, с Кирпиченком...
— Стройки, скорее всего... Я один остаюсь. В жертву общественному мнению... Постарался Гамаюнов...— Я ожидал от Кабанова всякого, но такой наглой подтасовки предугадать не мог. Психическую угрозу, причем недоказанную, судья квалифицировал как издевательство над личностью. А это — от трех до десяти лет... Можно подумать, что я морил Адамова голодом, лишал сна, избивал, пытал... Воистину, кодекс большой, статья найдется... Быстро прикинул: могут где-то половинку максимального срока... Лет пять... Минус изоляторы, остается около трех... Ничего, перезимуем... Зона — не СИЗО, там полегче...
— Смотри, как Мартинсон ерзает,— обретя некоторую уверенность, вновь заговорил Буньков.
— Да, красный, как рак. Получает по носу... Сыплется его обвинение...— Пожалуй, я был не совсем логичен, многого прокурор все-таки достиг. Во всяком случае, мне он нагадил. Но притянутые за уши эпизоды и многие статьи Кабанов отмел. И Мартинсон понимал это, поэтому и почувствовал себя неуютно.
Эти отрывочные, сбивчивые впечатления перемешивались в сознании, вклинивались друга в друга, мозг лихорадочно просчитывал возможные варианты, голова гудела от напряжения. А тут еще назойливо лез оператор с переносной камерой. Не будь стеклянного барьера, он воткнул бы объектив прямо мне в лицо. Наверное, режиссер дал ему задание снять крупный план, вот он и старался вовсю. Огромная, как прожектор, лампа слепила глаза, под беспощадным светом мы выглядели еще более измученными. К тому же она излучала такое количество тепла, что уже минут через пятнадцать нижнее белье прилипло к телу, пот стекал не только по щекам, но и между лопатками... Было противно, гадко, неимоверно тяжело.
Киносъемка мешала всем. Недовольно отворачивалась от объектива моя жена, прятал лицо даже Адамов, только мать его позировала, будто кинозвезда... Ей эта комедия была явно по душе, она то расплывалась в улыбке, то бросала гневные взгляды в сторону скамьи подсудимых. Каждому свое...
К перерыву мы составили довольно точный прогноз относительно судьбы каждого. И когда вновь оказались в тесном боксе, то заблаговременно, до решающих слов Кабанова, сами вынесли вердикт.
— Наказание будет мягким,— радостно-возбужденно заявил Буньков.
— Да, тебя он только погладил... А мне, боюсь, не выкарабкаться,— продолжал паниковать Кирпиченок.
— Не темните, мужики. Все вы через час-другой будете гулять по улицам Риги, кофеек попивать, а то и напиток покрепче. Только меня повезут в «дом родной», в камеру...
— Кто его знает,— неуверенно протянул Кирпиченок.
— А вообще-то, если всерьез, мы Кабанову ноги должны целовать, оставил самый мизер.— Эти слова молчавшего до сих пор Журбы разъярили меня:
— Хоть задницу ему целуй! Навесил мне Самсонова, к которому я не имел никакого отношения, подтасовал часть вторую из сто семьдесят пятой, чтобы оставить под штыком... Тоже мне, нашел благодетеля!..
— Но не сравнить же с тем, что накрутил Прошкин,— обходил острые углы Журба.— Тот планировал нас на полжизни в зону загнать...
— Не крути хвостом, Толя! Сам понимаешь, за что Кабанов тебя отблагодарил... Вот и получаешь минимум. А мне-то от этого не легче...
— Могло быть и хуже...
— Хуже быть не может! Он же творит произвол, обращается с законом, как со шлюхой. Каким боком захочет, тем и повернет. Путь не ждет спокойной жизни, я ему покоя не дам! Еще не вечер!..
Мой гнев, похоже, уже мало волновал подельников. И я не мог упрекать их в черствости, равнодушии к моей судьбе. Не могу дать стопроцентной гарантии, что повел себя на их месте иначе. Они, и я это понимал, действительно вырывались из заточения, и эйфория от предчувствия близкой свободы уже захлестывала их.
Боялся поверить в удачу лишь Валерий Кирпиченок. И то, пожалуй, из-за присущего ему суеверия. Он и утешал меня, правда, довольно своеобразно:
— Одного тебя не оставят, неудобно как-то. Придется и мне с тобой баланду хлебать. Под несчастливой звездой мы родились...
— Баланда — баландой, а я сейчас перекусить хочу,— неожиданно для коллег сменил я тему.— Кто хочет бутерброд? Есть хлеб с салом...
Подельники отмахнулись, им было не до еды, а я (на удивление самому себе) съел пайку. Правда, вкуса не почувствовал. Во рту стояла горечь, нёбо было шершавым, будто терка, желудок терзали спазмы.
А окрыленные скорым освобождением мужики находили все новые и новые подтверждения своим выводам.
— Жен наших нет, родственников не видно. Значит, все отлично, чего зря тратиться. Как-то узнали заранее.— Буньков уже обращался только к Журбе и Кирпиченку.
— Вы только, братцы, не поливайте меня грязью, когда выскочите. Не валите на меня все дерьмо. Все равно увидимся, не подохну же я здесь!
— Не говори лишнего, Валера! Мы теперь навеки одной бедой повязаны. Не ссучились же мы здесь, не беспокойся.— Буньков полуобнял меня за плечи, дружески встряхнул.
— Да и доследование не исключено,— осторожно подал голос Журба.— Опротестует кто-нибудь...
— Я уж точно жалобу накатаю, без вариантов,— не мог успокоиться я.— Самые тяжелые обвинения отпали, а с этим бредом я как-нибудь разберусь. Найдутся умные люди, раскопают, кому это надо. На Кабанове свет клином не сошелся!
Журба и Буньков, я чувствовал, не слышат меня — они уже всеми помыслами были в зале, ждали пугающе-сладкого мгновения, когда прозвучат последние слова. Только Валера Кирпиченок жадно затягивался табачным дымом. Во что оценит Кабанов избиение несовершеннолетних, пока оставалось тайной за семью печатями. Сигарета жгла ему губы, но он не ощущал боли. Лишь когда раздалась команда выходить, он с трудом отлепил окурок от губы, загасил прямо на ладони. Перекрестившись на угол, охнул и последним покинул бокс.
...В зале ничего не изменилось. Вновь мерно зажужжала кинокамера, защелкал затвор фотоаппарата, оживились пишущие журналисты. Заняли свои места адвокаты, прокурор. Вернулась и Людмила. Она попыталась что-то объяснить мне жестами, но безуспешно... Слез не было видно, только родное лицо будто постарело, глаза смотрели тревожно...
Подошел адвокат, Данилов.
— Вот это фокус!— зачастил он.— Впервые за свою практику слышу, чтобы словесную угрозу превращали в тяжкое преступление. Впрочем, это, может, и к лучшему.— У него появилась какая-то мысль.— Это настолько шито белыми нитками, что есть отличный повод для обжалования.
— Вот и напишите, Николай Васильевич! Пусть и Люда напишет, и я телегу накатаю. Атакуем сообща!
— Доказательства у него, конечно, слабенькие. Все висит в воздухе. Словеса, словеса, а фактов нет. Обмозгуем, я приду к тебе.— Адвокат уже смирился с тем, что я иду на зону. Но я сопротивлялся:
— Могу, вообще-то, и стройками отделаться. Даст минимум — три года. Все в руках Кабанова.
— Посмотрим, посмотрим. Ты, главное, держи себя в руках. Жена просила успокоить тебя, наказывала, чтобы берег здоровье. Хотя все это она тебе сама скажет. Придет на свидание, ей обещали.
— Ее поддержите, Н. В. Меня на зону запрут. А весь груз на ее плечи ляжет. Ажиотаж начнется — вот их сколько, писак и киношников. Как ей вынести все это?..
— Мы еще встретимся, поговорим.
Данилов поспешил на свое место — на авансцену вышли судьи.
Умом понимая, что чтение приговора — сущая формальность, что участь наша решена за закрытыми дверями, я с затаенной надеждой вглядывался в лица Б. Кабанова, заседателей Я. Фишере и Р. Нейланда, прокурора Э. Мартинсона. Но вершители судеб были непроницаемы. Перевел взгляд на адвокатов. Ерзал на стуле мой Н. Данилов, напряженно, скрывая волнение, улыбалась В. Шихонцова, победоносно оглядывался вокруг Д. Сиротин, невозмутимо и спокойно, будто уже знали решающие слова судьи, смотрели на стол председателя Э. Маргевич и И. Домбровский. Невольно еще раз отметил, как проигрывает на их фоне Н. В., мой защитник.
Судья ждал, когда утихнет шумок в зале. А у меня в памяти четко, будто я долго учил текст наизусть, всплыли первые фразы приговора: «Подсудимый Сороко, работая прокурором следственного отдела Белорусской транспортной прокуратуры, расследуя уголовное дело как самостоятельно, так и в группе со следователем Витебской транспортной Прокуратуры Журбой, из карьеристских побуждений принуждал подозреваемого Самсонова, а также подозреваемого и вспоследствии обвиняемого Адамова к даче показаний путем применения угроз и издевательства, над личностью допрашиваемых. Сороко также заведомо незаконно задержал Самсонова и Адамова в качестве подозреваемых, заведомо незаконно совместно со следователем Журбой заключил под стражу Адамова, совершил служебный подлог.» И статьи Уголовного кодекса БССР: 175 ч. 2, 174 ч. 1, 174 ч. 2 и 171... После такого «джентльменского» набора рассчитывать на благоприятный исход мне, профессионалу, было наивным, но... вдруг свершится чудо?..
В зале наконец-то установилась полная тишина, только в нашей застекленной клетке глухо покашливал от возбуждения Журба. Что определит ему Кабанов за то, что «...из ложно понятых интересов дела принуждал подозреваемого и впоследствии обвиняемого Адамова к даче показаний пути применения угроз, совместно с Сороко заведомо незаконно заключил под стражу Адамова, совершил служебный подлог»? Анатолий был ни жив, ни мертв. Как ни старался он держаться прямо, страх, уже давно поселившийся в его душе, гнул шею, давил на плечи. На аскетичном лице жили только глаза; даже за стеклами очков виден был их лихорадочный блеск.
«...Окончательное наказание назначить в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев,... наказание считать условным с обязательным привлечением к труду... Подсудимого Журбу в зале суда из-под стражи освободить.»
Не поверив в услышанное, Журба недоуменно повернулся к стоящему рядом Кирпиченку, тот подтолкнул его, утвердительно кивнул. Он вновь посмотрел на судью, словно желая получить подтверждение. А Кабанов ждал, когда осужденный, но свободный Журба покинет скамью подсудимых. Анатолий рванулся к выходу, зацепился за что-то, резко остановился... Потом подошел ко мне, смущенно, будто извиняясь, улыбнулся, протянул руку... На большее у него не осталось сил...
Пришла очередь Бунькова, который «...из ложно понятых интересов дела превышал власть и служебные полномочия, то есть умышленно совершил действия, сопровождающиеся насилием, явно выходящие за пределы прав и полномочий, предоставленных ему законом, которые причинили существенный вред государственным интересам и охраняемым законом правам и интересам граждан». Как ни серьезно, даже грозно прозвучало это обвинение, Владимир уже чувствовал, знал, что и он пойдет следом за Жур- бой. Мне даже показалось, что он пританцовывал от нетерпения, готовый в любое мгновение сорваться с места. Пусть извинит меня за грубоватое сравнение, но он напоминал мне горячего коня, которого долго держали в тесном стойле и наконец-то выпускают на волю.
«...Наказать его лишением свободы сроком на два года, ...наказание считать условным с обязательным привлечением к труду. Подсудимого Бунькова в зале суда из-под стражи освободить.»
Крепкие нервы и твердый характер Бунькова не разрешили ему выплеснуть эмоции наружу. Выдавали бурю чувств лишь глаза — счастливые, даже повлажневшие. Рукопожатие его было крепким, по-настоящему мужским, он будто хотел вселить в меня веру в успешный исход дела.
Предчувствие близкой свободы преобразило и Кирпи- ченка. Я провел с ним в камере долгие дни и ночи, был свидетелем его эмоциональных срывов, доходящих до истерики, не раз помогал ему преодолеть глубокую депрессию. Теперь он был будто натянутая струна: выпрямился, напружинился, горделиво поднял голову. Не погрешу против истины, если скажу, что Валерий был в эти секунды красив. Он и на следствии, и на суде не согласился, что «...с целью скрыть неумение законными методами и средствами обеспечить раскрытие преступления, установление и изобличение лиц, совершивших преступление, а также из ложно понятых интересов дела превышал власть и служебные полномочия...» Эта строптивость могла ему дорого обойтись, он мучался сомнениями; клял судьбу, Адамова, Прошкина и Кабанова, впадал в крайности. Но теперь, после ухода Журбы и Бунькова, физически ощутил, что находится в одном шаге от долгожданного освобождения. И не ошибся.
«...Наказать его лишением свободы сроком на два года шесть меяцев, ...наказание считать условным с обязательным привлечением к труду. Подсудимого Кирпиченка из-под стражи освободить.»
Валерий глубоко вдохнул воздух, прикрыл глаза, а затем победоносно оглядел зал. Увидев, как открыто улыбнулся ему адвокат, благодарно кивнул головой. Подойдя ко мне, остановился. Мне показалось, что тезка хотел обнять меня, но сдержался. Наши ладони соединились в долгом рукопожатии...
В стеклянной клетке остался я один. Кабанов, как опытный актер, сделал паузу и держал ее секунд пятнадцать. Наэлектризованный зал затаил дыхание. Вся присутствующая публика уже поняла, что запланированный концерт проваливается, что сеть, сплетенная Прошкиным, разъехалась по швам, что корабль обвинения, несмотря на потуги следствия, медленно идет ко дну. Нс скрывали разочарования корреспонденты — сенсация оказывалась дутой, все более озлобленной и недовольной становилась мать Адамова — «большой кропи» нс было; неуютно чувствовал себя прокурор Мар- IIIIUOM. I cm pi, me зависело от меры наказания мне, ведь полугодовой процесс у 1 с давно неофициально называли моим именем, я был, если употреблять тюремный и слсдова- ігшкпй жаргон, паровозом». Позиция Кабанова, как ни старался он ее завуалировать, пока была мне ясна: определив Журбс, Бунькову, Кирпичснку условные сроки, и оправдав бывшего на свободе Волженкова, он убил двух зайцев — вроде бы и наказал, но и помиловал. Такая порочная практика существовала, да и существует поныне; как говорится, и волки сыты, и овцы целы. В меру ублажена прокуратура, довольны, что вырвались из заточения, обвиняемые. Подобных примеров множество: судейская бригада и переспала с обвинением, и формально сохранила невинность.
Остался Кабанов честным или все же уступил домогательствам Прошкина — именно об этом должен был сказать срок, назначенный мне.
«...Сороко по работе в органах прокуратуры характеризовался положительно, однако в его характеристике отмечены и недостатки: высокомерие, несамокритич- ность... Судебная коллегия принимает во внимание, что преступление совершено Сороко из карьеристских побуждений, о чем свидетельствуют показания свидетеля Борисова — следователя по особо важным делам прокуратуры Белорусской ССР.
...На основании cm. 39 УК Белорусской ССР окончательное наказание назначить в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии усиленного режима. На основании cm. 45 УК Белорусской ССР засчитать в срок отбытия наказания нахождение под стражей с 28 ноября 1986 года.
Сороко Валерия Илларионовича по cm. 105 ч. 2 и cm. 175 ч. 1 УК БССР оправдать.
Приговор является окончательным, кассационному обжалованию и опротестованию не подлежит.»
...Затылок налился свинцом, заломило в висках, сердце глухо стучало о ребра, пытаясь вырваться наружу. Я в упор, не отрываясь, смотрел на судью. А он, выстрелив в меня четырьмя годами заключения, нс решался глянуть в мою сторону. Но судебный ритуал требовал этого, и он нехотя, помимо воли, поднял на меня глаза и переспросил:
— Приговор понятен?
Приговор я понял, как понял, поймав взгляд Кабанова, что тому стыдно. Он прилюдно расписался в своей слабости, в своем безволии; публично, через приговор, признался, что он, член Верховного суда Латвийской ССР Кабанов — марионетка, что кресло с высокой спинкой для него дороже справедливости. Все это он прочел в моих глазах, нервно передернул плечами, стушевался. Кое-как затолкнув в папку листки со зловещим текстом, резко отодвинул кресло, неуклюже зацепился за него, чертыхнулся и не поднимая головы направился к двери.
— Большое спасибо, что разобрались!
Крик из зала заставил его вздрогнуть, но он даже не обернулся и скрылся в совещательной комнате. А это окончательно сдали нервы у Анатолия Журбы. Лихорадочно блестящие глаза, неухоженная клочковатая седая борода, трясущиеся руки, хриплый рыдающий голос — мой подельник представлял собой жуткую картину. Пусть не обидится на меня Анатолий, но в то мгновение он выглядел, мягко говоря, далеко не лучшим образом. Впрочем, всем нам после полуторагодичного заточения необходимо было обратиться к психиатрам. А мне еще предстояло пробыть за решеткой почти два с половиной года... И когда мою прозрачную клетку обступили фото- и кинорепортеры, стараясь запечатлеть «героя» трагического фарса, я не выдержал и тоже сорвался на крик:
— Уведите меня! Прекратите этот цирк! Я за себя не ручаюсь!
Журналисты в испуге отпрянули от скамьи подсудимых, хотя они надежно были защищены от моей ярости толстым оргстеклом. Начальник караула отдал команду:
— Увести осужденного!
Сколь ни был возбужден, но ухо резануло слово «осужденный». Меня даже передернуло, в душе поднялся протест, но я был бессилен что-либо изменить... «Судьбы свершился приговор...»
И уж совсем расклеился в боксе, в котором еще недавно был имеете с Журбой, Буньковым, Кирпиченком. Из тесно- и> помещении еще не выветрился табачный дым от сигарет, выкуренных подельниками, скамейки, казалось, хранят их •‘ пло, I гены ног нот отзовутся их знакомыми голосами. Но я был один, бег конечно один. И теперь надолго — на целых нмл г половиной года. Еле сдерживая подступающие рыдании, как затравленный зверь заметался по камере. Вопию- нмч ІКЧ пранедливость суда, собственное бессилие, невозможность что-либо изменить, глухое отчаяние, боль за родных — все смешалось, сплелось в какой-то сплошной кошмар, и не было выхода из этого тупика. Я почти физически ощущал, что надо мною висит тяжелый топор, а держит его все тот же Прошкин. Наваждение это было настолько реальным и ужасным, что появилось желание разогнаться, насколько позволит бокс, и врезаться головой в стену, чтобы разом покончить со всей этой гнусностью. Не могу дать гарантии, что не поступил бы именно так — настолько тяжело и гадко было на душе, настолько бессмысленным представлялось дальнейшее даже не существование, а прозябание в скотских условиях.
Вывел из этого коматозного состояния приход моих стражей, причем довольно высокого ранга. Вместе со знакомым прапорщиком в бокс заглянул подтянутый майор, командир роты.
— Не расстраивайся, могло быть и хуже,— неожиданно участливо сказал майор.
— Куда уж хуже!.. И самое страшное — ни за что!
— Еще раз говорю: успокойся! Половину срока, считай, уже отбыл... Не заметишь, как следом за друзьями дома окажешься...
— В камере один день годом кажется! Опостылело все!
— Все будет нормально. Молодой еще, вся жизнь впереди. Будет и на твоей улице праздник.
— Кому зэк нужен?! Оплеванный, облитый грязью... И кем?! Подонками, на которых клейма негде ставить!
— Знаешь пословицу: от сумы и тюрьмы не зарекайся? Считай, что тебе просто не повезло. Все же понимают, что не хотел ты невиновного посадить, не было у тебя умысла. Ну, вышла ошибка, а кто от них застрахован? Какой же ты преступник?.. Держи хвост пистолетом, и все наладится!— майор даже дружески хлопнул меня по плечу, и неожиданный визит закончился. Не скажу, что он принес облегчение, но простое человеческое участие тронуло меня, черная меланхолия на время отступила. «Доброе слово и кошке приятно»,— вспомнилась где-то слышанная фраза, а мне, только что получившему статус осужденного, даже минимальное внимание было целительным бальзамом. «В самом деле, жизнь продолжается. В плохом, но не худшем, варианте... Ведь Кабанов в своей беспринципности мог зайти гораздо дальше, полностью поддержать прокурора, а это — уже не четыре, а восемь лет... Но и нынешняя аргументация суда слабенькая, она построена на песке. И сам Кабанов это чувствует, знает; вон как выкручивался в приговоре, концы с концами еле свел... Вот и надо рубануть по этим концам, пусть болтается со своим приговором, как дерьмо в проруби! Быть не может — утонет, рано или поздно... Будем бороться, Валерий Илларионович! Еще не вечер!»
Подбадривая себя, собирая нервы и волю в кулак, ожидал, когда увезут из несчастливого здания суда. Автозак на этот раз был целиком в моем распоряжении. Мне показалось, что охрана поглядывает на меня сочувственно, а один солдатик даже предложил сигарету. Может быть, единственный раз я пожалел, что не курю; какое-либо успокоительное средство мне не помешало бы. И еще одна деталь запомнилась: перед отправкой в камеру меня впервые не обыскали. Жалкие льготы только что осужденному...
Опустевшая камера, в которой я на пару с Кирпиченком провел столько томительных дней, стала еще более унылой. Знакомый до квадратного сантиметра пол, намозолившие глаза стены, монастырская койка, редкие проблески неба в зарешеченном окне... Когда все это кончится? Наступят ли перемены? Есть ли на этом свете справедливость? Накажет ли Бог моих мучителей? Раздираемый сомнениями, бросился на койку, накрыл голову подушкой, попытался отключиться от внешнего мира. Но какая-то невидимая пружина через мгновение подбросила меня, внутренний метроном начал отсчитывать секунды, и в ритм ему я стал вышагивать по своей клетке. Затем снова лег, закрыл глаза; пересохшие губы беззвучно шептали: «Все будет хорошо. Не сдаваться, нс сдаваться...»
Пришло какое-то полузабытье, наступила отрешенность, сознание работало как при замедленной киносъемке. Я проваливался в пустоту...
— Собирайтесь!— Голос контролера прозвучал, как выпрел. Я вздрогнул, открыл глаза.— Поднимайтесь. К вам на свидание пришла жена.
Я медленно возвращался в реальность. Помассировав виски, провел руками по лицу, снимая остатки тягостного сна. Пожалел, что нет зеркала. Хотелось узнать, живы ли мои глаза, не поселилась ли там черная тоска.
— Готовы?— контролер был сегодня на удивление предупредительным.— В добрый путь,— и он пропустил меня вперед. Заложив руки за спину, но стараясь держаться прямо, я решительно направился в комнату свиданий. Едва переступил порог и сразу увидел полные слез огромные глаза жены. Они выделялись на бледном исухдавшем лице, и столько в них было горя, сострадания, невыносимой муки, что у меня перехватило дыхание. Не издав ни звука, будто во сне, медленно опустились на стулья, все так же вглядываясь друг в друга. Сколько длилась наша немота, не знаю, мы будто молча здоровались и прощались одновременно, боясь, что любое слово порвет ту нежную нить, что соединяла нас. На запавшие щеки Люды медленно скатывались слезинки...
— Успокойся, родная!— Я наконец решился прервать молчание.— Не стоят они твоих слез, много чести. Мы еще с тобой споем!..
Напускная бодрость давалась мне с трудом, слова застревали, и чтобы сдержать подступавшие рыдания, я говорил, говорил, но язык слушался плохо, на нем будто Гири висели.
— Каждая твоя слезинка им дорого обойдется, не расплатятся вовек... Все еще впереди, у меня хватит сил... Ты же знаешь, я сильный... Вот ты рядом со мной, а это — самое главное. Пусть завидуют, что ты у меня есть... Ради тебя и Инночки я горы сворочу...
Людмила молча кивала головой, пыталась улыбнуться сквозь слезы: улыбка эта получалась вымученной. Но и эта мимолетная искорка в дорогих глазах была для меня бесценным подарком, мне хотелось хотя бы на миг разогнать густой мрак, зародить в ее душе пусть маленькую, но надежду.
— Расскажи, как наши домашние? Как Инночка?— я старался расшевелить ее, увести от сегодняшей беды.— Соскучился без вас всех, каждый день во сне вижу.
— Зима эта очень трудной была. Папа, ты знаешь, тяжело болел. В больнице сказали, что безнадежен. Так мы из реанимации домой забрали, чтоб не мучался. А потом нашли врача — частника. И, слава Богу, выкарабкался, уже ходит потихоньку. Вот только за тебя переживает.— Глаза Л юдмилы вновь наполнились слезами.
— А Инночка, доченька, как? Не забыла еще меня?
— Как ты можешь?! Перестань и думать об этом!— Люда возмущенно всплеснула руками.— У нее все игры с тобою связаны, о тебе все разговоры... Недавно мы бумажных голубей с ней запускали. Я нарочно взяла твое письмо, сделала вид, что хочу сделать голубя. Она налетела на меня, раскричалась: «Как ты можешь, мама! Это же папино письмо! Не дам!..» Целый вечер дулась на меня, еле-еле убедила ее, что я пошутила, что хотела проверить, помнит ли она тебя... Ждет — не дождется...
Горький ком перекрыл дыхание, пелена застлала глаза, сердце заныло и оборвалось. Я едва удержался на стуле, до хруста пальцев сжав сиденье. Сипло, с надрывом попросил:
— Расскажи о ней еще... Пожалуйста...
— Растет не по дням, а по часам. Скоро меня перегонит. Выше всех в группе. Говорит, хочу быть высокой, как папа. И характером вся в тебя, настырная... И памятливая. Бывает, скажу что-нибудь, а потом забуду. Голова устает, сам понимаешь, сколько забот свалилось. А она обязательно напомнит: «Как же так, мама? Раз обещала — надо делать. Нехорошо.» И в садике старается все выполнять. Торопи- ШК Ь ММ I in " как то, забыли тапочки. Она на полдороги ос- глнліілнііаггсм, требует: «Вернемся, нельзя без тапочек идти. Стыдно будет.» Я уговариваю, а она на своем стоит... Чу и. пи /исилась, что один раз не страшно... Прибежали в »лдик, а она все переживает, успокоиться не может. Я ей говорю но >1ои1111.| детей без тапочек, никто тебя ругать не бу-
ді I а о— и г равно волнуется: «Следующий раз вечером все — — оно. ши 'Hi moo i ново!..» И в самом деле, больше ни |hi tv ничего не забыла. Ми'11.11 мюоне подробности, незначительные детали, • I * но — — ii.imi и Как их мне не хватало, как соску- чи«и и в in I мима, о, I веселой болювни дочурки, без неI — ііііяііі'іі НІІІІ іанііоі I in, in коіорых, чем) греха таить, зачаII — у и • I I «| hi «и и vim 'ii.li у I к. С каким удовольствием я выбил бы ковры, перемыл посуду, сходил в магазин, отнес белье в прачечную... Когда это будет, когда я вернусь к нормальной жизни, как она меня примет, эта обычная человеческая жизнь?..
А Людмила продолжала:
— И по дому помогает. Старается, во всяком случае. Такая хозяюшка маленькая... Вязать научилась... Как-то мама моя показала, так теперь по вечерам кофту себе вяжет. Нетерпеливая только; поработает немножко, отложит спицы, еще немножко сделает — смотрит, готова ли кофта... За не- делю-две и взрослому это не под силу, а ей хочется побыстрее... Подходит ко мне, жалуется: «Мамочка, когда эта кофта довяжется?.. Стараюсь, стараюсь, а она на месте стоит...»
Я представил милую головку, склоненную над вязаньем, тонкие пальчики, в которых мелькают спицы, услышал родной голосок... К сердцу подступила волна теплоты, глаза опять затуманились слезами... Мне и хотелось до бесконечности слушать рассказ Люды о дочери, и в то же время я боялся, что не выдержу и разрыдаюсь...
...— Читать научилась. С книжкой спать укладывается. Я ей говорю, что лежа читать нельзя, а она тогда ко мне пристает: «Ты сама мне почитай, хоть одну сказочку. Ну, пожалуйста, мамочка...» Так и коротаем с ней вечера... А вообще-то мы люди занятые. Три раза в неделю на хореографию с ней ездим, в Дворец культуры железнодорожников. Танцевать любит, а дома возьмется за юбочку, перед зеркалом поклоны, реверансы делает...
И я снова увидел стройную фигурку, знакомое до мельчайших черточек лицо, ставшие не по-детски печальными глаза... Вот честное слово, полжизни отдал бы за одну минуту свидания с дочкой, за возможность обнять ее, зарыться лицом в волосы, дотронуться губами до щеки... Людмила почувствовала, что я еле сдерживаюсь, успокаивающе улыбнулась:
— Скоро сам будешь с ней и книжки читать, и на танцы ездить. И так много прогулял, наверстывать будешь... В школу ее поведешь...
От сердца немного отлегло. Хотя я и понимал, что жена говорит о близкой встрече с дочкой ради моего спокойствия, что она старается увести хоть на время от черных мыслей после приговора, но мне хотелось этой невинной лжи. «Я сам обманываться рад...»
— Вот я сказала о школе, но, правду говоря, сомневаюсь, отдавать ли ее в нулевой класс?.. Жалко ребенка. Пусть бы погуляла еще.— Людмила втягивала меня в круг семейных забот, не давала забыть, что я отец, муж, глава семейства.
— По-моему, пусть идет в школу. Ты же говоришь, что она смышленая, развитая, читать умеет и любит... Чего ей на месте топтаться?.. Голова у нее хорошая, мама умная... Вам никакая программа не страшна...
— Будь по-твоему. Ты ей напиши, что советуешь идти в школу. Она и дедушке, и бабушкам письмо покажет. Это у них сомнений больше всего... А впрочем — все решишь сам, в Минске. Через месяц будешь дома, Верховный суд СССР отменит сегодняшнее решение, я уверена.
Так потихоньку, незаметно вернулись к делам насущным. Как ни старались мы оттянуть эти неприятные минуты, но от себя не спрячешься.
— Сегодня же скажу, чтобы Данилов обжаловал приговор. Времени терять нельзя. Я жалобу в Москву сама отвезу, так надежнее будет.. Как ты считаешь, Валера?
— Трудно тебе, я вижу... Только на нашего адвоката надежды мало, это факт... И мужик неглупый вроде, но ленивый до ужаса... Ему кнут хороший нужен, чтобы шевелился... Гоняет ветер, а пользы никакой...
— А мне говорил, что с прокурором бился нс на жизнь, а на смерть...
— Да проспал он весь процесс; пусть не дурит голову... Подельники смеялись: «Где ты выкопал такого Цицерона? Сидит, дремлет, а если вопрос к свидетелю — то обязательно невпопад...» Я прошу, чтобы пришел в изолятор, говорю, надо общую тактику выработать... Соглашается, обещает... Жду, готовлюсь... Не приходит! Назавтра тысяча причин: зуб разболелся, гостиница плохая, судья разрешения не дал... А я вижу, что врет, как сивый мерин... Не поверишь: за пять месяцев всего два раза был у меня...
— Где его совесть?.. Я же около трех тысяч уплатила... И квитанция есть, я сохранила...
— Да он и ста рублей не заслужил... Знаешь, я его к концу суда попросил: «Не высовывайся ты, Н. В., с глупыми вопросами. Я уж как-нибудь сам оборону буду держать...» А ему это и надо... Только и проку, что от тебя приветы передавал, про дом рассказывал...
— Кто же знал, что он таким окажется. На первый взгляд — порядочный, толковый. А на поверку — пустое место...
—Бог ему судьей... Пусть хотя бы жалобы помогает писать. Это у него, вроде, получается...
— Ладно,— Людмила огорченно махнула рукой.— С паршивой овцы — хоть шерсти клок...
— Ничего, женушка, прорвемся,— я старался во что бы то ни стало успокоить Людмилу.— Приговор гнилыми нитками шит, рассыплется, я верю в это.
— Вот и хорошо,— постаралась она улыбнуться.— Ты веришь, значит, и я буду надеяться... Тебе передачу принесли?..
— Нет еще...
— Там яблоки, колбаса, масло, сыр... Что разрешают, то и собрали... Жалко только, что к Пасхе не успели... Хотелось порадовать... А, может, вас начальство местное угостило?.. Праздник все-таки...
Работник изолятора, внимательно следивший за разговором, насторожился: не скажу ли я что-либо крамольное, не начну ли жаловаться?
Показав на него Людмиле глазами, я обошелся туманной фразой:
— Все нормально... Не хуже, не лучше... Конечно, изолятор — не дом родной. Но жив, как видишь, не сдался.
Контролер успокоился, расслабился.
— Сестра твоя, Зина, на Пасху, вчера, к маме поехала в деревню. Она часто там бывает... А 8 марта у меня собирались... Зина, брат Дима... Посидели, о тебе поговорили, добра пожелали... Хорошие они у тебя...
Мне было приятно, что отношения между моими родственниками и женой наладились, что они не бросили ее в беде, а она не сторонится их. Жить вместе, а я в это верил, нам еще долго, и ближе их на этом свете у меня нет людей...
— И друзья у тебя замечательные,— продолжала Люда.— Звонят, заходят, советуют. Если кто едет в Москву, передает жалобы. Печатать их помогают... Не оставляют одну, не знаю, как и благодарить...
— Вернусь, отблагодарим... Такое не забывается... Правду говорят, что друзья познаются в беде. Спасибо им большое...
На душе стало светлее. Но тут Людмила достала из сумочки фотографию дочки. Полтора года не видел я это дорогое существо. По коротким рассказам адвоката, из сегодняшнего разговора с женой я знал, что она выросла, вытянулась... А тут на меня глянули такие знакомые до боли глаза, и столько в них было затаенной печали, что на меня сразу накатила новая волна отчаяния.
— Я тебе оставлю ее. Может, легче будет...
Тюремные, инструкции разрешали иметь при себе фотоснимки родных и близких, но раньше я сознательно отказывался от них. Боялся растравливать душу, не хотел, чтобы кто-нибудь обсуждал их достоинства, чтобы вообще их касался чужой взгляд. Теперь, когда судьба в общем-то определилась, когда я пообвык, закалился, снимок дочери мог стать поддержкой, с ней можно было поделиться редкой радостью, попросить совета в беде. Вместе с фотографией жена зажала в руке клочок бумаги и взглядом предложила взять его. Я понял, что это записка с'какими-то новостями, о которых нельзя сказать вслух или сообщить в официальном письме. Контролер, покуривая, смотрел в окно. Соблазн взять записку был велик, но я вовремя сдержался. При выходе из комнаты свиданий не исключалась унизительная процедура обыска, а мне очень не хотелось, да и Людмиле, конечно, тоже, чтобы наша тайная переписка попала в чужие руки.
— Гражданин контролер, мне можно взять фотографию дочери?— нарочно громко спросил я.
— Я должен спросить у начальства,— встрепенулся тот.— Разрешит, тогда — пожалуйста.
Жена поняла, что я опасаюсь чего-то, и записка вернулась в сумочку.
— Адвокат обещал придти,— намекнул я.— Вот он и передаст, что надо.
Она понимающе кивнула головой, а контролер заметил:
— Окончится свидание, подождете несколько минут. Я покажу фото начальству, получите «добро», тогда берите на здоровье. Думаю, что все будет нормально...
Прозрачный намек, что время встречи подходит к концу, вынудил меня наконец сказать о самом неприятном, но, как я считал, необходимом:
— Пойми меня правильно, Лкща... Я долго думал и пришел к выводу, что тебе надо подать на развод. Ради твоего же спокойствия. Сама видела, какой шум подняли вокруг процесса. Газеты, телевидение, кино... И все это обрушится на твои плечи, на твою голову... Разговоры пойдут, недоброжелатели найдутся... На каждый роток не накинешь платок... А ты сможешь сказать, что я тебе чужой человек, что ты развелась...
— Не смей так плохо думать обо мне!— Люда возмутилась до глубины души.— Да наплевать мне на все разговоры и сплетни! Что я, на дураков равняться буду?! Друзья в тебя верят, я — тем более. Хочешь, брошу все, на край света за тобой поеду?— Она разволновалась, лицо порозовело, и я совсем некстати (а впрочем — почему некстати?) отметил про себя, что моя жена — по-прежнему самая красивая женщина на свете. И позавидовал самому себе.
...— Я спрашивала у киношников, зачем они и для чего снимают. Говорят, что в Белоруссии хотят сделать документальный фильм о «Витебском деле». Про всех, кого незаконно привлекли, и про тех, кто привлекал, кто судил... Но пока неизвестно, разрешат ли такой фильм выпустить... Еще не все процессы прошли...
— И зачем мы адвоката нанимали?.. Он в подметки тебе не годится...
— Вот теперь ты на себя похож. Если не забыл, как комплименты говорить, значит, все будет хорошо... И Гамаюнова видела. Ни живой, ни мертвый... Сел в лужу, понимает, что зря на Адамова поставил... Глаза отводит, совесть, если она у него есть, заела...
— Я, между прочим, пообещал опровержение на его статью написать... Мы в этой комнате с ним говорили, приходил... Вынюхивал, выспрашивал... Но так и ушел с пустыми руками. Не на того напал, я ему не Адамов...
— Давай сегодня не будем о подонках вспоминать... Лучше скажи, правильно я сделала, что дачный участок взяла?.. На работе распределяли, я и решилась... Ты скоро вернешься, купим дом, сад посадим, огород... От Минска недалеко, километров двадцать на электричке... Устроим все, маму твою заберем к себе... Летом будет на даче, зимой с нами...
— Умница ты у меня, молодчина!.. Только вот трудно тебе будет, на участке мужская рабсила нужна. А тебе и так нелегко, я вижу...
— Ты же скоро дома будешь! Вот тебе и карты, вернее — топор и лопата, в руки...
— В лагере мне этот инструмент выдадут,— горестно вздохнул я.— Там этого добра достаточно, на многих хватит.
— Надо надеяться на лучшее... Пока ничего не потеряно. А если и худший вариант, то в лагере, наверное, полегче, чем здесь, в изоляторе... А мы ждали тебя полтора года, подождем и еще... Только ты держись, не сдавайся! И ради самого себя, и ради нас...
— Час прошел, пора заканчивать,— предупредил охранник.— Фотографию дайте мне... Думаю, решим вопрос...
Я улыбнулся про себя: «И тут «решают вопросы», отвыкли от человеческого языка... Или никогда не знали его?..»
— Да, Валера,— заторопилась жена.— Еще хочу посоветоваться. Предлагают пойти работать в институт повышения квалификации, наш отраслевой. Это рядом с домом... Надоело по командировкам ездить, устаю очень. Да и Ин- ночка растет, в школу ей идти... Как ты думаешь?
— Переходи, конечно. И я здоровье забираю, и дома забот полно... Береги себя...
— Тему надо разработать, а я забыла уже все... То ли старость, то ли усталость...
— Ты любым аспирантам фору дашь... А до старости нам еще далеко, тебе особенно... Вот лето скоро, отпуск. Езжай на юг, отдохни... Я когда в Минске в изоляторе сидел, то работал, игрушки детские шлифовал. На сберкнижке деньги есть. Напишу заявление начальнику учреждения, дам доверенность. Как раз вам с Инночкой на дорогу хватит...
— Вместе поедем. Верховный суд Союза отменит этот приговор. Все в один голос утверждают, что такой липы еще не было... Так что дынями и арбузами ты нас с дочкой угощать будешь. Пораньше встанешь — и на рынок. А мы на пляже место займем... Инночку, конечно, надо к морю свозить... Нервничает в последнее время, прихварывает... Вот я к тебе уезжала, а у нее кашель начался, простыла... Надо вам обоим погреться...
— Ты купи ей, пожалуйста, какой-нибудь подарок. Скажи, что от папы.— Горячая волна опять захлестнула грудь, стало тяжело дышать...
— Время истекло. Свидание окончено.— Контролер на этот раз был неумолим.
Нарушая все и всяческие тюремные инструкции, мы бросились друг к другу. Запрокинутое лицо жены выражало такую муку, в глазах было столько боли, любви, отчаяния, что я не выдержал этого взгляда... Прощальный поцелуй был горьким и томительно сладким... Когда наши губы разомкнулись, я с ужасом понял, что руки мои не решились обнять родные плечи, а оставались по тюремным правилам за спиной... Боже, в кого я превратился?!
Будто во сне, на ватных ногах, побрел к выходу. Не было сил оглянуться, я боялся, что не выдержу и рухну без чувств... Сознание пропало в камере, лишь я добрался до койки. Мрак обступил меня...
Из забытья вывел голос того же контролера:
— Приготовьтесь, пришел адвокат!
«Принесла тебя нелегкая!.. Ясно, торопишься уехать... Ни собраться с мыслями, ни обдумать приговор... Все галопом по Европам... Считаешь, что миссия выполнена. А сам палец о палец не ударил, чтобы помочь...» Проклиная в душе Данилова, поднялся, ополоснул лицо. Голова гудела, покалывало в сердце, настроение было отвратительным...
Адвокат ожидал в той же комнате, откуда я совсем недавно с такой неохотой уходил, где, казалось, еще ощущался легкий, тонкий аромат любимых духов жены. Но это впечатление улетучилось, когда Данилов закурил свой традиционный «Беломорканал».
— А ты неплохо выглядишь,— начал он в своем обычном развязно-бодром тоне.— Молодец. Правильно. Еще не все потеряно.— Дежурные фразы, я это чувствовал, вылетали из него автоматически, шли не от души. Один взгляд Людмилы содержал в себе больше поддержки, чем десяток пустых слов моего защитника.— Приговор так себе. Я думал, на стройки загонит... Пороху не хватило, перестраховался... Но могло быть и хуже. Я встречался с бывшим членом Верховного суда БССР. Он рассматривал кассационную жалобу Адамова. Здорово обижался на тебя, погорели многие... Так что в Минске дали бы гораздо больше. Отомстили бы. Им под горячую руку лучше не попадаться...
Чем дольше слушал рваный монолог Данилова, тем больше недоумевал и возмущался. Я не согласен с приговором, собираюсь бороться за его отмену, а адвокат, взявшийся отстаивать мои интересы, утверждает, что мне повезло. И проводит какие-то абсурдные параллели с Верховным судом Белоруссии.. «Цирк на дроте»,— пришла на память школьная поговорка.
— Извините, Николай Васильевич. У меня на этот счет другое мнение. В Минске не растянули бы суд на полгода. И не смотрели бы на Прошкина, как кролики на удава. А Кабанов вертел хвостом, искал подпорки аж пятьдесят дней, пока приговор состряпал... Надергал из свидетельских показаний каких-то обрывков, свалил в кучу... Слушать стыдно было...
Данилов, видимо, не ожидал от меня такой реакции, стушевался, торопливо затягивался едким дымом. «Знает же, что не курю, что легкие в этой сырости ослабли, а все равно дымит...» Неприязнь к защитнику росла, но я постарался подавить ее. В подготовке жалоб он еще мог быть полезным, и то хорошо...
Переждав мою вспышку, он уже более деловым тоном предложил:
— Первую жалобу направляем в Москву, в Верховный суд СССР. Напишешь ты сам, а я посмотрю, какие статьи за уши притянуты...— Он зашелестел своими бумагами, но ничего конкретного в них отыскать не смог. Показания свидетелей он не записывал, доказательства не помнил, в эпизодах путался. Так что анализ, по сути, проводил я, а он лишь изредка вставлял слово-два.
— Да, аргументы у Кабанова слабоваты,— удивленно произнес Данилов, будто впервые узнал об этом.— Надо только, чтобы ты заострил на этом внимание, преподнес, как положено. Обдумай, сформулируй...
«А ты тогда зачем, для мебели?.. Деньги только получать?» — чуть не сорвалось у меня с языка, но пришлось снова сдержаться. Мне нужен был собеседник, даже оппонент, чтобы мои контрдоводы в споре с Кабановым выглядели убедительными.
— Вы же работали судьей, Николай Васильевич. И знаете, что всякое сомнение должно трактоваться в пользу подсудимого. Ведь так?.. И если в обвинении есть натяжки, мало доказательств или они шаткие, эпизод надо исключать?.. Я правильно говорю?..
— В общем-то, да...
— Почему лишь «в общем-то»?..
— Ты не хуже меня знаешь, как на Кабанова давили. Хотя, говорят, у них теперь между усобица началась...— Данилов опять не сказал ничего конкретного. Он вроде бы и поддерживал мою точку зрения, и завуалированно оспаривал ее. А если попросту — отлынивал от работы, считая, видимо, что для него процесс уже закончился.
— Случайно узнал, что завтра Прошкин приехать должен,— вдруг «одарил» новостью адвокат.— К Кабанову собирается...
— Ему-то что здесь нужно?.. Спасибо хочет сказать, что уголовное дело против него не возбудили? Поблагодарить, что сухим из воды вышел?.. Вот кто настоящие подельники, так эта пара гнедых... В одной упряжке трудились, в одной конюшне родились.
Защитник испуганно огляделся по сторонам, хотя контролера в комнате на сей раз не было.
— Да не бойтесь вы правды, пусть они нас боятся!— возмутился я.— У них рыльце в пуху, ведь не последние же дураки, понимают...
— Тут я с тобою согласен. Нужно было закрыть «Витебское дело»... Шум-то большой подняли, на всех перекрестках раззвонили... А когда поняли, что «процесс века» срывается, решили хоть на ком-нибудь отыграться... Под горячую руку вы попали — ты с друзьями. Надо же и прессе «виновных» представить, и перед высшим начальством отчитаться...— В Данилове, видимо, пробудилась совесть, и он впервые открыто поддержал меня.
— Но мне от такой логики не легче, а наоборот — злость берет!— сорвался я почти на крик.— Быть пешкой в чьей-то игре мне совсем не хочется. И козлом отпущения — тем более! Идти на зону и знать, что ты ни в чем не виноват, что какие-то гады на твоей беде карьеру делают!.. С ума сойти можно!
— Успокойся. Теперь времена меняются, не так просто человека ни за что за проволоку загнать. У нас же есть в запасе варианты: и Верховный суд СССР, и Президиум Верховного Совета Союза; Горбачев, наконец...
— До Бога далеко, а Прошкин в Ригу наладился, если уже не здесь,— истратив за бесконечный день весь запас энергии, я обреченно вздохнул.— Как пробить эту глухую стену?!
— Соберись с духом. Я тебе помогу, даю слово.— Данилов даже встал со стула, будто произносил клятву на Конституции. Но глаза его оставались безразличными, я не увидел в них искреннего участия. Но выхода у меня не было, коней на переправе не меняют. И я, мало надеясь на его поддержку и помощь, все-таки попросил:
— Николай Васильевич, вы жену поддержите, трудно ей очень. Сегодня увидел, сердце захолонуло. Сдала совсем... Успокойте, обнадежьте... Пусть верит, что все окончится благополучно.
— Вот с кем тебе повезло, так это с Людмилой. Надежный человек, настойчивый... А за тебя сражается, что диву даешься... Никому покоя не дает, верит в тебя беспредельно... Счастливый ты все-таки человек... Убеждает меня, что летом в Крым вместе поедете... Все вы втроем — ты, она и дочь... Завидую я тебе... А у меня не получилось, развелся под старость,— совсем некстати дополнил он. И поняв, что сморозил глупость — только мне, в моем положении, и напоминать о разводе, смутился неожиданно: — Это я от зависти, пойми правильно... Семья — это великое дело, если в ней согласие...
Достав новую папиросу, повертел ее в пальцах, размял, затем сунул назад в пачку.
— Будем прощаться, Валерий. Хочу сегодня уехать... Правда, билета еще не брал, но какой-то ночной поезд есть...— Увидев, что я поскучнел, попытался оправдаться: — Я в Минске попробую кое-какие каналы найти, на нужных людей выйти... Будем бороться.
Последнюю фразу он произнес с наигранной бодростью, но веры и надежды мне не добавил. Нажав кнопку вызова контролера, адвокат собрал свои бумаги.
— Главное — не сдаваться! Знай, что о тебе думают, что за тебя хлопочут... Держись! Может, скоро увидимся... А в крайнем случае — на зоне легче, чем в СИЗО,— совсем уж невпопад проговорил Данилов. Тут же спохватился, протянул руку, крепко сжал ладонь.— Есть примета: чтобы не сглазить, надо говорить противоположное... Будь мужчиной!
— Привет всем передавайте. Семью поддержите.— Это была моя последняя просьба. Дверь комнаты для свиданий распахнулась, и сутулая фигура Данилова скрылась в коридоре...
...И вновь, как и в первые дни после ареста, полное одиночество. И снова следственный изолятор, и снова в здании КГБ. Какая разница, что полтора года назад это было белорусское ведомство, а сейчас — латвийское. Сбылось самое страшное, о чем я запрещал себе думать, что гнал даже из мучительных снов... Суд признал меня виновным... И где взять силы, чтобы окончательно не пасть духом, не смириться с несправедливостью. Кто, кроме жены, протянет руку помощи; у кого хватит мужества не отказаться от осужденного; когда блеснет луч надежды?.. Как устоять под неимоверной тяжестью, что давит, гнетет, парализует волю?.. Боже праведный, будь милостивым, помоги остаться человеком!..
...1 мая 1988 года. Прошло двадцать дней, как суд вынес свой жестокий вердикт, но у меня на руках еще нет ни протоколов процесса, ни самого приговора. Опять неизвестность, опять сомнения... И те же мрачные стены изолятора, та же баланда, тот же недремлющий глазок в двери камеры. И —одиночество, полное, глухое, сводящее с ума. Поместив в одиночку, начальство СИЗО обезопасило и меня, и себя. Меня — от сокамерников-уголовников, которые после завершения суда, конечно же без труда опознали бы во мне «героя» шумного процесса, мента... Есть у моих тюремщиков и свой интерес: произойди какое-либо ЧП, и вся вина за его последствия ляжет на администрацию изолятора... Вот и гнию я в каменном мешке, лишь изредка видя живые лица, да и то опостылевших надзирателей.
А на воле уже бушует весна. Капризная, переменчивая, как обычно бывает в Прибалтике, но — весна. Сквозь мутное стекло пробиваются солнечные лучи, днем камера разлиновывается странными геометрическими фигурами — это проецируется на пол решетка, которой забрано окно. И возникает ощущение, что я нахожусь в клетке... Еще более усиливается это впечатление во время прогулки. Толстая металлическая сетка, накрывающая прогулочный дворик, не оставляет даже малейших иллюзий на призрачную свободу... Холодный камень, решетки, железные двери, амбарные замки, сторожевые собаки, молчаливые контролеры...
Первого мая обостренный слух уже с утра уловил музыку. И сразу же вспомнилась Пасха, 10 апреля. Тогда нас с Кирпиченком разбудил звон колоколов. Назавтра нам должны были объявить приговор, и мы посчитали малиновый перезвон добрым предзнаменованием. Для Валерия так и оказалось, меня же счастливая доля обошла стороной...
И вот снова музыка — бравурная, маршевая. Столица Латвии еще живет по советским законам, демонстрирует свою солидарность с пролетариями всех стран... За многие километры от этого чужого мне города готовятся отметить праздник друзья, знакомые... Только в моей семье уныние и печаль. Дочь не сможет пойти на утренник с папой, жена не пригласит, как раньше, гостей; будет тихо плакать мать, скрывая горе от соседей... А мне, причине их бед, остается метаться в отчаянии по камере, проклиная судьбу и своих мучителей...
Чтобы как-то разрядиться, дать выход накопившемуся в душе, решил написать письмо домой, в деревню. Маме, я понимал, доводится труднее всех нас. К концу жизни узнать, что сын, которым она гордилась, осужден, находится в тюрьме... Как это перенести, что сказать односельчанам, которые в своей наивной прямолинейности судят однозначно: «Раз посадили, значит, есть за что...» Тщательно подбирая слова, обдумывая каждую фразу, попытался просто и доходчиво объяснить свое положение, поселить в измученном материнском сердце надежду:
«Дорогие мои мама и Дмитрий! Извините за вынужденное молчание. Причину его вы знаете: перешел кое-кому дорогу, кое-кто хочет укрыться за моей спиной. Да и сам я, не скрою, ошибался. Но все это позади. Туман вохруг меня рассеивается, и я полагаю, что скоро буду дома. Никакие наговоры, никакая ложь ко мне не пристанут; никто не сможет меня сломить. Я такой же упорный, настойчивый, крепкий духом, как и отец. Ни перед кем не унижался, не стоял на коленях. Таким и останусь навсегда...»
Называть какие-либо фамилии, детали я не мог — тюремная цензура все равно не пропустила бы их, да и не нужны они были маме. Мне хотелось, чтобы она ощутила мою уверенность, почувствовала, что я такой же, как и прежде — спокойный, знающий себе цену, умеющий постоять за себя. И если письмо передаст хоть частицу этого оптимизма, пусть и наигранного, если оно принесет в дом пусть немного покоя, мне будет легче здесь, в заточении...
«...Жизнь более-менее наладилась.^На здоровье не жалуюсь. Питаюсь хорошо. Сплю, сколько хочу. Если есть желание, работаю... А скоро вообще все станет на свои места. Так что не переживайте и не беспокойтесь. Все плохое пройдет, и я вернусь к вам, таким, как был...»
Эта невинная ложь вряд ли могла обмануть маму, она прекрасно помнила, каким вернулся после советского концлагеря отец. К несчастью, была в его биографии такая черная страница. Солдат Илларион Сороко попадал в плен, бежал, возвращался в строй. А когда пришла Победа, отправили его не домой, а за колючую проволоку. «Советские в плен на сдаются...» А матери в том же 1945-м прислали похоронку, а затем, после запросов, уведомление, что могила отца где-то под неведомым хутором в Латвии. Это была уже вторая жизнь, которую отняла у мамы война. Во время оккупации сгорела заживо маленькая дочь — фашисты выгнали взрослых на работу, и в хате осталось двое детей. Старшая дочь, Зина, смогла выскочить из горящей хаты, а младшенькая так и погибла в огне. И вот еще непоправимый удар — смерть кормильца, мужа. Думала, что не вынесет горя; жизнь потеряла смысл. Но вдруг оглушительная радость: муж жив!.. Два года мыкался он по лагерям, расплачиваясь неведомо за что... Отец никогда не вспоминал о том страшном времени... Даже после того, как вызвали его в военкомат и вручили медаль «За отвагу»... И вот теперь роковое совпадение: на той же латвийской земле суд хочет похоронить мое доброе имя... И где найти слова, чтобы успокоить старого человека, как убедить, что приговор — сплошная ложь, что ему, как и военной похоронке, не надо верить...
«...Мама, родная,— старательно, как школьник, выводил я на тетрадном листе большие буквы,— переезжай навсегда к нам с Людой. Она прекрасный человек, поверь мне. Все у нас будет хорошо...»
Написал несколько строк и остановился... Все обещаю, все в будущем. А кто ей, немощной, помогает сейчас, сию минуту. На дворе май — надо и огород вскопать, и гряды сделать. Брат Дима постоянно в разъездах, на него надежды мало. Раньше я всегда старался в такие весенние дни взять командировку в Витебск, чтобы в субботу и воскресенье навестить маму, помочь управиться с хозяйством. Вдвоем с братом быстро наводили порядок, старательно выполняли все мамины указания, добродушно отшучивались в ответ на ее незлобивое ворчанье. Как много я дал бы, чтобы хоть на полчаса очутиться на родном дворе, вдохнуть терпкий запах земли, а главное — обнять родные мамины плечи, почувствовать прикосновение ее мозолистых ладоней на своих щеках... Господи, сбудется ли это когда-нибудь?..
«...Дима, брат мой, береги маму. Когда она рядом, мы как-то не замечаем ее доброту, порой можем обидеть нечаянно. Теперь, на расстоянии, после долгой разлуки, я понимаю, как мало для нее сделал, каким невнимательным был иногда из-за вечной спешки, из-за своей нетерпеливости. А ведь ей бывает достаточно одного доброго слова, одного вечера, проведенного рядом. Теперь, когда по злому случаю я доставил ей столько горя, постарайся облегчить ее жизнь, будь добрее. Ей ведь не на кого больше опереться... Впрочем, наверное, я зря тебя прошу — ты и сам все это понимаешь не хуже меня. Просто мне хочется, чтобы у нас дома было все хорошо, чтобы мама видела и чувствоваіа, что вырастила хороших сыновей, чтобы не стыдилась за нас. Свою правоту мне еще придется доказывать, а ты рядом, ты всегда можешь подставить ей свое крепкое плечо...
Напиши, где и кем сейчас работаешь? По-прежнему в райпотребсоюзе?.. Может, женился наконец?.. Давно пора, брат... Я сейчас особенно хорошо понимаю, как мне повезло, что у меня есть Люда и Инночка... Каждый день их вспоминаю, как и вас... И легче становится, смысл жизни вижу.
Что нового в деревне, как знакомые, соседи? Управились ли с огородом?.. Что посадили?.. Цел ли наш сад?.. Ты, кажется, собирался его вырубить?.. Не надо, прошу тебя. Это же такое богатство. Как приходит весна, так и вижу его цветущим... А осенью яблок хочется домашних, прямо вкус их ощущаю...
Сразу после суда было у меня свидание с Людой. Рассказывала, что ты приезжал к нам в гости. Спасибо, брат; ей и дочке сейчас очень нужна поддержка. К тому же не забывай, что Инночка — твоя единственная племянница, ты ей почти как я. Она тебя любит, я знаю. Так что еще раз прошу: держитесь вместе. А вернусь — будем жить не хуже, чем раньше. Даже лучше. Я верю в это. Верьте и вы... Ваш сын и брат Валерий.»
Не заклеивая конверт, стал ожидать прихода контролера. А тот нежданно-негаданно обрадовал — принес письмо от жены. Это была первая весточка с воли после суда, первая радость за двадцать томительных дней... Нетерпеливо развернул сложенные страницы, и тут из них выпал небольшой листок... Неровные буквы составили короткую фразу: «Дорогой папочка». Впервые за тридцать шесть лет я прочитал такие слова, обращенные ко мне... Писала моя дочь, моя
Инночка... Уже в который раз зашлось сердце, глаза застлали слезы... Даже видавший виды охранник смущенно отвернулся, пробормотал, что заберет мое письмо позже, и вышел... Бережно, чуть дотрагиваясь пальцами, держал я невесомый листок из детской тетради, и не было в мире большей драгоценности... И отцовская гордость, и умиление, и щемящая жалость, и отчаяние, и безысходность, и внутренний протест — все сплелось в один горячий ком, который жег грудь; жар этот разливался по всему телу, пульсировал в каждой жилке, наполнял голову.
Несколько коротких слов перечитал добрый десяток раз; смотрел на неуклюжие пока буквы и представлял, как, прикусив от усердия кончик языка, водит карандашом по бумаге мое ясноглазое сокровище, как наклонился над ним дорогой человек — жена. Даже увидел, как Инночка сердится: «... Мама, не мешай, я сама!..»
«Проклятая тюрьма!.. Дочь научилась читать и писать — и это без меня; в этом году в первый класс пойдет — и я не смогу отвести ее в школу... Когда же кончится этот кошмар, за какие грехи мне такое наказание, есть ли в этом мире справедливость?..»
Выучив наизусть письмо дочки, принялся читать Людмилино. И в тысячный раз поблагодарил судьбу... Не каждому дано найти самые нужные слова; редкие люди могут взять на свои плечи непомерные тяготы, единицы не бросают в беде... Я прекрасно понимал, что причинил семье, а больше всего — Людмиле, боль, что из-за меня она терпит лишения, что именно мною разрушен тот гармоничный мир, который она старалась создать. А злые языки, сплетни, слухи, домыслы, мелкие уколы и открытое недоброжелательство?.. Волна благодарности захлестнула меня, и вновь, уже не стыдясь, я дал волю счастливым слезам... Пусть будет благословенно имя твое, Людмила!..
Еще во власти впечатлений от вестей из Минска дополнил письмо маме и брату. Поделился радостью, повторно попросил Дмитрия чаще бывать у жены и дочери. Вспомнил о добром и справедливом отце, быть похожим на которого я всегда стремился. И закончил на оптимистической ноте: «Ждите, я скоро вернусь. Жизнь продолжается.»
Пожалуй, впервые за долгие месяцы на меня снизошла какая-то благость. Лежа на койке, не ощущал жестких металлических пластин, пропало удушье, не раздражала бессонная электролампочка под потолком, не мешал лай собак за окном, безразличен был недремлющий глазок в двери... Что эти временные тяготы, когда у меня есть мама, брат, сестра, жена, дочь, друзья?.. Да пусть пойдут прахом все эти прошкины, кабановы, адамовы!.. Много чести думать и даже вспоминать о них в такой праздничный день!..
Добрые вести из дома явились своеобразным допингом и для моей измученной души, и — даже — для истощенного организма. Мне удалось справиться с апатией, вновь заставить себя делать ежедневную зарядку, через силу, но съедать тюремный паек. И уже третьего мая я убрал камеру, перетряхнул постель, вымел из-под шконки, старательно вымыл пол, протер стены. Затем (правда, с меньшей охотой) «поработал ассенизатором» — прибрал общий туалет, куда меня выводили дважды в день, поскольку в моей обители этого коммунального удобства не было. Делил я санузел с таким же несчастным узником, занимавшим соседнюю камеру. В ночной тишине я слышал его шаги за стеной, глухое покашливание; знал, когда его ведут в отхожее место и на прогулку. Но он так и остался «графом Монте- Кристо», таинственным незнакомцем, нажившим, видимо, в сырых стенах чахотку. И если ему когда-нибудь попадет в руки эта книга, пусть знает, что сосед помнит его, что, сам не зная того, он скрашивал мое одиночество...
Редко, но удавалось поговорить с контролером, выводившим на прогулку. Служебная инструкция категорически запрещала охране любые контакты с заключенными, однако нет правил без исключения. В послепраздничный день, третьего мая, я спровоцировал своего конвоира:
— Скажите, листья на деревьях появились?
То ли мой бесхитростный вопрос обескуражил старшину, то ли он провел праздник за городом и еще не успел «влезть в шкуру» пушкаря, ответ последовал незамедлительно:
— Зелень только-только проклевывается. Весна поздняя, холодная. Еще день назад снег шел, вы же видели, наверное...
— Что сквозь решетку увидишь...
— Вот на прогулке и подышите, и под солнцем побудете... У нас в Прибалтике часто так бывает: вчера — снег, сегодня — солнце... Я смотрел на термометр — 25 градусов тепла...
Неожиданная разговорчивость контролера обрадовала меня, и я заторопился выложить ему наболевшее, хотя понимал, что ничем он не поможет:
— Скоро месяц, как суд окончился, а приговора я еще не видел. Сижу в каком-то вакууме. Ни души живой вокруг, ни одного ответа на жалобы... А еще ведут разговоры о перестройке, о социализме с человеческим лицом... Я где-то вычитал сравнение: при свежем ветре макушки деревьев шумят, колышутся, а внизу по-прежнему все тихо и спокойно... Вот так и здесь...
Ответа на свои рассуждения я не получил. Охранник, видимо, спохватился, что и так дозволил себе и мне лишнее, переступил запретную черту... Но перед уходом в камеру я все-таки услышал от него короткое:
— Перезимовал — значит, жить будешь.
«И на том спасибо,— с благодарностью подумал я.— Перекинулся словом — другим — и полегчало...»
После обеда в камеру пожаловали визитеры — начальник изолятора и врач, молодая женщина.
— Как дела?— по-хозяйски оглядев камеру, спросил шеф СИЗО.
— Могли быть лучше...
На мою реплику врач еле заметно улыбнулась, а хозяин недовольно поморщился, затем нашел к чему придраться:
— Почему у вас столько сухарей? Кто разрешил?..
— У меня с желудком плохо. Только эти кусочки батонов и спасают,— я встал на защиту своих запасов, лежавших на полке.— Живот пучит от каши да от спецхлсба. Не помирать же с голоду...
— Не положено. Зайдет прокурор по надзору, что ему ответить?.. Убрать на кухню,— приказал он дежурному по этажу.
— Хотя бы пару кусочков оставьте, гражданин начальник,— взмолился я.— Или пусть с кухни мне выдают по чуть-чуть... Помилосердствуйте...
— Ладно. Оставьте две пайки...
— Черный хлеб ничем не хуже,— вдруг вставила свои «два гроша» врач.— Это выдумка диетологов, что он вреден при язвах и гастритах...
Не успел я переварить медицинскую «новинку», как услышал еще одно замечание от врача:
— Окно в камере грязное. Надо поддерживать чистоту, не в хлеву живете...
— Там не простое, а оргстекло,— зачем-то соврал начальник.— Отмыть его нельзя...
На этом странный обход закончился, но не прошло и часа, как появились новые гости — два незнакомых контролера. Старший из них распорядился:
— Станьте лицом к стене; руки на стену!
Процедура ожидалась знакомая и до отвращения унизительная — начинался обыск. Он проводился регулярно два раза в месяц; это был, выражаясь тюремным языком, всеобщий шмон.
— На прошлой неделе обыскивали,— попытался я протестовать.— Откуда у меня что появится?.. Один сижу...
— Инструкция,— не стал распространяться старший.
Оставив меня в идиотской позе, охранники принялись тщательно простукивать стены, проверять все складки постели, перетряхивать одежду. Затем более грамотный перечитал все мои записи, а его помощник осмотрел помойное ведро, даже перевернул его днищем вверх, прощупал половую тряпку. Дошла очередь и до меня. Правда, раздеваться не пришлось, но напрактикованные руки пушкаря размяли каждый шов брюк и рубашки, забрались в карманы... Благо, что у меня на голове не очень много волос, а то бы и прическу обшмонали... Поживы не оказалось, и стражи порядка удалились восвояси.
Месяц май, как известно, один из самых богатых на «красные» даты календаря. В самом начале — День международной солидарности, 5 мая — День печати и день рождения Карла Маркса, 7 мая — День радио, 9 мая — самый главный праздник — День Победы. Что пришлось вынести ради этого светлого дня моему отцу, я уже рассказывал; маму мою расстреливали фашисты; сестра, которую я не видел ни разу, сгорела заживо... «Праздник со слезами на глазах» — поэт сказал, по-моему, очень точно. И вот я второй раз встречаю эту светлую и печальную дату в заточении, на этот раз — в Риге. Проснувшись по обычаю еще до побудки, прислушался. В открытую форточку долетали первые слова утреннего города: о чем-то заспорили драчливые воробьи, несмело подал сигнал автомобиль, прошумел по пустым улицам ранний троллейбус... Затем отдельные звуки слились в обычный ровный шум большого города, а я недоуменно ожидал привычную медь оркестров... Принесли штатный завтрак — миску опротивевшей каши и кружку подслащенной воды... С трудом дождался прогулки.
— Разве сегодня не 9 мая? Может, я сбился со счета?— спросил у знакомого контролера.
Тот пожал плечами.
— Переворот какой-нибудь?.. Траур?..
В ответ ни слова.
— Понятно!— вдруг осенило меня.— Это для нас, белорусов, всех славян сегодня праздник. А большинству местной публики радоваться нечему. И с немцами сотрудничали, и с советской властью до сих пор примириться не могут...
Контролер лишь улыбался, слушая мои рассуждения, но поддержать разговор не решился. И по службе не положено, и тема довольно опасная. Что ж, его понять можно, он как- то обмолвился, что ему до пенсии немного осталось... Так что правильно, держи язык за зубами, служивый!..
Но я все-таки отметил событие — отжался от земли рекордное количество раз, сделал длительную пробежку, мысленно сам себе передавая эстафетную палочку. (Вспомнил, что в Москве ежегодно проводится праздничная эстафета.) Силы мои, правда, иссякли, и я прислонился к стене, как когда-то с Кирпиченком, и отрешенно смотрел в ярко-голубое небо. «Домой бы попасть, на минские улицы... Шум, веселье, музыка, друзья... В руке — ладошка дочери, рядом жена... И небо чистое, привольное, без решетки.»
— Вернись на землю, казак. Пора домой идти,— вернул меня к действительности конвоир.
— Домой я хоть сейчас, только вот вы не пускаете. И стены эти вековые...
— Ничего, скоро будешь обнимать жену.
— Пошли!— Я не хотел бередить себе душу, исповедоваться перед старым служакой. Автоматически заложив руки за спину, опустив голову, побрел в камеру...
«Что ж, пока праздники не для меня. Но они у меня еще обязательно будут. Главное — не раскисать, не сдаваться... В конце концов, четыре года — это не смертельно. Можно считать, полсрока уже отбыл, пока числился за следствием и судом. Если не сработают жалобы, придется коптить небо на зоне... Но останется надежда на досрочное освобождение. Надо повкалывать, как надо, показать себя с лучшей стороны... Не дистрофик же я пока... Да и голова хуже работать не стала... А там, смотришь, ходатайство от администрации: «Сороко В. И. достоин досрочного освобождения...» Еще не вечер, Валерий Илларионович. Бери пример с отца: он в худших условиях, при Сталине и Берии, не сдался, а тут какой-то Прошкин... Надо доказать ему и его дружкам, что рано они меня похоронили, не на того напали...»
Отсутствием самоуверенности я никогда не страдал, воли мне не занимать, видимо, сказывались отцовские гены; к тому же меня никогда не покидала надежда на счастливый случай. Пусть Фортуна отвернулась от меня сейчас — система безжалостно высекла меня, выставила к позороному столбу. Но она сама агонизирует, занимается самопожира- нием. Я в этом убедился на своем собственном горьком опыте — некоторые коллеги отвернулись от меня, иные решились на оговор, кое-кто попробовал сделать на нашей беде карьеру... Но закон и ложь — понятия не совместимые, правда рано или поздно пробьет себе дорогу. И Фемида обретет свое истинное лицо.
Настроив себя на боевой и деловой лад, сел за стол, взял ручку и бумагу. «В Верховный суд Латвийской ССР. Пишу третье заявление об одном и том же. Прошу ознакомить меня с протоколом судебного заседания и предоставить копию приговора для его обжалования. Прошел месяц, как я незаконно осужден, но ни одного документа у меня на руках нет. Кто виновен в этой волоките?
Я уже девятнадцать месяцев нахожусь в следственных изоляторах, из них девять — по вине Верховного суда Латвии. Вдумайтесь в эти страшные цифры! Вынужден констатировать, что в латвийском суде царят бюрократизм, косность, полное безразличие к судьбам людей.
Ошибаются те, кто надеется, что в камерах изолятора я ослабну духом или превращусь в психически ненормального человека. Я не намерен сдаваться и уже заявлял судье Кабанову, что поезд, у которого локомотивом является правда, остановить нельзя...
...Требую прекратить издевательство надо мною. Подозреваю, что суд беспардонно подгоняет протоколы заседаний под явно пристрастный приговор. Нельзя именем Закона творить беззаконие.»
В других условиях я, вероятно, вряд ли решился бы на столь резкий и даже вызывающий тон. Но мне уже, как говорят, детей с Кабановым крестить не придется. И пора называть вещи своими именами, самое время дать понять, что высосанный из пальца приговор не только абсурден, но профессионально беспомощен... Реакция была неожиданно оперативной. Пришло извещение, что жалоба, посланная мною в Москву, и приговор находятся у Председателя Верховного суда Латвии. Он вправе (этого я, к стыду своему, не знал) отменить приговор, изменить его и даже опровергнуть. Новость, не скрою, настроила меня на мажорный лад. Я был убежден, что любой квалифицированный и, главное, беспристрастный юрист сразу увидит все прорехи в состряпанном Кабановым приговоре. Лишь бы, повторю, этот юрист оказался честным...
Не теряя времени, взялся за составление обширной жалобы на имя председателя Верховного суда Латвии, от которого теперь во многом зависела моя судьба. «Прошу внимательно изучить представленные мною в письменном виде доказательства моей невиновности. Они приобщены к протоколу судебного заседания, но умышленно проигнорированы судом.
Особо прошу обратить внимание на эпизоды, вмененные мне в вину, но исключающие друг друга. Я осужден по ст. 174 ч. 1 и ч. 2 за незаконное задержание и арест О. Адамова.
Но тут же в приговоре судья Кабанов констатирует, что я был уверен в виновности Адамова и поэтому привлек его к уголовной ответственности за убийство. Где же логика? Почему я не должен был задерживать и арестовывать подозреваемого в совершении тяжкого преступления? В чем заключается мой злой умысел? В выполнении служебного долга?
К тому же, как видно из материалов судебного заседания, даже само постановление об аресте Адамова выносил не я, а следователь Журба... Это документально подтверждено...
Не выдерживает никакой критики и обвинение меня по ст. 175 ч. 2. Если четверо свидетелей утверждают, что никакого воздействия на Адамова я не оказывал, а только один человек — сам Адамов — говорит обратное, то разве можно базировать обвинение на голословных показаниях потерпевшего?..»
Столь же подробно и, на мой взгляд, убедительно я попытался доказать председателю Верховного суда Латвии, что приговор сфабрикован с одной лишь целью: вывести из- под удара следственную группу прокуратуры СССР, которая за долгие месяцы работы так и не смогла доказать мою вину и вину моих подельников. А за чужие грехи приходится расплачиваться нам, невиновным, и, в первую очередь, мне.
Не забыл я упомянуть и о неблаговидной роли следователя по особо важным делам прокуратуры БССР В. Борисова... «Суд обвинил меня в карьеризме. На чем основывается эта дикая ложь? На одной-единственной ссылке на показания Борисова, который, замечу, входил в состав следственной группы по нашему делу. В то же время суд полностью игнорировал характеристики, выданные мне, оставил без внимания показания моих коллег и руководителей. Неужели закон не в силах противостоять грубому нажиму прокуратуры СССР?
И уж совсем из области абсурда: как отрицательная черта в приговоре упоминается мое самолюбие. Извините за литературный пример, но еще великий писатель И. Тургенев утверждал, что «человек без самолюбия ничтожен». И я
полностью с ним солидарен. Неужели я должен превратиться в ничтожество, чтобы быть оправданным судом?!.
Прошу приговор отменить, меня оправдать и незамедлительно освободить из-под стражи.»
Я уже говорил, что во мне постоянно жила надежда на счастливый случай. Причем под случаем я понимал не какое-нибудь невероятное стечение обстоятельств, а тот момент, когда после упорного труда выпадает большая удача. Как, скажем, у золотоискателей, которые изо дня в день промывают песок и вдруг находят самородок. Такая вот невероятная удача пришла вскоре и ко мне. Однажды во внеурочное время сказали одеться поприличнее. Я начал теряться в догадках: «Какие-либо проверяющие?.. Кто-нибудь расследует жалобы?.. Снова корреспонденты за сенсацией явились?..» В тревоге и недоумении осторожно приоткрыл дверь в комнату для свиданий. И... увидел свою удачу — Людмилу. Наверное, у меня был настолько ошеломленный вид, что жена несколько раз повторила:
— Это я, Валера! Я приехала! Здравствуй, родной!
Дар речи я обрел не скоро. Глядел и не мог наглядеться на родное лицо, никак не мог поверить в нежданную радость.
— Как удалось? Ведь свидание осужденным дается только после половины срока и то далеко не всегда...
— Очень хотела тебя видеть... А ты разве нет?— Увидев в моих глазах возмущение, Люда принялась объяснять: — Ты ведь знаешь, здесь есть знакомая, Ира. Она с маленьким ребенком пошла в суд, сказала, что твоя жена. Ее направили к председателю Верховного суда, и он дал разрешение. Правда, переспросил, правда ли, что она твоя жена, то есть я... Поверил...— (Вот пусть теперь мне кто возразит, что счастливые случаи нельзя создавать самим. Получив письмо от Люды и Инночки, я перечитывал его ежедневно, мечтал о встрече. А Люда смогла реализовать эту мечту, использовав счастливый случай.)
Радостно-возбужденные, мы долго не могли нащупать нить разговора, а времени у нас было в обрез — всего лишь час. Помог спуститься на землю контролер:
— Прошло пятнадцать минут...
Людмила начала выкладывать важные новости:
— Звонили Буньков и Волженков. Вроде бы Прошкин собирается опротестовать приговор. Но они предупредили, что подготовили жалобы на его необъективность. И кто выиграет, еще неясно... Только Журба в кусты подался, не хочет высовываться...
— С ним все ясно. Впрочем, и те двое первыми удар по Прошкину не нанесут. Рады, что вырвались домой, а какой ценой — это уж пятое дело. Оставили меня один на один с этой махиной... Сражайся, Валерий Илларионович, ты у нас боец... Да ладно, Бог им судья...
Видя, что я начинаю заводиться, жена успокоила:
— Верховный суд разберется.
— Ты у меня скоро профессором юриспруденции станешь... Но, к сожалению, на Москву надежды мало. Они переслали мою жалобу председателю Верховного суда Латвии. Чего им грех на себя брать: станут на мою сторону — испортят отношения с прокуратурой, поддержат Прошкина — честь мундира потеряют, ведь понимают, что приговор липовый. Вот и умыли руки, и реноме сохранили.
— И мою жалобу прокуратура Союза сюда в суд переслала...
— Одним мирром все они мазаны. Кому до меня дело...
— Не опускай руки. Скажи конкретно, по каким пунктам тебя обвиняют; какие статьи? Я с адвокатом основательную жалобу напишу, по полочкам все разложим...
— Он же в суде был, записывал все. А потом на свидании все обговорили...
— Ты же знаешь, какой от него прок. Если возьму чуть ли не за горло, тогда начинает шевелиться. А так — пустое место. Одно только — с подсказки жалобу написать может. А своей инициативы — ни на грош...
— Да, попался нам помощничек, чтоб ему пусто. Ни чести, ни совести...
— Может, не стоит говорить...— Людмила замялась, но потом решилась: — Заходит иногда, вроде по делам. Я, конечно, угощаю, он любит за столом посидеть. Так в последнее время собутыльников приводить стал... А что я, миллионерша?..
— Давай не будем о нем.
— Согласна...— Она вздохнула, поправила на коленях сумку и всполошилась: — Я же тебе .передачу принесла...
— Мне пока нельзя. Не положено. Срок не пришел.
Жена попыталась уговорить контролера, но тот был неумолим. Разрешил лишь покормить меня прямо в комнате для свиданий на его глазах. Люда достала свертки и сверточки, но я лишь отломил кусок колбасы и начал медленно жевать. Насытился быстро — желудок отвык от настоящей еды, и я почувствовал непривычную тяжесть. Жена все поняла, в уголках глаз показались слезинки.
— Все нормально, Люда. Вернусь, поправлюсь. Уж недолго ждать...
— Свидание заканчивается.— Контролер строго следил за временем, нарушать инструкции он боялся. Это был все тот же охранник, который готовился к выходу на пенсию.
Как в начале, так и в конце свидания мы заговорили о незначительных мелочах, жадно смотрели друг на друга, предвидя долгую разлуку. Неожиданно Люда вспомнила:
— Ко мне на работу приходил юноша... Сергеем его зовут. Вы вместе в Минске в камере сидели...
«Лопоухий,— вспомнил я.— Молодец парнишка. Значит, исправился, не шастает больше по чужим балконам...»
— Он мне рассказал, что такое жизнь в камере...
— У меня корень крепкий, деревенский. Выдюжу. А вот вы с Инночкой берегите себя. Вам тоже нелегко, а я — мужик, справлюсь с бедой.
И снова на расставанье (сколько оно продлится?) горький поцелуй, последнее прикосновение дорогих рук, последний прощальный взгляд... И непереносимо трудная дорога в камеру. За решетку.
На свидании Людмила сказала, что они с Инночкой написали мне письма. То ли почта была нерасторопной, то ли цензура искала в них что-либо недозволенное, но писем пока не было. Ожидание их и составляло основную мою «рабо- іу» в камере-одиночке. Читать не хотелось, жалобы в основные инстанции — в Верховный суд СССР и председателю верховного суда Латвии — были отправлены. С побудки — с шести утра — и до отбоя в 22.00 я маялся от безделья. Вычислял квадратуру и кубатуру своего убогого жилища, добровольно, вне распорядка, проводил уборку; заставлял себя делать интенсивную зарядку, но шестнадцать часов от подъема до сна тянулись так долго, что казались вечностью. Человек по натуре деятельный, типичный холерик, я задыхался, задавленный ограниченным пространством и, главное, неизвестностью. Неожиданная встреча с женой была глотком живительной влаги и, простите за банальность, «лучом света в темном царстве». Знать, чувствовать, что ты не одинок, что в тебя продолжают верить, что тебя ждут — только ради этого стоило продолжать жить.
Наконец контролер отдал мне письма. И опять радость — одно из них от дочки, Инночки. Было оно к обычным — рисованным: на опушке зимнего леса стоял снеговик; на втором плане из-за густой ели выглядывала девочка — надо понимать, автор рисунка... Пушистая шапка, толстые рукавички, теплые сапожки, меховая шубка... Мороз разрумянил щеки, нос, опушил инеем ресницы... Подпись неровными детскими буквами: «Это я на прогулке»... В конверте был еще один подарок — цветная фотография Инночки. Широко распахнутыми голубыми глазами смотрела она в объектив, и этот чуть удивленный взгляд заставил сильнее забиться мое сердце, вызвал прилив давно не испытанной нежности... Аккуратно разгладив рисунок, приладил его над своей койкой. И мне показалось, что в камере сразу посветлело... Никакие картины Рафаэля или Боттичелли не могли сравниться с бесхитростным шедевром моей дочурки.. На него я смотрел перед сном, его искал глазами, просыпаясь... У меня появилось занятие: глядя на фотографию дочки, на ее рисунок, я долгими часами разговаривал с ней, учил выводить буквы в прописях, правильно держать шариковую ручку; вместе с нею делал утреннюю гимнастику, пробежку перед сном... Контролеры, регулярно заглядывающие в дверной глазок, наверное, удивлялись и даже беспокоились: не «сдвинулся» ли их клиент, не пора ли ему в психиатричку?.. Им трудно было понять, поверить, что нормальный человек в экстремальных условиях может продолжать жить нормальной жизнью. И что стимулом к возрож- дснию может послужить бесхитростный детский сюжетик и обычная фотография.
За первой удачей последовала новая. В середине обычной дневной проугкли меня неожиданно вернули в камеру. Еще не успев осмыслить причину, я вынужден был принимать высокого гостя — заместителя начальника СИЗО КГБ Латвии. Недобрая память сразу же подсказала аналогию: второй Прошкин — высокий, тучный, слоноподобный. Однако новость он сообщил если не приятную, то долгожданную: секретарь суда принесла протоколы процесса.
— Собирайтесь, пойдете знакомиться.
Заключенному собираться, что лысому стричься — я ежеминутно готов был к любым поворотам и тотчас вышел вслед за начальством в коридор. В комнате для свиданий, с которой были связаны самые приятные ассоциации, меня уже ждала высокая полнеющая блондинка — знакомая мне секретарь суда. Там же увидел и главного своего телохранителя — начальника изолятора, маленького, тощего и, как мне показалось, желчного полковника. Он явно проигрывал на фойе увядающей красавицы, и я, нарушая субординацию, обратился прямо к секретарю:
— Заждался я вас. Разве можно так мучать бедного мужчину...
Мой «светский» тон явно не понравился начальнику, он нахмурился, собираясь одернуть арестантика, но женщина опередила:
— Вот протоколы,— она достала из сумки два солидных тома. Застряв между ними, выглянул наружу и конверт, в котором я сразу узнал жалобу, направленную мною в Верховный суд СССР. Заметно смутившись, секретарь не знала, как исправить оплошность, но тут ей на помощь пришел полковник.
— Вы числитесь за Верховным судом Латвии, и поэтому пся ваша переписка идет через него...
— Да, ваши жалобы читает Каб...— Совсем растеряв- шись, секретарь чуть не назвала фамилию Кабанова. Но мне и так было понятно, что я попал в заколдованный круг: мои жалобы на необъективность суда проходят цензуру нреді едателя заседания. Абсурдно, но факт. История повторялась: во время следствия апеллировал к прокурору СССР, а попадали мои письма в руки Прошкина. Самозащита у системы была поставлена основательно, все концентрировалось в одних руках.
— Что же, судье полезно знать, что думает о нем осужденный,— небрежно проронил я.— Авось, совесть заговорит...
— Вы как читать будете?.. Сразу два тома?— невпопад спросила, пытаясь выбраться из щекотливого положения, гостья.
— Наверное, по одному,— столь же неудачно сострил я.
— Да, вы не меняетесь,— уколола секретарь.— На суде всем недовольны были и теперь...
— Я согласен читать в любых условиях,— пошел я на мировую.
— Сколько времени вам понадобится?.. У меня почерк неважный...
— Ничего, разберусь... А насчет срока?.. Неделю, наверное. Это — минимум.
— На такое время оригиналы я вам дать не могу,— всполошилась она.
— Я ждал вас дольше, больше месяца.
Секретарь нашла компромисс:
— Мы сделаем копию на ротапринте. Согласны?..
— Мне все равно. Лишь бы материалы были.— Такой вариант меня вполне устраивал: можно было без спешки проанализировать протоколы, выбрать из них необходимое для своей защиты и дальнейшей борьбы.
— Носитесь с ним, как с писаной торбой,— недовольно проговорил начальник СИЗО, но секретарь суда уже стояла у двери.
— Приговор по его делу я уже выслала. Завтра получите,— сообщила она на прощанье.
— Вот и хорошо. Как только получим, отправим вашего подопечного в СИЗО МВД...
Пожалуй, я не ошибся, определив хозяина как желчного человека. Наверное, тюрьма оставила свой отпечаток и на нем — вид у него был нездоровый, бугристое лицо имело землистый оттенок.
— Чем же я вам не показался?..— Я попытался наладить контакт.
— Как же: пишете, что кормили вас на 30 копеек в день, что внимания мало уделяем. Вернетесь в Рижский централ, там, может, получше примут... Жалобы перестанете сочинять.— Начальник говорил с явной издевкой, прекрасно понимая, что я совсем не стремлюсь в проклятую мною тюрьму.
— Поймите, я не на вас жалуюсь, а на несправедливость,— начал было я, но высокий шеф уже покинул комнату для свиданий.
Приговор принесли на удивление быстро — уже после обеда. Мне понадобилось добрых полчаса, чтобы собраться с духом и приступить к чтению страшного документа. Память хранила, конечно, основные пункты обвинения, статьи Уголовного кодекса, но увидеть все это на бумаге с официальными подписями и печатями... Начал читать. И — успокоился. Обоснование вины, ее аргументация были слабы, юридически беспомощны. Предвзятость даже после беглого знакомства прямо-таки лезла в глаза. И это давало шанс на продолжение борьбы. Не могут же более высокие инстанции не заметить явных натяжек, предвзятости, запрограммированности... Так что господа Прошкин и Кабанов рано празднуют победу. Посмотрим, кто — кого!..
Уснул далеко заполночь — мозг получил нагрузку, память выхватывала из своих закоулков детали свидетельских показаний, умышленно «забытых» судьей, перед глазами вставали формулировки статей Уголовного кодекса, под которые подгонял мою якобы вину Кабанов. Мне прямо-таки не терпелось взяться за перо, чтобы очередной жалобой ткнуть носом Кабанова в навороченное им дерьмо...
Решил поступить по пословице, что утро вечера мудренее, и сдержал рвавшиеся наружу, то есть на бумагу, эмоции. Но задуманное пришлось отложить на неопределенный срок. Начальник изолятора, как оказалось, слов на ветер не бросал: после завтрака поступила команда собираться на п ап — меня переводили в Рижский централ. Двое охранников устроили очередной «шмон» — тщательный обыск.
— Сижу один, как перст, живой души не вижу, откуда же у меня появится что-либо недозволенное?..
— За вами глаз да глаз нужен,— важно заметил молодой контролер.— Знаем мы ваши хитрики...
— Вам-то откуда знать?— подчеркнул я его возраст...
— Молодой, да ранний,— пошутил контролер постарше.— Службу несет исправно...
Ничего запрещенного не найдя, охранники ушли, а я, оставшись снова наедине, присел на табуретку и грустно обвел камеру глазами... Сколько раз я проклинал это убогое жилище арестанта, как ненавидел унылые стены, бессонную лампочку под потолком, всевидящий глазок в двери, решетку на окнах... А вот теперь мне не хотелось уходить отсюда. Если бы на волю — я летел бы птицей, но возвращаться в зловещую Централку, в царство беспредела, где каждая минута превращается в кошмар; и длится он круглые сутки... Такая перспектива меня не устраивала, однако кто спрашивает подневольного, кому болит голова о заключенном?.. Утешало лишь одно: это был пусть трудный — но шаг из тюрьмы. На зону, в лагерь — все равно под чистое небо, под солнце, ближе к людям...
...— Прощай, изолятор! Нош моей здесь больше не будет!— произнес я несколько патетически; сам устыдился такого «высокого штиля» и решительно покинул камеру...
И вот снова автозак, короткая дорога по рижским улицам, знакомый одноэтажный распределитель Централки. Молодой лейтенант просматривает сопроводительные документы, сочувственно говорит:
— Значит, подельники уже дома, а ты крайним оказался...
— Надеюсь, что после жалобы и меня отпустят...
Офицер молчит, но я вижу, что он расположен ко мне, и тороплюсь воспользоваться моментом:
— Гражданин начальник, посодействуйте, чтобы меня не остригли. Вдруг в самом деле пойду домой... И так на Кощея стал похож, а еще если «под нулевку»...
— Тебя сегодня должен принять заместитель по оперативной работе Воронцов. С ним и решишь вопрос.
Лейтенант «тыкал» мне — обычно такого я не позволял даже самому высокому начальству. Но сейчас отнесся к грубоватому покровительству спокойно, в интонаииях не было ничего обидного и оскорбительного.
Меня отвели в тесный блок, куда помещают перед поселением в стационарную камеру. За стеной слышны были резкие женские голоса. Как только контролер запер дверь, раздались удары по канализационной трубе — меня вызывали на разговор. Условным стуком дал понять, что готов познакомиться.
— Откуда?
— Из Москвы,— привычно соврал я. *
— Какая статья?
— Спекуляция... А ты за что?
— 139-я и 204-я...
«Ничего себе!.. Квартирная кража и хулиганство. Быстро запрягает молодежь...» — По голосу я понял, что моя соседка молода.
— Сколько тебе лет?— проверил догадку.
— Двадцать. Меня Светкой зовут... А тебя?
— Игорь я...
Невидимая Света что-то сказала своим сокамерницам, и за стеной раздался громкий смех, затем донеслась нецензурная брань.
Продолжать разговор расхотелось. После свидания с женой, письма-рисунка дочери все женщины представлялись мне похожими на них, а тут — изощренная матерщина, бессмысленный хохот, неприкрытая похоть.
— Что замолк, Игорек?.. Нас трое, выбирай любую. Соскучились без мужиков...
Я сильно ударил один раз по трубе, что на условном тюремном языке означало «отбой». Девицы оставили в покое меня, но переключились на соседей с другой стороны. Там с готовностью откликнулись; видимо, нашлись общие знакомые. Боксы наполнились шумом и звоном, будто это была не тюрьма, а базар.
— Чего разорались? Порядков не знаете?— вклинился в разноголосый хор начальственный бас контролера.— Ты, которая у трубы, собирайся. Кроешь матом, как зэчка со стажем. Не хочешь сидеть с подругами, отдохнешь одна.— И он вывел одну из постоялиц.
На время галдеж затих, но терпения у моих соседок хватило ненадолго. Вновь послышались выкрики, брань, беспрерывные удары по трубе.
— И тебе, шлюхе, в одиночку захотелось? Пошли!— Охранник выдернул из бокса еще одну разошедшуюся девицу.
Пока в распределителе выяснялись отношения, шли разборки, я как-то не замечал бега времени. Но в наступившей тишине неожиданно понял, что держат меня в боксе непозволительно долго. Отыскав на стене у двери кнопку вызова контролера, нажал на небольшой черный диск. И опешил: кнопка была элементарной имитацией, она не утапливалась. «Это для проверяющих, для прокурора по надзору за содержанием заключенных,— сообразил я.— По инструкции полагается, вот они и залепили для отвода глаз. Кому в голову придет проверить?.. Да, научились химичить...» Пришлось стучать в дверь.
— И ты выступаешь? Скучно стало, как и тем проституткам?
— Сколько можно тут сидеть? Определяйте куда-нибудь!..
— Можешь и заночевать. У нас и такое бывает...
— Это же издевательство!
Но шаги уже удалялись. Первым желанием было разнести дверь в щепки, но тут же одумался: начинать повторный визит в Централку с конфликта не имело смысла да и было опасно. Если в первое долгое сидение мне удалось избежать трюма-карцера, то тем более незачем попадать туда сейчас, перед отправкой в лагерь. Однако настроение падало с каждой минутой, возмущение накапливалось, могло прорваться самым неожиданным образом.
Разрядил обстановку приход женщины-контролера. Я обрадовался, но напрасно. Она лишь перевела меня в соседний бокс, где еще недавно «отстаивались» веселые девицы. Переступив порог, я ужаснулся, настолько омерзительной была эта конура: пол залит вонючей водой, в ней плавали объедки, клочки ваты, окурки; на стенах потеки от плевков. Ни вытяжки, ни окна, даже квадрат кормушки наглухо забит... Примостившись на краешке скамейки, подобрав ноги, закрыл глаза, чтобы не видеть этого запущенного отхожего
На время галдеж затих, но терпения у моих соседок хватило ненадолго. Вновь послышались выкрики, брань, беспрерывные удары по трубе.
— И тебе, шлюхе, в одиночку захотелось? Пошли!— Охранник выдернул из бокса еще одну разошедшуюся девицу.
Пока в распределителе выяснялись отношения, шли разборки, я как-то не замечал бега времени. Но в наступившей тишине неожиданно понял, что держат меня в боксе непозволительно долго. Отыскав на стене у двери кнопку вызова контролера, нажал на небольшой черный диск. И опешил: кнопка была элементарной имитацией, она не утапливалась. «Это для проверяющих, для прокурора по надзору за содержанием заключенных,— сообразил я.— По инструкции полагается, вот они и залепили для отвода глаз. Кому в голову придет проверить?.. Да, научились химичить...» Пришлось стучать в дверь.
— И ты выступаешь? Скучно стало, как и тем проституткам?
— Сколько можно тут сидеть? Определяйте куда-нибудь!..
— Можешь и заночевать. У нас и такое бывает...
— Это же издевательство!
Но шаги уже удалялись. Первым желанием было разнести дверь в щепки, но тут же одумался: начинать повторный визит в Централку с конфликта не имело смысла да и было опасно. Если в первое долгое сидение мне удалось избежать трюма-карцера, то тем более незачем попадать туда сейчас, перед отправкой в лагерь. Однако настроение падало с каждой минутой, возмущение накапливалось, могло прорваться самым неожиданным образом.
Разрядил обстановку приход женщины-контролера. Я обрадовался, но напрасно. Она лишь перевела меня в соседний бокс, где еще недавно «отстаивались» веселые девицы. Переступив порог, я ужаснулся, настолько омерзительной была эта конура: пол залит вонючей водой, в ней плавали объедки, клочки ваты, окурки; на стенах потеки от плевков. Ни вытяжки, ни окна, даже квадрат кормушки наглухо забит... Примостившись на краешке скамейки, подобрав ноги, закрыл глаза, чтобы не видеть этого запущенного отхожего места... Сколько длилось испытание сортиром, не знаю, но мне показалось, что прошла вечность. И я буквально рванулся к проему двери, когда заскрипел ключ.
— Так это вы из Витебской области?— еще одна женщина-контролер, приветливо улыбаясь, распахнула дверь.— А я-то думаю, куда земляк пропал?..
— Был в изоляторе КГБ.— Я попытался изобразить на лиде ответную любезность, но удалось мне это, видимо, плохо.— Замуровали в гадюшнике...
— Я тут не причем,— моя гостья оставалась доброжелательной.— Действую по приказу...
— У меня претензии не к вам,— сбавляя тон, миролюбиво согласился я. И поинтересовался: — Если не секрет, каким ветром вас сюда, в Латвию, занесло?..
— Села на поезд и приехала,— не стала она вдаваться в подробности.— И не жалею. Мне здесь нравится...
— Дело хозяйское... Но я ни за что не смог бы жить среди чужих людей.
— Вам не повезло. Вы в Риге только изоляторы и видели,— не согласилась контролер и выдала новость: — А вы стали популярным человеком — о вас статья в белорусской газете напечатана. Я ездила домой, в Витебск, читала... Только вот не помню, какая именно газета...
— «Звязда», «Советская Белоруссия», «Знамя юности»?..— я попробовал помочь.
— Забыла...
— И там была указана моя фамилия?
— Да.
— Вспомните, пожалуйста, какая газета... Это очень важно...
— Постараюсь... А пока потерпите, скоро вас отсюда заберут.
Дверь захлопнулась, и я опять остался в удушливой тесноте. Информация, полученная от землячки, неприятно поразила. Автор статьи, конечно же, пользовался официальными материалами суда, а я там выгляжу совсем непривлекательно: издевался над «ангелом» Адамовым, на чужом горе делал карьеру... Меня самого эта грязь уже замарать не может, а вот каково Людмиле, маме, друзьям, знакомым?..
И если бы я мог хоть как-нибудь защитить их, в открытом споре доказать, что все выдвинутые против меня обвинения являются грубой фальсификацией истины.
...Разговор о газетной публикации продолжился в комнате, где проводился обыск. Контролеры на этот раз были на удивление лояльны: никто даже не притронулся к моим пожиткам. Лишь старший спросил:
— Режущего, колющего ничего нет?
— Откуда? В СИЗО КГБ все перетряхнули, ничего не нашли...
— Могли передать родственники при свидании... Бритву безопасную, к примеру...
— Когда свидание было... Я уже и забыл. И вообще — я ваши инструкции за два года выучил наизусть. Зачем мне лишние неприятности?..
— Вот и молодец,— похвалил меня прапорщик.— Теперь у меня к тебе вопрос. Это тебе четыре года дали?
— Мне.
— Тогда все сходится. Про тебя статья в «Советской Латвии» была.
— А мне сказала ваша контролер, что в белорусской газете...
— Про белорусскую я не знаю, а эту заметку сам читал. Сообщили, что Верховный суд Латвии одного оправдал, трех освободил в зале суда, а одному — тебе, выходит — выписал четыре года.
— Не повезло мне, стрелочником сделали...
— Обойдется. В Москве могут приговор отменить, так что очень не переживай.
— Спасибо на добром слове...
К вечеру мои мытарства по отстойникам закончились. Длинными коридорами контролер повел меня в новое жилище. Глядя на номера камер, я гадал: куда же меня определят, не поселят ли по прежнему адресу? Я почти попал в точку — передо мною отворилась дверь, на которой значилась цифра 209. Меня передернуло от отвращения, едва вспомнил кошмарную неделю, проведенную в 208-й камере с разнузданными юнцами. Не дай Бог, если прошлое повторится!..
Камера была пустой, но у меня сразу же возникло подозрение, что из нее недавно перегнали в другое место стадо свиней. Разбросанный мусор, запах испражнений, лужа вонючей воды под умывальником, отпечатки следов на стенах и даже на потолке... По койкам, столу, по полу ползали рыжие муравьи... Гадко, мерзко, как в запущенном хлеву.
Даже присесть среди этого дерьма не было где, и я вынужденно топтался на относительно чистом пятачке рядом с окном, знакомясь с «творчеством» прежних обитателей — стены камеры пестрели автографами заключенных. «Прости, отец, судьба такая. Ст. 233, ч. 3. Статья катит на 12 лет», «Милая, ты только жди. Я вернусь. Охран.» «Спасибо за счастливое лето, Маечка», «Семен — парашник», «Арик — козел»... Были — и больше всего — выражения не для печати, но такая клинопись вообще составляет львиную долю всей тюремной переписки... Довершал художественное оформление камеры рисунок голой женщины с головою черта. Судя по датам, сопровождавшим каждую надпись, даже косметический ремонт не проводился здесь больше года...
Преодолевая брезгливость, переступил через нечистоты, забрался на койку. Постель — даже матрац — мне не полагалась, и я, натянув на тело весь запас одежды, попытался уснуть. Металлические пластины впивались в бока, с пола несло вонью, не проходило ощущение, что по мне бегают муравьи. Но эти бытовые неудобства были сущей мелочью в сравнении с оглушительной какофонией, сотрясавшей Рижский централ на всех его этажах. С наступлением темноты началась традиционная для этой тюрьмы перекличка несовершеннолетних. Нет, это был не обход контролеров, не вечерняя поверка — орали, изощряясь в матерщине, юные преступники. Для них будто не существовало ни инструкций, запрещавших всяческие переговоры, ни распорядка дня; они не боялись даже трюма — карцера. Грязная брань, угрозы расправиться с врагами, бесстыдные предложения — и невообразимый, режущий слух рев допотопных диких животных... Но — никакой реакции коридорных, этажных, корпусных контролеров. Я вытащил из телогрейки вату, сделал тампоны, заткнул уши... Не помогало. К тому же сверху кто-то стал настойчиво барабанить по трубе, вызывая на переговоры... Голова начала разламываться от боли, меня бил нервный озноб... Казалось, еще немного — и я сойду с ума...
Лишь под самое утро удалось смежить глаза, но и сквозь тяжелую дрему я слышал каждый шорох, беспричинно вздрагивал, в испуге оглядывал камеру. Мне мерещилось, что кто-то стоит надо мной с занесенным топором... Поднял на ноги стук кормушки — выдавали дневной паек: полбулки хлеба и наперсток сахара. Затем привезли так называемое «первое» блюдо — уху из голов тухлой рыбы. Наученный горьким опытом, сразу вылил баланду в унитаз — после такого завтрака весь день мучала изжога. Сполоснув миску, дождался «чая» — еле подкрашенной горячей воды. Разделив сахар, высыпал в миску и похлебал отдающий рыбой напиток. В кишках заурчало, вода переливалась в желудке, но я привык к такому состоянию. Утешало хотя бы одно — я немного согрелся.
Ближе к полудню, приказав собрать вещи, меня вывели, из провонявшей 209-й. В коридоре к нам пристроились еще трое несчастных, и наш скорбный квартет потопал вслед за контролером. В кладовой получили постели — матрац, подушку, наволочку, простыню; выдали и столовый набор — кружку, миску. Не успел я упаковать казенное имущество, как сопровождавший нас охранник неожиданно приказал мне:
— Сдавай все назад!
— В чем дело?!
— Не рассуждать! Пошевеливайся!
Той же дорогой повел меня обратно. На тюремном дворе, возле административного корпуса, были разбиты клумбы, на них распустились какие-то желтые цветы; рядом качали зелеными кронами деревья. Я замедлил шаги, но контролер подогнал:
— Не на бульваре... И так задерживаюсь из-за тебя...
— А что за маневры, гражданин начальник?..
— Перепутал я. Хотел вместе с другими поселить, а потом разобрался, что вы из органов, из прокуратуры. Вас надо отдельно содержать.
— Мне говорили, что майор Воронцов собирался мен принять,— вспомнил я вчерашнее обещание.
— Вот к нему мы и идем.
Заместитель начальника изолятора по оперативной работе майор Воронцов в мою бытность в этом СИЗО помог мне, насколько мог. По его приказу меня на время поселили в относительно чистую камеру, он приструнил не в меру ретивого воспитателя, однажды просто по-человечески поговорил со мной, посочувствовал. И я надеялся в глубине души, что и сейчас, перед отправкой на зону, он проявит снисхождение, хотя бы немного облегчит мои муки.
Оставив меня в боксе, конвоир пошел докладывать начальству. Вернулся он быстро, но повел меня не в кабинет к Воронцову, а в противоположную сторону.
— В чем дело?
— Возвращаешься в этапку. Завтра отправка.
Боясь поверить в услышанное, все-таки повеселел. Наконец-то вырвусь из этого проклятого каземата, увижу весеннее небо, надышусь воздухом. Жалобы отправлены, они сделают свое дело. Время все расставит на свои места. Подбадривая самого себя, постарался не обращать внимания на обстановку в камере: как-нибудь переночую, а там — новая, пусть и подневольная, но все-таки не тюремная жизнь... Опять не спалось, снова мучала головная боль — ночной бедлам повторился. Но утро наступило. И я с надеждой и затаенным страхом спросил у эффектной охранницы в погонах старшины:
— Мне собираться на этап?
— На вас заявки нет...
Не сомневаюсь, что на моем измученном сердце появился новый рубец. В левой стороне груди стало горячо, по телу разлилась слабость, похолодели и стали нечувствительными кончики пальцев. Я «поплыл», как определяют такое состояние боксеры, получившие сильный удар. Меня охватило полное безразличие; только сквозь плотный туман еле-еле пробивалось одно-единственное желание: скорее бы все это кончилось... Сколько я пробыл в прострации, сказать не могу. Сознание возвращалось медленно: вначале я ощутил резкую вонь от гниющей кучи мусора, затем очертились контуры зарешеченного окна, слух уловил чьи-то шаги в коридоре... Я приходил в себя, и мною начало овладевать холодное бешенство. «Да будь я стократ виноватым, соверши самые тяжкие преступления, никому не позволено превращать меня в скотину, закапывать в дерьмо. Я же че-ло-век!»
С трудом поднявшись с койки, подошел к двери, увидел на стене кнопку сигнализации. Попытка вызвать контролера оказалась бесполезной: как и в боксе отстойника, звонок не действовал. В чем преуспели рижские тюремщики, так это в камуфляже — были и показательные камеры, и обязательные, но ничего не дающие проверки прокурора по надзору, но суть их работы лучше всего отражали вот эти «глухие» кнопки: нажимай хоть до посинения, все равно никто не услышит...
Тут я вспомнил метод, которым пользовался неврастеник, если не психически больной юнец, с кем я провел кошмарную неделю в соседней 208-й камере. Тот с остервенением колотил в дверь кулаками и ногами, пока на эти сигналы не отзывался кто-либо из работников СИЗО. Преодолев внутреннее сопротивление, начал барабанить и я.
— Какие трудности?— как ни в чем не бывало, привычно-равнодушно спросила через дверь контролер.
— Откройте кормушку!
Окошко в двери распахнулось, я присел на корточки, чтобы видеть лицо дежурной, и потребовал:
— Вызовите начальство или сделайте что-либо сама. Третьи сутки содержусь в хлеву; никому нет до меня дела. Это же беспредел...
— Ничем не могу помочь. Вы транзитный «клиент»...
— И сколько это может продлиться?
— Две недели...
От возмущения вначале онемел, а затем меня прорвало:
— Вы поймите: я человек! Не собака бездомная, не тварь бессловесная — человек! Я не хочу загнуться в этой помойной яме! Дайте хотя бы постель, я скоро чахотку заработаю!..
— Не выступай... Сейчас что-нибудь придумаем...
Вернулась она быстро.
— Пойдем, получишь постель.
По дороге на склад, открывая многочисленные двери, охранница как-то буднично, без особой причины, материлась. И хотя я за последнее время постиг все тонкости блатной «фени», ничем не оправданная брань неприятно резала слух. Вызывала протест именно эта будничность: пышнотелая мегера в форме старшины не воспринимала меня не только как мужчину, но и вообще как человека. О женском достоинстве она, видимо, давно забыла...
Как оказалось, из всех постельных принадлежностей мне, транзитному, полагался лишь матрац. Но и он был выпотрошен наполовину, предыдущие хозяева этого тощего тюфяка повыдергивали вату, и комки ее остались лишь в углах замызганного чехла. У хорошего хозяина собачья подстилка мягче... Но — «с паршивой овцы хоть шерсти клок», все-таки не на ребристых железных пластинах лежать буду.
Обустроив постель — разровняв матрац, вместо подушки положив сумку с вещами, вместо одеяла — телогрейку, решился на подвиг — стал убирать камеру. Впереди были два выходных дня, и надежды, что заберут на этап, не было никакой. «Я не животное, которое не может навести порядок в стойле,— убеждал себя, выгребая гнилые отходы из углов.— Сам для себя стараюсь, свое здоровье сберегаю...» Время от времени затыкая нос, подходя к окну, чтобы вдохнуть хоть глоток чистого воздуха, расправился с мусором... Обнаружил за унитазом урну, вымыл, набрал в нее воды и начал драить пол. Около десятка раз менял воду; бетон из черного превратился в серый... Был бы у меня веник, какое- нибудь ненужное тряпье, мыло или стиральный порошок, я смог бы придать камере вполне божеский вид... Вымыв раковины унитаза и умывальника, огляделся, как бы принимая сам у себя работу. Убогое жилище посвежело, посветлело, запах гнили и нечистот уходил. «На тройку с плюсом»,— оценил я свой подвиг, но явно поскромничал: охранница, пораженная происходящим, раскрыла рот от удивления. В ее практике это был первый случай, чтобы временный жилец, транзитник, добровольно убрал камеру.
Видимо, о моей ненормальности было доложено начальству, и меня выпустили проветрить мозги — разрешили часовую прогулку. Правда, я тут же заметил, что мне, осужденному, полагается двухчасовой променад. «Вы же не беременная женщина,— отвергла мои претензии все та же старшина-контролер.— Только им положены такие льготы.» Что же, можно довольствоваться и малым...
С удовольствием сбросил влажную рубаху, подставил солнцу бледные, с выпирающими лопатками плечи, впалую грудь. «Бедный Валера, где твои восемьдесят килограммов, где бицепсы, где мощный торс?» — я еще нашел силы грустно пошутить над собой. И тут же кольнула мысль: «Хорошо, что жена не видит, в кого я превратился. И тем более — мама...»
Мое недолгое блаженство к вечеру вышло мне боком. Прогревшись на солнцепеке, я беспечно остался в камере в одной рубашке. Не хотелось влезать в телогрейку, тело просило свободы. А стены излучали ядовитую сырость, на цементном полу после уборки не высохли лужи. И вот уже бьет горячечный озноб, стреляет в ушах, немеет поясница, горячими углями жгут почки, сухой кашель раздирает горло... Пытаюсь встать со своего лежбища, но тело не слушается... Согнувшись в три погибели, ковыляю к двери... Сил нет даже для того, чтобы громко постучать... Скребу ногтями по железной обшивке, но тщетно.. Никто не слышит... А тут еще из окна пахнуло холодом — пошел нудный, почти осенний, дождь... Мрак, беспомощность, отчаяние... На вечерней поверке, чуть ворочая языком, попросил вызвать врача или хотя бы принести спасительную таблетку от простуды. В ответ — равнодушное пожимание плечами, безразличный взгляд: «Не подохнешь, ничего с тобой не случится...»
...Где организм взял силы, чтобы побороть болезнь, не знаю. Но через два дня без минимальной медицинской помощи я оклемался — прекратились боли в пояснице, прояснилась голова, пропал кашель, перестали дрожать ноги. Наверное, у человека есть какой-то неприкосновенный до поры, до времени биологический запас, который востребуется в критические моменты. Еще отец мне рассказывал, что на фронте бойцы на удивление быстро справлялись с простудой. И это в заполненных водой окопах, в грязи, в злую стужу; в подбитых ветром шинелях, в ботинках с обмотками.
Этот феномен человеческой природы пока не объяснен; не могу сказать и я, что помогло встать на ноги мне, гнившему в одиночке Рижского централа. Может быть, желание во что бы то ни стало доказать свою правоту, твердая вера, что моя песня еще не спета...
Болезнь отступила, но вид у меня, прямо скажу, был довольно непрезентабельный: лицо осунулось, глаза запали, одежда висела на плечах бесформенным мешком. И поэтому, когда охранница сказала, что меня ожидает посетитель, я растерялся.
— Вы, может, перепутали? Я не жду гостей... Я — транзитный...
— Собирайтесь побыстрее. Красотка из суда пришла.
Работница суда действительно выглядела отлично: молодая, стройная, ухоженная. Я на ее фоне казался бездомным стариком-побирушкой.
— Принесла вам протоколы судебного заседания. Можете знакомиться,— девушка достала из сумки вручную сброшюрованный журнал.
— Мне обещали сделать полную копию. Я ждал целую неделю!
— Копии не будет. Решили, что здесь секретный материал.— Голубоглазая красавица отвечала монотонно, без всякого выражения. Она отбывала неприятную повинность, и ей были глубоко безразличны мои заботы.— Пока читайте первый том.
Возмущаться не было смысла. Да и в чем была она виновата, обычный технический работник?.. Это судебное начальство в отместку за мою настырность решило в очередной раз поиздеваться.
— И то хорошо, что совсем не забыли. За несколько дней управлюсь, тогда и второй том принесете,— миролюбиво сказал я.— Только у меня просьба: сейчас в изоляторе обед раздают. Я видел в коридоре тележку баландера. Поем, тогда начну читать. Вы подождете меня?
— Хорошо, только недолго...
— Я человек подневольный. Отведут, покормят, приведут...
Контролера поблизости не оказалось, и я отправился в коридор разыскивать ее. Недовольная моим самоуправством, женщина-охранница сделала мне выговор, но все-таки повела в камеру. Увы — баландер уже то ли ушел на другой этаж, то ли закончил раздачу еды. Пришлось подтянуть брюки, в который раз посетовать на несчастливую долю. Но недаром говорят, что пустой желудок делает ум более изобретательным. Вот и мне пришла в голову оригинальная, как мне показалось, мысль... «А что, если попросить эту девушку позвонить домой, моей Людмиле? Видно, она работает недавно, не успела очерстветь. Передала бы жене, что я еще здесь, что читаю протоколы. Придет в следующий раз, буду знать новости.» Задуманное начал осуществлять исподволь, не с наскока. Поначалу решил обезопасить себя да и ее, если она согласится выполнить мою просьбу.
Оглядев комнату, где мы находились, предпринял маневр:
— Попросите, чтобы нас перевели в другой кабинет. Столик очень узкий, мне негде разложить бумаги...
— Могу уступить свой,— с готовностью предложила гостья.
— Нет, что вы, я не хочу вас стеснять. Здесь рядом есть свободные кабинеты,— настаивал я, подозревая, что комната прослушивается...
Администрация СИЗО пошла навстречу, мы перешли в другой кабинет. «Значит, микрофонов нет, слава Богу...»
— Трудно в одиночестве, измучился совсем. И родные мои переживают, беспокоятся. А я не могу поддержать, ободрить их. И телефон дома есть, но ведь не позвонишь,— прозрачно намекнул я. Однако моя хитрость оказалась напрасной: девушка углубилась в какой-то конспект, внимательно читала его, что-то тихонько шептала. «Да, сессия студенческая сейчас, видно, заочница...» Сделал новую попытку:
— Девятнадцать месяцев в заточении. Оторван от людей, как в гробу... Слова доброго не слышу...
Работник суда скорее всего и не слышала меня. Она перелистывала страницы, что-то подчеркивала в них... Затем засунула руку в сумку, достала промасленный сверток. Я сглотнул слюну: обед пропустил, а утреннюю кашу выбросил в помойное ведро — желудок не принимал опостылевшую «шрапнель». Студентка поняла мое состояние и протянула пирожок. Покраснев, я взял его и как ни старался показать, что не очень голоден, проглотил почти не жуя. Моя благодетельница откусывала по чуть-чуть, ливер издавал прямо-таки божественный аромат. В животе у меня заурчало, и я вынужден был сильно сжать руками желудок... И стыдно мне было, и жалко самого себя, и накатывала злость на моих тюремщиков.
...К ужину я проштудировал около двухсот страниц протоколов.
— Такими темпами я быстро управлюсь. Это ваше присутствие помогает,— мне хотелось сказать ей приятное.
— Не знаю, сможете ли вы работать завтра,— разочаровала она меня.— Я буду занята, а найдется ли еще свободный человек, неизвестно...
— Передайте, пожалуйста, Кабанову, чтобы не тянул резину. Сколько можно держать меня в изоляторе?! Это же издевательство. Пусть отправляет в колонию...
— Передам. Но, по-моему, в одиночестве хорошо думается,— меланхолично заметила красавица и тут же отчаянно покраснела, поняв, что сморозила глупость. И, чтобы замять неловкость, пообещала: — Я попрошу, чтобы к вам завтра обязательно пришли.
Что помогло: моя настойчивость, сочувствие девушки, стечение обстоятельств — я не знаю, но на следующий день протоколы вновь были у меня. Принесла их жгучая брюнетка, которая сразу же уткнулась в иллюстрированный журнал на латышском языке. Краем глаза мне удалось разглядеть, что основную его часть составляли фотографии довольно фривольного толка. И именно на них молодая женщина задерживала свое внимание. Не отказался бы от такого зрелища и я. Как ни старалась тюрьма подавить во мне мужское начало, природа брала свое — глаза замечали и соблазнительные формы некоторых надзирательниц, и стройные ноги первой девушки, приносившей протоколы, и высокую грудь второй. Усилием воли я подавил греховное желание, взялся за работу. Привычно выписывал нужные сведения, сопоставлял их с полученными ранее.
— Я уйду раньше,— прервала мои занятия брюнетка.— У нас сегодня партсобрание в 16.00. Так что закругляйтесь, пожалуйста...— Говорила она по-русски с трудом, медленно подбирая слова, будто переводя с иностранного. И должен сказать, что такая манера шла ей, создавала определенный образ. Так что расставаться с ней мне не хотелось по двум причинам: из-за затяжки работы и просто по-человечески. К сожалению, изменить что-либо было не в моих силах...
Мы вышли в коридор, и я поймал себя на мысли, что мне неловко идти рядом с элегантной спутницей. Неухоженный, пропитанный камерными запахами, я казался себе изгоем. Но неожиданно предоставилась возможность показать, что и я все еще кое-что значу. Дело в том, что дежурного контролера не было на своем месте. Гостья растерялась, сжалась.
— Сейчас что-нибудь придумаем,— взял инициативу в свои руки и вернулся в кабинет. Я знал, в каком месте стола вмонтирована кнопка сигнализации для экстренного вызова охраны. В коридоре раздался громкий звонок. Тотчас из запасной двери появилась охранница.
— Выключите, я сейчас приду,— как о само собой разумеющемся сказала она и опять ушла. «Уже чуть ли не в штат зачислила,— грустно подумалось мне.— Разрешают разгуливать по кабинетам и коридору, как своему... Осталось еще ключи дать...»
— Мне вас завтра ожидать?— спросил я работника суда на прощанье.
— Вряд ли. У меня процесс начинается, я — секретарь судебного заседания... Если найдут кого-нибудь, принесут вам протоколы.
И она ушла, оставив лишь тонкий запах знаменитых рижских духов...
«Если найдут кого-нибудь»,— фраза, сказанная секретарем суда, никак не выходила из головы. Опять неопределенность, зависимость от случайностей, от чьей-то прихоти...
— В качестве кого я все-таки здесь нахожусь? Есть у меня какие-либо права? В баню меня не водят, постель не выдали, переписываться не разрешают... А осужденному все это положено,— возмущенно сказал я контролеру, отводившему меня в камеру.
— А я тут при чем? Мое дело маленькое... Запишитесь на прием к начальству... Оно вам все и разъяснит.
Тут я вспомнил, что у меня в Рижском централе есть пусть не защитник, так по крайней мере — сочувствующий, заместитель начальника изолятора по оперативной работе майор Воронцов. И что он недавно вернулся то ли из отпуска, то ли с экзаменационной сессии. К нему на прием я и попросился. В знакомом кабинете все было по-прежнему, если не считать, что произошли перемены в судьбе самого хозяина — Воронцова повысили в звании: на плечах красовались погоны подполковника.
— Примите поздравления от несчастного заключенного,— несколько фривольно выразил я свое отношение к этому событию.
— Спасибо. Но это уже давно,— дотронулся он до второй звезды.— Значит, старость приближается.
Нормальный человеческий тон, никакой рисовки, внимательный усталый взгляд. Я и раньше как-то задумывался о том, что заставило этого вызывающего симпатию офицера выбрать такую нелегкую работу, пойти, по сути дела, в добровольное заключение? Карьеру в тюрьме не сделаешь, здоровье угробишь, врагов, хочешь — не хочешь, а наживешь, ведь ко всем добрым не будешь... Приходится и власть применять, причем частенько довольно круто... Расспрашивать Воронцова о причинах, приведших его в тюрьму, мне не выпадало, слишком разный у нас был статус, да я, собственно, должен был благодарить Бога уже только за то, что в моих скитаниях по изоляторам встретил такого отзывчивого человека. И где?— в Рижском централе, снискавшем недобрую славу среди заключенных всего бывшего Советского Союза.
— Как суд прошел? Я вашего приговора не видел,— участливо спросил подполковник.
— Сколько ни старался выпутаться, ничего не удалось. Задавила Кабанова прокуратура СССР, ничего он с ней не смог поделать, сдался. Оставил мне задержание потерпевшего, арест, а я к этому никакого отношения не имел. Ни в документах, ни в показаниях ничего подобного не говорится, а на тебе — в приговоре есть...
Воронцов внимательно слушал меня, и я чувствовал, что он на моей стороне. Во всяком случае, не видит во мне преступника.
— Возможно, жалобы ваши сработают, всякое бывает...
— Прокуратура Союза, боюсь, не отступится. Крепко она в меня вцепилась...
— Какой срок вам суд определил?.. Четыре года?.. А под стражей сколько находитесь?.. Почти двадцать месяцев? Погодите, по-моему, у вас есть шанс досрочно освободиться на стройки народного хозяйства... Причем прямо отсюда, из изолятора...
— Вряд ли,— неуверенно сказал я, а у самого сердце забилось учащенно.— По моей основной статье выйти на «химию» можно только после отбытия половины срока...
— Сейчас посмотрим.— Воронцов достал Уголовный кодекс, нашел нужную страницу.— Вам инкриминировали физическое воздействие?
— Да, ст. 175 ч. 2 УК БССР...
— Одну минутку...— Подполковник сопоставил белорусский кодекс с латышским и чуть ли не обрадованно сообщил: — Здесь написано, что досрочное освобождение возможно после одной трети срока... Так что немедля пишите заявление. Чем черт не шутит...
— Но ведь ходатайствовать может только администрация колонии...
— Следственные изоляторы по законодательству приравнены к колониям. Даю вам адрес: начальнику отдела по надзору за исправительно-трудовыми учреждениями прокуратуры Латвии. Он в силах решить проблему.
— Опять прокуратура... Боюсь, Москва не разрешит. Бригада-то следственная, Прошкин из прокуратуры СССР...
— Попытка — не пытка... Да и какие у них основания отказать?.. Вот вам бумага,— и он протянул мне чистый лист.
Я смотрел на Воронцова, слушал его ровный участливый голос и мне не верилось, что передо мною главный опер Рижского централа... «Вот бы у кого поучиться моему адвокату Данилову... Совсем чужой вроде бы человек, а надо же — и сочувствие, и желание помочь, и настоящая помощь...»
— Спасибо,— переждав, пока рассосется спазм в горле, сдавленно проговорил я.
Хозяин кабинета сделал вид, что не заметил надрыва в моем голосе, деловито спросил:
— Какие еще просьбы?
— Сплю без постели, валяюсь на голой шконке... В баню бы сходить, две недели по-настоящему не мылся... Письма отправить...
— Все это вам положено. Я прослежу. А что касается писем...— Он подал мне запечатанный конверт.— Из дома. Только что пришло.
Мне не поверилось: письмо было не вскрыто и — главное — вручено в самый необходимый момент, будто по заказу.
— Возникнут сложности, обращайтесь прямо ко мне. Я выкрою время, чтобы выслушать вас.— Воронцов дал понять, что аудиенция окончена. В нарушение всех и всяческих инструкций протянул мне, заключенному и уже осужденному, руку.
Я с глубокой благодарностью (по-иному не выразишь мои тогдашние чувства) пожал открытую ладонь нетипичного работника СИЗО — подполковника Воронцова. И мне кажется, что я и сейчас ощущаю тепло его руки.
Но, к сожалению, заместитель начальника — еще не начальник. А с главой учреждения ОЦ 78/21 отношения у меня, прямо скажу, не сложились. В жалобах в высокие надзорные инстанции я особо не выбирал выражений, чтобы дать характеристику нравам и порядкам, царящим в СИЗО. Содержание этих посланий было, конечно же, известно полковнику: если он не прочитывал их до отправки, то все равно узнавал о моих претензиях позже, когда письма возвращались к нему, но уже с резолюциями руководителей МВД или прокуратуры. Так что крови начальнику Рижского централа я попортил немало. А он не хотел оставаться в долгу, тем более, что возможностей поставить меня на место у него было предостаточно. Отлучение от бани, от горячей воды, от чистоты, в конце концов,— это была небольшая, но весьма чувствительная месть. Вековая сырость, непроходящая вонь проникали, казалось, в каждую пору тела. Хотя и старательно умывался утром и на ночь, не проходило ощущение, что я весь пропитан тюремными запахами. И неудивительно, что судебные секретари сторонятся меня, стараясь сесть подальше. Возможно, что все это было лишь плодом моего болезненного воображения, но чувствовал я себя крайне неловко. Наверное, еще и поэтому я не решался установить более тесные контакты с девушками, приносившими мне протоколы судебного процесса. Что у них общего с небритым, нестриженным, неухоженным арестантом, на которого смотреть — и то неприятно...
Дочитав второй том документов, я решился на одну-един- ственную просьбу: если в суд позвонит жена, сообщить ей, что я пока в Риге. Ответ был настолько невразумительным, да и к тому же на таком чудовищном русском языке, что мне так и осталось непонятным, сможет ли жгучая брюнетка с неизменным порножурналом помочь мне и Людмиле...
Настроение падало с каждым днем. А тут еще нашла подтверждение известная пословица, что «все болезни от нервов». Вновь участились рези в животе, не давал покоя наполовину выкрошившийся зуб. По странному совпадению именно в это время на прогулке я подобрал обрывок «Правды» и прочитал там кусок статьи о Леонарде Пелтиере, лидере американских индейцев. Советский координатор движения в его защиту возмущался, что у Пелтиера закончились лекарства, присланные советскими офтальмологами, что ему не всегда разрешают позвонить по телефону... «Мне бы, да и тысячам подобных, заботы Пелтиера,— горько подумал я.— А хотя бы одного из радетелей о здоровье заокеанского друга — сюда, в Рижский централ... Интересно, что бы они запели?.. О каких правах человека заговорили бы?.. Верно сказано: «в чужом глазу соломинку ты видишь, в своем — не видишь и бревна...»
Не знаю как, но подполковник Воронцов узнал, что меня еще и не думали пускать в баню. Взбешенный — выдавали туго ходившие под кожей желваки на скулах, недобро сузившиеся глаза, нежелание говорить с контролерами — он сам повел меня в душ. Перепуганные охранники еле успевали открывать перед ним двери, недоуменно поглядывая на заключенного, которого сопровождал в баню сам заместитель начальника изолятора по оперативной работе. Еще раз поблагодарив нечаянного покровителя, попросил его побыстрее отправить меня на зону, в лагерь.
— Туда вы всегда успеете,— туманно-многозначительно ответил Воронцов.— Не торопитесь.— Но дальше распространяться не стал, и я остался гадать, что кроется за его словами. Стоя под струями воды, смывая грязь, пот и усталость, выстраивал версии: «Может, досрочно освободят и отправят на «химию»? Или Верховный суд СССР внял голосу разума и отменил приговор? И здесь, в Латвии, могли одуматься, поняли, что Кабанов зарвался... Жалобы, наверное, начинают приносить результаты...» Возвратился в камеру помолодевшим душой и телом, и даже опостылевшая темница показалась довольно уютной... В окно прорвался косой солнечный луч, и для меня он был лучом надежды...
К сожалению, тюрьма, да еще и — Рижская, остается тюрьмой, чтобы заключенный не тешил себя несбыточными иллюзиями... Вновь потянулись унылые дни ожидания неведомо чего... Светлые дни (пришло письмо от сестры) сменялись черными — их бчыло гораздо больше. И уж совсем выбила из колеи неожиданная встреча по дороге на прогулку с молодым арестантом, суд над которым шел в одно время с нашим процессом. Сталкивались и во дворе Верховного суда, и в спецмашине — автозаке.
Недобро полоснув взглядом, он зло спросил:
— Еще не осудили?
— На ходу,— неопределенно ответил я. «Ну вот, теперь вся тюрьма будет знать, что в 209-й камере сидит бывший прокурор. Веселая жизнь начнется...» Так оно и произошло. Теперь на каждой прогулке я слышал угрозы и оскорбления, несшиеся из окон соседних корпусов: «Мент-209, ты еще жив?!», «Подавись пайкой и баландой!» Однажды сквозь мелкую сетку, натянутую над прогулочным двориком, на меня посыпался град камней, а затем к ногам упала записка: «Прокурор, попался, гад! Повстречаемся, заказывай гроб с музыкой!» Привести свои угрозы в исполнение никто пока не мог, но облегчения мне это не приносило: постоянно слышать оскорбления, брань, похабщину в свой адрес становилось невыносимым... А тут еще арестанты из соседних камер устраивали еженощно звуковую обструкцию — без конца стучали по трубе, в стены. И без того кошмарное существование превратилось в сущий ад. Перебрав все возможные варианты, пришел к выводу, что помочь мне сможет опять-таки только Воронцов. Вспомнил его реплику, что торопиться на зону не следует... Собрался с духом и утром в установленном порядке подал заявление. Я понимал, что у него, помимо меня, сотни подопечных, и уделять моей персоне особое внимание у подполковника нет оснований, но иного выхода не было.
На этот раз тюремный механизм отреагировал довольно быстро: после обеда работница спецчасти отдала мне увесистый пакет. Нетерпеливо развернул, обрадовался: письмо жены и отпечатанные на машинке несколько экземпляров жалоб. Письмо «проглотил» сразу: знакомый почерк, искренние, добрые слова, даже сама бумага, которую держала в руках Людмила,— лучшего бальзама для моей измученной души в тот момент нельзя было найти. Я увидел в торопливых строчках самое необходимое, без чего жизнь не имела смысла — веру, надежду, любовь...
Многое значили и размноженные жалобы. У меня появилась возможность выбора: теперь я мог обратиться не только в одну, а сразу в несколько инстанций. Решил нанести комплексный удар: отправить идентичные жалобы в Верховные суды СССР и Латвии — «маслом кашу не испортишь...» Этим маневром я экономил время, убыстряя ход событий — и в Риге, и в Москве заниматься моим делом вынуждены будут параллельно. В таких приятных, как это не покажется странным, хлопотах прошел еще один день в заточении. А затем до глубокой ночи перечитывал письмо Людмилы, находя в нем все новые и новые доказательства того, что я не одинок, что у меня есть стимул бороться.
Наступившее утро разрубило многие мучавшие меня проблемы. Из амбразуры кормушки я услышал голос библиотекаря:
— Не забудьте сдать книги. Вы идете на этап.
— Когда?
— Заявка подана на следующую неделю...
Насколько я помню, у Марка Твена есть афоризм: «Когда долго ждешь чего-нибудь, и оно приходит, то все равно кажется неожиданным». В каком-то полубессознательном состоянии я опустился на койку, пытаясь осмыслить услышанное. Передо мною, как в калейдоскопе, появлялись отрывочные видения: Прошкин предъявляет мне постановление об аресте, Адамов злобно шепчет: «что, попался, гад?», озверевшие юнцы наступают на меня с ножами, посадка под дождем в столыпинский вагон, вонючая камера № 208, начало суда, плачущая жена, момент приговора... Все это позади — теперь зона, лагерь, неизвестность...
И вот настал день прощания с Рижским централом. Сдал постель, получил личные вещи. Последний обыск в Риге. Уже знакомое, но каждый раз пугающее напоминание:
— Вы поступаете в распоряжение караула. Беспрекословно выполнять все его приказы. Шаг в сторону, вправо, влево расценивается как попытка к бегству. Оружие применяется без предупреждения!
Открылись тюремные ворота. Понурая колонна из двадцати заключенных потянулась к стоящему невдалеке столыпинскому вагону. Впереди была дорога на зону. Начал действовать приговор: «...наказание назначить в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с отбытием наказания в исправительно-трудовой колонии усиленного режима...»