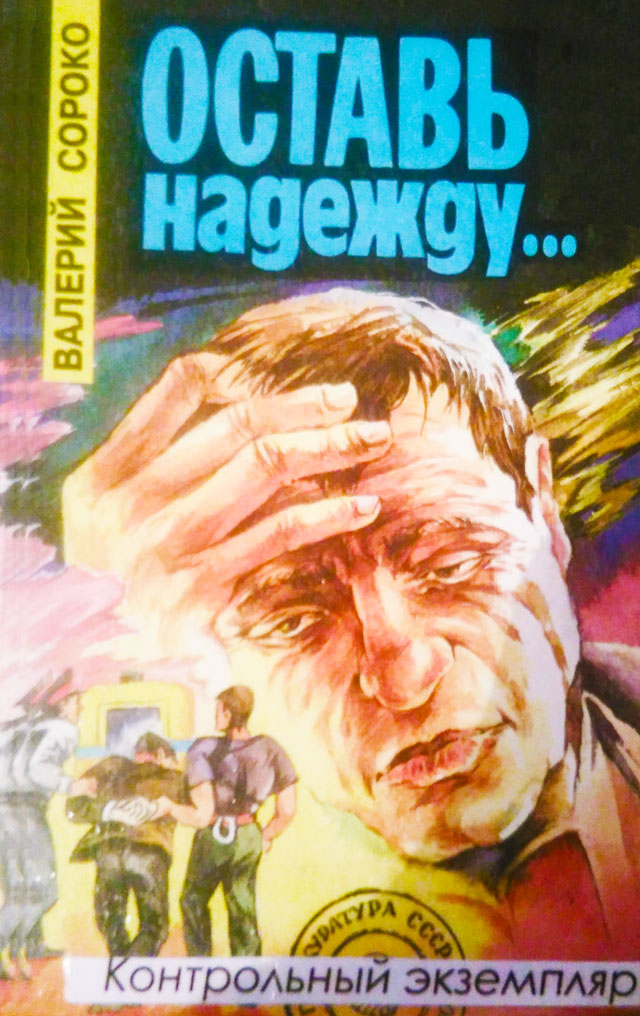Предлагаемая вниманию читателей документальная повесть "Оставь надежду..." - вторая из серии, в которой рассказывается о системе содержания под стражей подследственных и заключенных. В первой повести "SOS: спасите наши души" речь шла о тяготах, испытываемых несовершеннолетними, заключенными под стражу. Настоящая книга обнажает дикие нравы, царящие среди взрослых преступников. Автор повестей В.И. Сороко - бывший работник Белорусской транспортной прокуратуры - на себе испытал все "прелести" тюремной и лагерной жизни. По обвинению в нарушении законности он был осужден на четыре года лишения свободы. А предшествовали лагерю в Нижнем Тагиле следственные изоляторы Минска, Витебска, Риги, Воронежа и других городов бывшего Советсткого Союза.
В мае 1993 года В. И. Сороко выпустил первую из серии книг, названную им "Витебское дело", или Двуликая Фемида".
Академия, бухенвальд, вертеп, гостиница, зона, киль- дим, кичман, контора, крематорий, курорт, ломбард, мешок, острог, пересылка, постоялый двор, рейхстаг, решетка, ротонда, садиловка, северик, торба, централ — как только не называют в уголовном мире места заключения, официально именуемые СИЗО — следственными изоляторами или ИТК — исправительно-трудовыми колониями. За три года, проведенные под стражей, мне довелось хорошо познакомиться с бытом и нравами, царящими в этих заведениях. Моими соседями по камере были и несовершеннолетние, только вступившие на порочный путь юноши, и закоренелые преступники, которые не скрывали, что зона — их дом родной. Абреки, бараны, басурманы, бесы, бобры, бугры, бытовики, волы, воры в законе, вороны, гранды, декабристы, домушники, еретики, жорики, зубры, ишаки, козлы, колхозники, кры- сятники, кумовские черти, лохи, майданники, обиженки, паханы, петухи, придурки, рабы, сексуально озабоченные, суслики, терпилы, форшмаки, фраера, фуфлогоны, химики, хунвейбины, чмо, шакалы, шныри, шуцманы — многие из этих аборигенов преступного мира встретились на моем пути. Делил с ними скудную пайку, дышал затхлым вонючим воздухом, выслушивал правдивые истории и блатные легенды; некоторых пытался защитить от беспредела, с некоторыми дрался, отстаивая свое человеческое достоинство...
Все эти бесконечные месяцы, особенно во время следствия и суда, я жил под тройным прессом. Угнетала необъективность предъявленного обвинения, дикая тюремная атмосфера и, чего греха таить, боязнь быть узнанным сокамерниками. Нет, никого из них я не «заложил», выражаясь их языком, не «продал», не «закозлил». До злополучного 1985 года я работал зональным прокурором Белорусской транспортной прокуратуры, моим профессиональным долгом являлась борьба со всеми и всяческими преступлениями. Но в судьбе моей произошел трагический поворот. После расследования, проведенного мною, некто О. Адамов за изнасилование и убийство двадцатилетней девушки Т. Кацуба был приговорен к 15 годам лишения свободы. Но затем был задержан и признался в совершении 39 (!) подобных преступлениях маньяк Михасевич. Взял он на себя и смерть Т. Кацуба. Мой подследственный О. Адамов был выпущен на свободу, а мне предъявили обвинение в нарушении социалистической законнности. Так за решетку попал я сам, бывший работник прокуратуры Валерий Сороко. И не приведи Господь, о моем прошлом узнали бы сокамерники. Расправа с «ментами» — этой презрительной, бранной в устах заключенных кличкой награждают и милиционеров, и следователей, и судей — бывает короткой... Вот и существовал я рядом с насильниками, убийцами, ворами, мошенниками, сутенерами, каждодневно опасаясь удара в спину. Тюремный телеграф работает безотказно, сведения в уголовной среде добываются хоть из-под земли... К тому же я не исключал варианта, что следователи из прокуратуры СССР, которые вели мое дело, могут умышленно допустить утечку информации...
Но Бог меня миловал. В Минском СИЗО, в тюрьме по улице Володарского, я в основном сидел с несовершеннолетними, был в камере старшим, «инструктором». Отношения складывались непросто, но преимущество в возрасте, знаниях, опыте и, чего греха таить, в силе, которую, правда, ни разу не пришлось применять, позволяло мне существовать довольно сносно (с поправкой, конечно, на тюремные условия). Об этом периоде своей жизни я рассказал в документальной повести «SOS»: спасите наши души», вышедшей в 1993 году.
Действующими лицами книги, которую вы держите в руках, являются взрослые подследственные или осужденные. Это попутчики на этапе из Минского СИЗО в Ригу, где мое дело должен был рассматривать Верховный суд Латвийской ССР... Затем обитатели Рижского централа — одной из самых зловещих тюрем бывшего Советского Союза. Процесс из-за неподготовленности, а точнее — из-за надуманности, длился более полугода, и мне пришлось сполна изведать «прелести» многих камер этого застенка. Мои сокамерники и продолжают галерею типажей, с которыми я столкнулся во время своих мытарств. Изломанные характеры, беспредел, правящий бал в местах заключения, а по сути дела — целиком в правосудии,— вот нелегкая тема этих документальных записок.
АВТОГРАФ НА СПИНЕ
Итак, позднее лето 1987 года. Близко к полуночи под нудным моросящим дождем специальная машина для перевозки заключенных доставила меня с такими же невольниками на станцию «Минск-Восточный». Свет прожекторов, лай собак, конвоиры с автоматами. Сидя на мокрой земле, ожидаем погрузки в столыпинский вагон — передвижную тюрьму... Отрывистые команды, предупреждения: «Шаг в сторону, прыжок вверх считаются побегом». Вымокших, продрогших, очумевших, нас загоняют в вагон, размещают по боксам, узким клеткам — купе с закрашенными окнами. Этап трогается... Кого-то подселяют в Орше; вновь крики, топот, недремлющий глаз конвоя... Наконец Витебск. Знакомая унизительная процедура, только произведенная в обратном порядке: выгрузка под дулами автоматов, оскаленные пасти овчарок, приказ сесть на землю, зарешеченные окна автозака — спецмашины. И вот Витебская тюрьма, следственный изолятор, куда год назад не раз приходил в качестве следователя, будучи в должности прокурора следственного отдела Белорусской транспортной прокуратуры. Приходил, допрашивал обвиняемого Адамова об обстоятельствах приписываемого ему убийства... А теперь я сам обвиняемый, да уже и подсудимый, а Адамов признан потерпевшим. Как круто все повернулось, поменялось местами! Никогда — ни во сне, ни наяву — не ожидал я такого поворота судьбы...
В знакомом коридоре работники разговаривали со мной отчужденно, сухо и сугубо официально. Все давали понять, что со мной не знакомы, видят меня в первый раз, что я для них такой же арестованный, как и тысячи других... Дежурный капитан, просмотрев личное дело, уточнил фамилию и приказал стоявшему рядом сверхсрочнику отвести меня в бокс. Снова клетка, правда немного большего размера, чем в машине. Здесь можно встать, пройтись, развернуться: два неполных шага — вперед, два — в сторону; квадрат — метр на метр. В пол на всю длину камеры вмонтирована скамейка. За спиной отворилась дверь. В боксе появился еще один новосел — паренек лет двадцати. Осмотрелся, подозрительно покосившись на меня. Достал смятую пачку «Примы», закурил.
— Откуда будешь? — первым не выдержал я, желая убедиться, что он из местных жителей, земляк.
— Из Орши!
— А как сюда попал?
— За гребеж. Подследственный я.
— Понятно. Не очень-то хорошая статья!
— Она любая — не радость. Ничего серьезного за мной особо и нет. А вот взяли и арестовали. Зачем мне это надо было? Работал, как все. Раньше не привлекался, даже в милицию ни разу не попадал. А тут — на тебе. Шли мы с работы: я и дружок Вадим. Решили заглянуть в столовую, перекусить. Мы живем в заводском общежитии. Подходим к столовой, смотрим: стоит наш старый знакомый, Данилов Иван, а в руках у него сумка, из которой торчат горлышки нескольких бутылок «чернил». Подошли, поздоровались.
— Давай, раздавим одну...
— Да не, хлопцы, спешу,— говорит Иван, а сам стоит, никуда не уходит. Раскололи мы все-таки его на одну. Вадим из столовой принес кусок хлеба с котлетой. Мы — за угол. Из горла и выпили. Захорошело. Иван старше меня годов на двадцать, но «насос» хороший: хлещет — только так. За это и с завода его увилили. Раньше вместе в одном цехе работали.
— Давай еще одну,— говорим.— У тебя еще много.
Он — ни в какую. Стал рассказывать, что помог бабуле одной крышу отремонтировать. Вот она и дала ему за работу 15 рублей. Ну, он и отоварился. Мы ему говорим: «Легко заработал, легко и просадить их надо. Давай!» Морщился, мучился, постонал, постонал, но опять согласился. Тяпнули мы еще одну. Рукавом закусили. Забалдели: после работы ж, уставшие, не евшие, почти натощак. Оно и быстро нас развезло, тормоза отказали. Стали теперь и третью у него просить: «На троих — три, как раз». Собрали ему все, что у нас в карманах было — около двух рублей. Суем ему: возьми и давай еще одну. Он молодец, опытнее в этих делах, говорит: «Менты сцапают. Теперь — самый раз, боюсь, чтоб нас не переняли. Домой без происшествий доехать надо». Где-то еще с полчаса мы балагурили. Развезло нас совсем. Дружок,
Вадим, опять стал приставать к Ивану: «Давай, Ваня, еще, а то силой заберем». А он на нас: «Щенки,еще молоко на губах не обсохло: куда вам со мной силой тягаться!» Ну, Вадим, не долго думая,— хрясь ему по зубам. А я с другой стороны врезал. Тот с копыт и об землю. Забрали мы его сумку и давай третью распивать. А тут, на нашу беду, как из-под земли дружинники с ментами: «Здрасьте, я ваша тебя». Туда-сюда, подняли с земли Ивана, а у него губы и нос разбиты. Кровь течет, он ею вымазался весь. А дружинники, в основном бабы, как залепетали: «Хулиганы молодые избили пожилого мужчину...» И давай жару поддавать. А тут и сам Иван очухался немного, увидел, что третью бутылку у него мы забрали, да как закричит: «Разбойники! Ограбили!..» И пошло, и поехало. Нас в опорный пункт доставили, вызвали дежурных из ментовки, те приехали и нас забрали. Посадили в кэпэзуху. А на следующий день бац — и под замок. Повезли к прокурору, арестовали. Мы все рассказали, как было на самом деле. Что там скрывать? Просились, чтобы простили нас. Да где там! Разве правды добьешься? Лишь бы к ним попался. А статья всегда найдется. В деревне, как узнают, что меня посадили, родители с ума сойдут. Неплохим сыном я считался, а вот загремел под фанфары...
Рассказчик нахмурился, тяжело вздохнул и грустно улыбнулся.
— Да, невеселенысие картинки. Но не горюй. Думаю, что суд не приговорит тебя к лишению свободы: стройками отделаешься.
— Это на «химию» что ли?
— Да. Суд определит лишение свободы (на основании ст. 23 УК БССР) условно, с обязательным привлечением к труду на стройках народного хозяйства, под надзором милиции.
— Спецы так называемые?
— Они! Там руководит спецкомендатура, поэтому и называют спецы.
— Ты, смотрю, грамотный мужик. Откуда все это знаешь?
— Посидишь с мое, не то еще узнаешь,— уклончиво ответил я и перевел разговор на другую тему:
— Скажи, как там на свободе?
— Что — как? — не понял паренек.
«А, действительно, что?» — все интересно, но о чем конкретно спросить, я не мог сразу сообразить. Восемь месяцев заточения оторвали меня от мира, притупили остроту интереса к новостям свободной жизни. Так и не решив окончательно, что же меня больше Есего интересует, спросил, хотя кое-какие газеты читал:
— Как там лето? Виды на урожай?
— Лето неплохое. И урожай обещает быть хорошим. Картошка как будто уродилась что надо. Скороспелку копали, так больше кулака и много.
— А какие новости в Орше? А то я, брат, давно уже сижу и света божьего не вижу.
Молодой человек задумался... Улыбка, обнажавшая неровные, щербатые зубы и морщинившая углы рта, придавала ему легкомысленно-шутовской вид.
Но он не успел рассказать ничего интересного из оршанских новостей. Дверь нашего бокса отворилась, и работник СИЗО назвал мою фамилию. Спешно прихватив вещи и даже забыв попрощаться с собеседником, вышел в коридор. Меня привели в большую светлую комнату, основную мебель которой составляли несколько привинченных к полу столов. Предложили раздеться и, заставив несколько раз присесть, стали тщательно прощупывать каждую складку одежды, начиная с трусов. Не найдя ничего подозрительного, вещи возвращали. Когда осмотр одежды был завершен, приказали открыть рот и со знанием дела заглянули туда. Потом методически с профессиональным рвением прощупали и перебрали содержимое моих целлофановых мешков. Обыск закончился. Большую часть вещей забрали на склад, вернув на руки только смену нательного белья, пару носков да туалетные принадлежности.
По знакомому длинному коридору с двумя металлическими зарешеченными дверями, закрывающимися на замок, повели в обратном направлении. Когда открывались эти двери, автоматически включалась звуковая сигнализация. Провели мимо следственных кабинетов (в некоторых из них я ранее допрашивал арестованного), повернули направо и спустились по ступенькам вниз. Открыв такую же железную решетчатую дверь, служитель СИЗО привел меня в подвал. По обе стороны этого мрачного коридора темнели пронумерованные двери камер. Одну из них открыли лично для моей персоны.
Новое мое пристанище оказалось просторной камерой: вдоль высоких (более трех метров) стен располагались двухъярусные железные койки; длинный деревянный стол, вдоль которого тянулись узкие скамейки. Под крышкой стола была приделана полка — очевидно, для посуды и продуктов. Почти у самого потолка против входной двери — два окна, зарешеченные широкими железными полосами. Сквозь них в камеру просачивались разлинованные снопы солнечных лучей. В углу у двери унитаз. В камере было грязно: возле умывальника возвышалась гора мусора. Вероятно, это была этапная камера, и обитатели здесь долго не задерживались. Хотя, как мне было известно, в случае нужды такие камеры использовали и для длительного содержания арестованных. Безжизненная тишина и пустота камеры начинали давить на меня. Я подошел к ближайшей кровати, попробовал пошевелить ее: металлические стойки были заделаны намертво. Часть кровати попадала в полосу солнечных лучей. Потрогав ее в этом месте, ощутил приятное тепло. На душе сразу повеселело. Вспомнил Максима Горького, который говорил, что «все приятное на земле от солнца, все хорошее — от человека». С первой частью его наблюдения я был полностью согласен. Но со второй?.. Вот любил я людей и был готов отдать за них все, даже жизнь. Но моя доверчивость и прямолинейная исполнительность, а порой и догматическая вера в закон привели к тому, что я, вопреки своему желанию, без злого умысла причинял людям не только нравственные, но и физические страдания. За это, и не только за это, мне жестоко отплатили. Да и раньше мне не раз доводилось страдать, получать шишки вместо пышек.
— Получите постель,— произнес баритон за спиной. На пороге стоял молодцеватого вида старшина. Задумавшись, я не слышал, когда он открывал камеру. Постель состояла из матраца, одеяла, подушки, наволочки, простыни, полотенца. Кроме того я получил алюминиевую кружку и обломок ложки. Полотенце оказалось маленьким (детским) и рваным. Измятая поллитровая кружка, как и следовало ожидать, была без ручки, подушка — маленькая, со сбитой в комки ватой, матрац рваный, местами без ваты. Видимо, арестованные вытаскивали ее для бытовых нужд...
Стало быть, это этапная остановка. Сколько дней здесь продержат? Из Витебска до Риги ходят прямые поезда, значит, больше этапных тюрем у меня не предвидится. И на этом спасибо. Меньше будет удручающих, унизительных процедур: обысков с раздеваниями, сдач- получений вещей. Хорошо было бы, если б сюда больше никого не подселяли. У меня же есть «уединенная» работа: надо окончить жалобу, начатую в Минске, и сделать кое-какой анализ доказательств по делу.
Встал, походи, кажется, только прилег на койку, как усталость взяла свое, и я мгновенно уснул.
В мрачную действительность вернул окрик контролера: «Подъем!..» Значит, уже шесть утра. Умывшись и заправив койку, облокотился на стол. Что принесет мне новый день? Долго ли продержат в Витебске? Где подельники? Заботы навалились, неизвестность угнетала, убогая обстановка раздражала. Сбросив оцепенение, заставил себя сделать физзарядку. Обычно я делал ее на прогулке, на свежем воздухе, но сейчас в камере было пусто и относительно свежо, да и не знал я, будет ли прогулка. Затем провел разведку: встал на койку, чтобы рассмотреть через щели зарешеченного окна двор моей темницы. Рассеяные лучи утреннего солнца хорошо высвечивали просторный тюремный двор. Со всех сторон он был окружен многоэтажными зданиями с множеством зарешеченных окон, черные квадратики которых четко выделялись на светлых стенах. А вот и хозяева — гремя цепями по натянутой проволоке, бегают несколько огромных овчарок. Попробуй только вырваться — сразу им в лапы попадешь. Двор на первый взгляд казался замкнутым, но присмотревшись внимательнее, я заметил вмонтированные в стену здания огромные металлические ворота, через которые изредка въезжали и выезжали машины.
Долго смотреть было нельзя, запрещалось даже приближаться к решетке. Спрыгнул на настывший за ночь пол. Вскоре услышал характерный скрип приближающейся тележки: арестантам раздавали пищу. В открытой кормушке появилась миска водянистой овсяной каши, кружка чая и полбуханки хлеба — дневная норма. На сей раз я почти полностью съел кашу, с удовольствием выпил сладковатый жидкий чай, а половину хлеба оставил на обед. Убрав со стола посуду, прилег на кровать. Несколько раз отметил, как открывалась заслонка «глазка» в двери, и бдительный взгляд охранника скользил по мне, но запретительного окрика не последовало. Значит, здесь арестованным лежать не возбраняется. Я повернулся на бок и незаметно уснул крепким сном.
Так же неожиданно, как и уснул, проснулся. Попытался определить, сколько же я проспал. Судя по пробившимся в камеру через окно полосатым лучам, солнце стояло высоко. Несколько раз потянулся, присел, помахал руками, чтобы размяться, и стал прохаживаться по камере, испытывая некоторый прилив сил. «Посмотрим, посмотрим, кто из нас сильней»,— напевал я себе под нос...
После обеда разрешили прогулку. Чтобы попасть во дворик, пришлось дважды подниматься по ступенькам: создавалось впечатление, что прогулочные дворики находятся на крыше. Но когда я оказался внутри, на прогулочной площадке, то через небольшую дыру в стене ограды увидел крутой склон обрыва, заросший зеленой травой. Во дворе было тепло и тихо. Сквозь натянутую над площадкой мелкую металлическую сетку изливались горячие потоки. Раздевшись до пояса, с удовольствием принимал солнечную ванну. На прогулке арестованным такая вольность разрешалась.
Два дня, проведенные в этапной тюрьме, пролетели быстро. Поразило и огорчило одно: за все время пребывания в Витебске никто из бывших знакомых не только не подошел, не посочувствовал, но даже побоялся приблизиться. Я понимал, конечно, что все знавшие меня офицеры СИЗО были на работе, во власти инструкций и приказов, запрещающих неслужебное общение с арестованными. Но не только и даже не столько уставные правила сдерживали их, как то, что мое дело вела прокуратура СССР, и всякие попытки контактов со мной могли очень дорого им обойтись, вплоть до увольнения с работы. Даже когда я шел по коридорам или стоял возле дежурных, а мимо проходили знакомые, то они отворачивались, делали вид, что не узнают или не замечают меня. Никто даже кивком головы не поздоровался, будто я был особо опысным государственным преступником, предавшим всех и вся?!..
На третий день поступила команда собираться с вещами. Снова закрылась дверца автозака на висячий замок.
И вот опять столыпинский вагон. Стук колес, скрежет и скрип вагона. На закрашенном окне краска местами облупилась и сквозь образовавшиеся просветы можно было видеть, как бежали мимо поезда полоски полей, деревья, кусты, столбы. А поезд мчался и мчался вперед, унося нас в неизвестность. Что ждет впереди?..
Съев кусок хлеба с селедкой, прилег на полку, положив под голову целлофановый мешок. Под монотонный стук колес незаметно заснул. Когда очнулся, восстанавливались какие-то смутные обрывки сновидений. Поезд
стоял. За окном услышал разговор людей на незнакомом языке. «Значит, уже Латвия»,— догадался я.— «Быстро приехали: должно быть, долго я спал». В коридоре застучали ботинки. Через решетку двери было видно, как мимо нашего купе провели под конвоем нескольких арестованных.
— Отойди от дверей! — вдруг раздался резкий окрик над самым ухом.
Заскрежетал металл, дверь отворилась, и в купе впустили арестованных. Каждый из них был с большой полотняной сумкой. Дверь закрылась. Новоселы заняли места, закурили. Разговор они вели на латышском языке, презрительно-равнодушно поглядывая на меня. Я с любопытством и настороженностью смотрел на попутчиков. Из разговора понял лишь одно слово «Даугавпилс», которое они часто повторяли. Видимо, это и была станция, на которой задержался поезд. Один из них попробовал заговорить со мной по-латышски. Я отрицательно мотнул головой: «Не понимаю, о чем ты спрашиваешь». Тогда собеседник перешл на русский язык:
— Я тоже русский. Но здесь живу с детства. Откуда, кореш, катишь?
— Из Москвы,— солгал я.
— A-а! К нам, значит, в гости? Залетный?
— Получается так.
— И какими ветрами занесло?
— Как всех...
— Смекалистый. Язык за зубами умеешь держать. Так-то оно лучше: каждому доверяться — хлопот не оберешься. Я вот одному корешу спьяну лишнее сболтнул — и поминай как звали. Схлопотать проще простого. Ничего не стоит. Мусора — тут как тут.
«Значит, уже сидел»,— отметил я для себя и спросил:
— Какая ходка?
— Четвертая будет. Сейчас ни за что схватили. Попросил кореша, чтобы с завода электромоторчик домой принес: пилораму надо было сделать. Он и пустил слушок... Поднадзорный я был. Сразу — под клямку! Отгулял, Михаил, свое. А ты за что?
— За разное. По финансовой части. «Мани, мани...»
— За «капустой» погнался, значит? Но за нее и отмеривают прилично. Так что: валюта или спекуляция?
— И то, и другое!
— А я смотрю: уж больно ты хорошо одет для простой шпаны. По крупняку работал. Воровать, так миллионы, а переспать —- так с королевой? Не то, что я — на кусок не потянул.
— А специальность какая?
— Строитель. Много строил, правда, под конвоем. Но кое-чему научился: и плотничать, и кладку вести могу. Широкий профиль. За семь лет много чему научишься.
Я посмотрел на соседа. На вид ему было лет 30. Черные курчавые длинные волосы, нос с горбинкой, смуглое лицо и большие черные глаза придавали его облику что-то южное. Он был в телогрейке и хлопчатобумажных брюках. На ногах — кирзовые сапоги. Хоть сейчас на зону, да на стройку отправляй. Одним словом — внешность бывалого заключенного.
— Может, у тебя с собой капуста есть? Мы бы по стакановскому ударили?
— Кет, к сожалению. Да если бы и была, где бы ты достал?
— Я-то? Да меня начальник конвоя и прапорщик знают, я бы с ними добазарился. Была бы капуста.
— Была бы шляпа, пальто из драпа, была бы глотка, а к глотке водка, а остальное — трын-трава,— речитативом пропел сосед в клетчатом пиджаке и кепке. Третий молчал, исподлобья огладывая всех. Он был самый молодой из нас — лет двадцати.
— Что это ты распелся, рановато. Ничего еще не сообразили, Владис-Мадис,— оборвал пение мой собеседник. По строгости тона и властному выражению лица можно было догадаться, что он в этой группе за старшего.
— И пить будем, и гулять будем, а смерть придет — помирать будем,— не унимался весельчак.
— Ша, фраер. Закрой хлебало. Незачем привлекать к себе внимание. Промышлять надо.
— Я ж не против. Как только нальешь — я всегда рядом,— оправдывался исполнитель «лирических» песен.
— Всегда вот так, на халяву рот разеваешь.
— А ты что надулся, как индюк? Постучи, узнай, кто соседи. Может, что пожрать подгонят? — приказал чернявый третьему.
Тот послушно придвинулся к решетке, посмотрел в коридор и три раза постучал в стенку, отгораживающую наше купе от соседнего. Оттуда донеслось:
— Говори.
— Мужики, жрать есть? Подгоните: голодные.
— Сало есть. Подгоним.
Вскоре в металлическом дверном проеме соседнего
бокса возле самой стенки появилась рука с куском сала. Промышлявший хотел его взять, однако его рука не пролезла в межрешетчатое пространство.
— Владис, у тебя грабли поменьше. Попробуй, может дотянешься?
Тот подошел и, с трудом просунув руку, взял сало.
— Порядок. Сейчас порежем.
Я теперь ничему не удивлялся. Хотя арестованным запрещалось иметь режущие инструменты, я знал, что у бывалых зэков есть и лезвия, даже ножи умудряются спрятать от обыска. Вот и теперь сосед ловко извлек из подошвы сапога лезвие и, приказав корешам внимательно наблюдать за коридором, стал мелко нарезать добытое сало.
— Земеля, у тебя хлеб есть?
— Есть,— ответил я ему и достал из мешка полбулки пайкового хлеба.
Тот повертел хлеб в руках, брезгливо морщась, понюхал его:
— Узнаю: родной, тюремный. Спецвыпечка. Сожми — вода польется. Разве это хлеб? Труха! Эй, шпана, хлеб сварганьте.
— Динамит! Сейчас подгоним.
— Сундук, спроси, что еще у них есть похавать.
Через некоторое время в купе появился магазинный хлеб и кусок домашней колбасы.
— Налетай, мужики, подешевело: было рубль — стало два,— подал команду Динамит.
Все дружно накинулись на еду. Достался и мне бутерброд. С большим удовольствием и с аппетитом съел все. Потом, тщательно вытирая платком губы и руки, перехватил удивленные и насмешливые взгляды соседей.
— Интеллигент. Может, «корами» поменяемся? Я смотрю, штиблеты у тебя ничего,— предложил парень в клетчатом пиджаке.
— Самому пригодятся,— твердо и спокойно ответил я.
— И костюм у тебя фартовый. Не мешало бы мне такой иметь,— подхватил второй.— Махнем, не глядя, на его пиджак? — кивнул Сундук на клетчатого.
— Знаешь пословицу: на чужой каравай рот не разевай,— стараясь сохранять спокойствие, ответил я и на этот вызов.
— Смелый... Не знаешь, где находишься?
— Знаю одно: всюду есть люди. Я же не на необитаемом острове среди туземцев и мародеров. Или, может, ошибаюсь?
Динамит заерзал на сиденье. Ему явно не понравился издевательски-ироничный ответ «залетного». Но что-то пока удерживало его. Наконец, притворно вздохнув, он изрек:
— Земеля, ты попал в Европу. Здесь у зэков такие законы: сильный дербанит у слабого, у сильного же — сильнейший или толпа. Вари своим котлом и делай выводы.
— Ну что, махнем? — теперь уже активно стал настаивать Сундук.
— Я сказал вполне определенно и окончательно! По утрам уши моешь? — грубо ответил я, уже будучи внутренне готовым к любому развитию событий.
— Ну, смотри, пожалеешь! — с затаенной угрозой предупредил меня «клетчатый».
После этого в купе стало тихо. Только монотонно постукивали колеса, покачивался вагон.
В какой-то момент в двери нашего купе возник невысокий и щуплый прапорщик, в моем представлении — типично еврейского облика. «Странно,— подумал я,— прапорщик-еврей? Видно, имеет неплохой «навар» от службы». Сверхсрочник, держась левой рукой за пояс, на котором болталась дубинка, а правую положив на кобуру пистолета, лениво улыбаясь, обратился к моему соседу:
— А, старый знакомый! Кличку вот только забыл.
— Динамит,— с готовностью отозвался тот.
— Точно, Динамит! И как это я забыл такую знаменитость? Ну а сейчас на чем залетел?
— Кража. Маленькая — больше трех не дадут.
— И то хлеб.
— Слышь, командир, чайку бы сообразить? Капусту найдем,— заискивающе попросил Динамит.
— Не могу! Начальство в вагоне едет,— уклончиво ответил сверхсрочник, окинув меня подозрительным взглядом, и медленно пошел по коридору вдоль камер.
— Самый главный начальник столыпинского вагона. Все вопросы решить может. Капусту любит. Да, видно, не почифирим сегодня: начальство, говорит, едет. Не повезло...
— На этапе сварганим.
— Да мы и так сшибем. Подгонят мужики. Быстрее бы по хатам разбросали.
— Заметил, Динамит, что-то он подозрительно посмотрел на нашего соседа? Видимо, птица непростая.
— Придет время, проверим.
Я закрыл глаза и молчал, приняв безразличный вид. А на душе было неспокойно: «Что за клиенты рядом? На что они способны? Среди арестантской братии разные попадаются. Встречаются даже психически неполноценные люди, не говоря о деградированных, полностью опустошенных, жестоких и даже садистских типах. Надо быть готовым ко всему».
До Риги ехали утомительно долго. По дороге еще дважды останавливались, в вагон прибывали все новые арестованные. Не миновали они и наше купе. Оно пополнилось еще тремя заключенными. Один из них, старый, под шестьдесят, беззубый; другой — лет сорока и третий — совсем юный, скорее всего несовершеннолетний. Между старыми и новыми пассажирами вскоре завязался разговор на общие темы: в основном о тюремной и «колониальной» жизни. Старик, шамкая беззубым ртом, заметил:
— Сейчас молодежь наглая пошла. Такого раньше бардака не было. Я уже по зонам больше двадцати лет отбарабанил. К старожилам всегда и везде уважение и почет, а теперь все кувырком пошло: кто сильнее, тот и прав.
— Это здесь, в Латвии, такой бардак. А я два года в России был в разных колониях, там все чин-чинарем: по старшинству делили,— хрипло заметил мужчина, усевшийся рядом со мной. На левой руке у него отсутствовали два пальца: указательный и средний.
— Да, и я в Сибири четыре года откачал в шестидесятых. Там — порядок. Попробуй, обидь старика — либо перо в бок получишь, либо просись на другую зону. Дер- банщины там никакой нет,— продолжил старик.
— Где это слыхано, чтобы зэк у зэка отнимал его кровную пайку? Или у петуха жратву забирали? Наоборот, его подкармливают. А здесь до трусов разденут, жрачку отберут, а ночью еще и опустить могут,— не унимался мужчина с искалеченной ладонью.
— А где спят петухи и парашники на зоне? — спросил малолетка.
— Как где? Парашники — на шконках, а петухи — как придется: кто на шконке, кто в коридоре, кто на полу.
— У нас, на «пятерке», так одно время на улице петухи спали. Потом начальство понаехало, разгон администрации дало, с тех пор в отрядах стали ночевать,— заявил о себе Динамит.
Я познакомился с соседом: мы с ним оказались почти ровесниками. Звали его Николаем. Русский, но уже давно жил в Латвии, в горпоселке. У него была семья: жена и ребенок.
— И как оклемался в Латвии? — поинтересовался я.
— Нормально. В начале трудновато пришлось: языка не знал. Но сейчас жить можно. Да вот менты не дали.
— А жил как?
— Дом свой, гараж. Пять годков минуло, как срок оттянул. Вернулся и завязал. Да вот потянуло на легкий заработок. Машинами стал интересоваться. Тут-то и залетел.
— Признаешься?
— Две беру на себя. А куда денешься: кореш сдал. В гараж нагрянули мусора. Все облазили. Мотор с чужой машины нашли: номер перебит. Только продавать собрался. Не успел.
— И что шьют?
— Спекуляцию по одной машине и хищение по другой. Думаю, на годков пять потяну? А так жалко! И жена вроде ничего и дочь хорошая растет. А счастья нет. И винить некого: сам дурак.
— Что на роду написано, то, видно, и будет. Мне тоже спекуляцию машинами шьют. А я чист, как детская слеза,— скрывая свое истинное положение, громко, чтобы все слышали, опять соврал я.
— Если не виноват, не законопатят. Сейчас стали осторожно судить. Вон сколько невиновных освобождают. А ментов и прочую сволочь на зоны табунами гонят. Времена меняются,— продолжал старик.
— Скоро легавых и разных бугров на зонах больше будет, чем простых смертных. Зажали сейчас им хвост: пачками сажают. Напились чужой крови,— зло выкрикнул «клетчатый», брызгая слюной.
— Их в тюрьме держат отдельно, и зоны у них специальные,— язвительно пояснил Сундук.
— А куда их, на нашу? Понимают.... К утру и косточек бы не нашли. Сварили бы и на котлеты перекрутили. Был мент, нету мента,— весело заявил Динамит, но в его черных глазах сверкнуло нечто болезненно-жестокое. Так мне показалось. «Узнай только они, кто я на самом деле — языки бы от удивления проглотили». Наш брат юрист (следователь, судья, милиционер, прокурор), известный здесь под кличками легавый, мент, мусор, такую ненависть вызывает в преступном мире, что лучше не попадаться. А уж коли оказываешься, да еще надолго, среди преступников, поневоле приходится жить двойной жизнью: обманывать, изворачиваться, следить за каждым своим словом, за поведением окружающих. Только тот, кто побывает в таком незавидном положении, как я, может понять мое душевное состояние: постоянное психическое напряжение, внутренняя борьба... За разговорами время летело быстро. Сквозь просветы в закрашенных окнах замелькали многоэтажные дома. По коридору торопливо забегали сопровождающие арестантов военнослужащие. Все это подтвердило, что поезд прибывает в Ригу.
Даугавпилская компания из трех человек во главе с Динамитом, окружив безропотного несовершеннолетнего, заставила снять новые кроссовки: ему дали старые. Затем по очереди стали примерять его куртку. Я хотел было заступиться за парня, но обратил внимание, что телосложения тот был довольно крепкого, мог сам дать отпор. К тому же было неизвестно, с кем в дальнейшем придется мне коротать время и в каких условиях пребывать. Толпа есть толпа. В моем положении лучше всего было не высовываться.
...Наш вагон подогнали прямо к Рижскому следственному изолятору, прозванному заключенными «Централкой». Вскоре арестованных вывели и построили в несколько рядов. Яркое летнее солнце слепило глаза. «Хорошо, что погода приветливо встречает, может, так и суд обласкает солнечным светом»,— мелькнула в сознании наивно-вычурная мысль. По привычке стал осматривать окрестный мир. Впереди закрывал горизонт высокий и длинный забор тюрьмы, увенчанный колючей проволокой. Нас окружили плотным кольцом солдаты с автоматами наизготовку. В колонне арестованных было не более сорока человек. Перед центром колонны появился уже знакомый прапорщик и, ужасно картавя, визгливо продекламировал традиционную инструкцию-предупреждение:
— Вы поступаете в распоряжение караула. Шаг в сторону, прыжок вверх считаются за побег. Оружие применяется без предупреждения.
— Шагом марш!
Процессия двинулась в указанном направлении. При нашем приближении широко распахнулись металлические ворота. Арестованных завели в коридор длинного одноэтажного здания, построили, сделали перекличку. Затем, разделив на три группы, стали размещать по камерам-отстойникам — так называют заключенные пред- этапные и послеэтапные спецкамеры, меблировка которых состоит всего лишь из вмурованных в пол длинных пристенных скамеек и туалета. Площадь камеры, куда я попал, была около двадцати квадратных метров. Здесь среди чужих я нашел Кирпиченка, моего подельника, бывшего инспектора угрозыска. Мы радостно поздоровались и, уединившись в сторонке, повели тихую беседу:
— Ну вот, наконец-то приехали,— облегченно вздохнув, заговорил тезка, а в глазах его сквозила неподдельная грусть.
— Да... Прибыли. Как-то нас тут встретят, как обнимут и какие песни нам споют?..— стараясь скрыть внутреннее беспокойство, невесело потушил я.
— Тревожно на сердце: чувствует душа, что здесь нам хорошего ждать нечего. Люди мы здесь чужие: Латвия — не Белоруссия. И отношение к нам будет, как к нежданным гостям.
— Не грусти. Авось, все обойдется? Знаешь, как татары, будучи не согласны с поговоркой «незванный гость хуже татарина», решили ее переиначить, чтобы себя обелить. Думали-думали и придумали: «незванный гость не хуже татарина». Так и мы: не хуже других. Ведь не убийцы и не насильники мы с тобой?
— Оно-то, конечно, так. Однако здесь отношение ко всем одинаковое: уворовал ли ты у государства миллион или убил человека, совершил ли по неведению должностное преступление — всех на один аршин меряют, под одну гребенку стригут и всех вместе содержат.
— Слышь: надо сказать дежурному офицеру, чтобы нас отдельно содержали. Скотов здесь хватает, как бы в какую историю не влезть.
— Когда поведут для документальной сверки, попросим.
— Беспредел полнейший! Такого я еще в своей жизни не встречал. Чтобы так вот, толпой, без разбора загоняли всех в одну камеру и оставляли без присмотра. Здесь могут убить, изнасиловать — и концов не сыщешь.
— Много ты или я по тюрьмам мотались, чтобы выводы делать? Кто знает, как в других делается. Может, еще хуже.
— Хуже, чем здесь, нигде нет. В поезде об этом все говорили. Такой беспредел, открытый разбой и грабеж существуют только в Рижской тюрьме. Мы с тобой были в Минске, Витебске. Но там не только ничего подобного не видели, но даже и не слышали об этом.
— Да, там такой толпой не содержат. А тут — попробуй, уследи за всеми.
В углу кто-то громко заплакал, но вскоре все стихло. Дышать в камере становилось все труднее, она наполнилась табачным дымом. Единственная маленькая форточка почти у самого потолка. Мы с Валерой вспотели, сняли верхнюю одежду.
— Задохнемся скоро. Ты не куришь?
— Нет.
— Я тоже. И сколько нас держать здесь будут? Г олова уже кружится, и в висках стучит.
— И меня тошнить начинает. Куда ж нас поместят? С кем поселят? Вот главный вопрос.
— Путного ожидать, судя по приему, не приходится. Но когда поведут к начальству, буду проситься, чтобы посадили в одиночку.
— Тише говори, а то некоторые уже подозрительно на нас посматривают.
— Да, ухо надо держать востро. Сам знаешь, как нашего брата в тюрьме любят. В вагоне мне пришлось поволноваться: уж больно шустрые в купе со мной пассажиры ехали. Опасался, что когда усну, в сумку мою могут забраться, а там записи по делу.
— Я тоже беспокоился. С собой везу пять исписанных общих тетрадей.
— У меня на глазах двоих раздели. Но ко мне не полезли. Трухнули, видать.
— Я думаю, что должна быть какая-нибудь инструкция, чтобы милицейских, прокурорских работников отдельно содержали во избежание конфликтов и недоразумений.
— В том-то и беда, что правды нам сейчас трудно добиться. В Минске я ходил к начальнику учреждения на прием. Принял какой-то зам. Говорю ему: «Прошу содержать отдельно», а он: «Нет такого указания». И весь ответ.
— Преступники мы сейчас для всех, и отношение к нам, как к преступникам. Ни разговаривать, ни прислушиваться не хотят. Что им до нашего горя, до наших забот? Когда суд? Быстрей бы он начался!
— Валера, давай договоримся: требовать, чтобы нам создали нормальные, безопасные условия существования. В конце-концов, это и в интересах администрации.
— Буду обязательно на этом настаивать. Только как оно получится? Смотри, возле тебя какой-то парень на корточках ползает.
Я обернулся, в полшаге от меня сидел на корточках старый знакомый — сосед по купе в клетчатом пиджаке.
— Чего у моих ног ползаешь? — зло спросил я его. А он, снизу вверх нахально улыбнувшись, сделал вид, что с восторгом рассматривает мои туфли:
— Коры твои мне понравились очень!
— Они мне самому нравятся. А, может, тебе еще и костюм мой нравится? — все более раздражаясь, наступал я.
— Костюм тоже ничего. Махнем? — парень настырно лез на конфликт.
— Согласен, только взамен на твои зубы. Понравились они мне: видно, крепко сидят, что до сих пор на месте. Идет? — спокойно и презрительно глядя в бесцветные глаза, бросил я вызов «клетчатому».
Тот, видимо, не ожидал такого оборота: вскочил, отступил на несколько шагов и растерянно посмотрел на своих корешей. Те с готовностью придвинулись, с жадностью ловя каждое слов нашего «диалога».
— Слушай, а ты не забыл, где находишься? Это же Прибалтика, не Россия, и порядки здесь устанавливают латыши,— злобно и громко изрек Сундук. Мне показалось, что этим обращением он хотел воззвать к национальным чувствам своих «собратьев» и заручиться их поддержкой.
— Мне все равно где. Я же тебе говорил, что всюду есть люди и только мизерное количество подонков.
— Откуда ты такой шустрый к нам прилетел? — отозвался Сундук.
«Ага,— смекнул я,— наверняка «святая троица» здесь в полном составе. Хорошо, если их только трое, а, может, больше? Эх, была не была! Перед всяким дерьмом никогда не унижался и унижаться не буду». И ответил вызывающе:
— А тебе, собственно, какое дело — откуда я? Тебя же не спрашивают.— Ни вопросов, ни ответов не последовало. В камере все притихли, застыв в ожидании дальнейшего хода действия. Но спектакль на этом и окончился. Заметив, что противник не один, а с товарищем, камера молчала, никак не ответив на обращение к «национальной гордости». Даугавпилская группа притихла и не пошла на обострение. От сердца у меня отлегло, напряжение спало.
— Не связывайся с ними. Промолчи лучше! — тихо посоветовал Валерий.
Вскоре после этого дверь камеры отворилась, последовала команда: «Всем без вещей строиться в коридоре». Когда построение закончилось, объяснили, что каждый прибывший должен зарегистрироваться у дежурного по учреждению: назвать фамилию, имя, отчество и статьи, по которым привлекается. Когда очередь дошла до меня, я чтобы не слышали остальные, негромко назвал дежурному капитану СИЗО свои «реквизиты» и попросил поместить меня как бывшего прокурорского работника в отдельную камеру. То же сделал и Кирпиченок. Нас тут же отвели в сторонку и поставили лицом к стенке. Так мы стояли довольно долго, пока не закончилась проверка всех сокамерников. Затем нас развели, разместив по одному в тесные боксы-«стаканчики». С одной стороны, это было хорошо для нас обоих, но с другой!.. В моем «стаканчике» площадью в полтора квадратных метра не было абсолютно никакой вентиляции, а тут еще какой-то негодяй успел нагадить, и дышать было совершенно нечем. Продержавшись в зловонной, удушающей атмосфере около часа, я стал стучать в дверь. Стучал до тех пор, пока не появился охранник.
— Чего надо?
Задыхаясь, весь в поту, сбивчиво объяснил ситуацию. Дверь отворилась, передо мной стоял, как глыба, баскетбольного роста широкоплечий старшина и молча меня разглядывал.
— Пошли! — деловито пригласил он, пропуская меня вперед. Вскоре он привел меня опять в прежнюю камеру. Здесь, как и раньше, было многолюдно и накурено. Оглядевшись, я не заметил среди сокамерников даугавпил- ских знакомцев — и облегченно вздохнул. Увидел знакомого мужчину, который сидел рядом со мной в купе поезда:
— Привет! Кидают из одной камеры в другую. В бокс заперли, подержали и снова сюда вернули.
— Привет! А я думал, что тебя больше не увижу. Здорово ты отбрил шпану, что дербанила арестованных. Наглецы! Думал, драться к тебе полезут. Да струсили. Только беззащитных и раздевают. Садись, поместимся,— подвинулся он.
— В тесноте, да не в обиде,— согласился я, втискиваясь между тесно сидящими.
— Как звать-то?
«Обмануть или сказать правду? — по уже утвердившейся привычке подумал я.— Имя можно назвать».
— Валерий!
— А меня — Иван, по-латышски Ян. Дело у меня к
тебе есть...
— Ну, говори, не бойся,— заметив, что он колеблется, подбодрил я.
— Я уже второй раз сажусь, и мой тебе совет: особо не болтай, если что есть за душой. Многие на «кума» могут работать. «Закозлят» быстро,— шепотом предупредил меня Иван.
— Догадываюсь,— также тихо, притворяясь равнодушным, ответил я.— Мне скрывать нечего: я не виновен.
— Молодец! Парень ты, по всему видать, крепкий. Сам себе на уме. Тебе доверять можно. Не сболтнешь лишнего.
— Меньше знаешь — меньше болтаешь — больше живешь,— вызывая Ивана на откровенность, прошептал я ему.
— Запомни имя: Марис, фамилия Пуркинс. «Козлит», на «кума» работает. Он меня мусорам сдал. Мой подельник. Если встретишь, так ему и скажи: «Ян привет передает. Обещает тебе «крышку» сделать! Говорил, чтобы ты брал на себя, а на него не «стучал». Только обязательно запомни, как его зовут. Это моя просьба к тебе. Передашь, если свидишься?
— Передам.
— Ну и лады. Вся надежда на тебя! Зэки часто встречаются друг с другом: сортировка, перетасовка, этапы... Запомни: фамилия Пуркинс.
— Пуркинс, Пуркинс,— несколько раз повторил я про себя фамилию.— Запомнил, память у меня хорошая.
В действительности память на фамилии была у меня неважной. Я хорошо запоминал события, даты, внешние данные, но фамилии почему-то быстро забывались.
— Ты здесь впервой, не знаешь здешних тюремных законов. В «хатах» приписки всем прибывающим делают. Но обычно тех, кому за сорок, не трогают. «Первостольники» в основном молодежь, от безделья всякие пакости творят. Так ты, когда придешь, говори, что тебе за сорок. Они не проверяют. А если позже узнают — поезд уже ушел...
— Понятно! А где ты пальцы потерял? — не удержавшись, полюбопытствовал я.
— На зоне. Вкалывал, врагу не пожелаешь. Норму давал. В спешке под бензопилу руку и сунул. Перед этим начифирился: чертики в глазах летали. Тогда «усилок» был, а сейчас «строгач» обеспечен.
— Говорят, на строгом лучше, чем на усиленном. Как здесь, я не знаю.
— На строгом лучше, конечно. Люди там — не с первой ходки. Малость кумекают, что к чему. Беспредела нет. Все одинаковые. А по первой всякий сброд блатных и нищих. Кто силен, тот и пан. Не думают о будущем. А на строгом уже приходится башкой шевелить. Попал второй или третий раз, значит, ты уже прописался. А жизнь, она большая: сегодня ты сильный, а завтра — заболеешь, вот и слабак. Да и выживать вместе сподручней, чем в одиночку. Потому и стараются ладить друг с другом.
— Да, в тюрьме своя философия, на зоне — другая, да еще и от режима зависит. Сложно все это. А на первый взгляд кажется: зэки одинаковые и законы у них одни и те же. Оказывается, очень много тонкостей.
— А как же. Особый — там вообще тишь да благодать. Мудрые все собираются. А здесь, на общаке, беспредел. Дубовье: пока оботрется, скумекает что к чему, так и срок оттарабанил. А кто не впервой, тот сразу начинает крутиться, приспосабливаться: как бы лучше устроиться, где бы что провернуть — водочки, чифирчика, «колес», чтобы кайф поймать.
Мы проговорили несколько часов. Публика в камере постоянно менялась. Некоторые из пополнения были в тюремных робах и даже в полосатых. Беспрерывно прибывали все новые этапы, и работники изолятора не успевали перелопатить и четко распределить людей. В камере буквально нечем было дышать: постоянная дымная табачная завеса, вонь от унитаза, который постоянно был кем-нибудь занят, испарения вспотевших разгоряченных тел. Многие сидели в одних рубашках.
— Перевалочная база. Я уже забалдел. Осталось только кайф поймать и лечь на пол,— с одышкой простонал Иван, вытирая потный лоб.
— Приехали мы часов в одиннадцать, а сейчас уже, наверно, часов пять вечера. Получается, что мы торчим здесь шесть часов? Ну и...
— Да уж больше пяти, пожалуй, будет. Издеваются над нами, и не пожалуешься. Мы сейчас бесправные губы!™0 °ДН0 ПРаВ° “ М0ЛЧЗТЬ’ СТИС«УВ зубы. Душе:
- Может они про нас забыли? Поступают все новые и новые. Они их обрабатывают, а наши карточки отложили'
— Над°
- Не надо: все они знают. Да только не спешат, что им до наших мук? Но должны скоро вызвать, рабочий день у них заканчивается. F
vn И получилось- Назвали Фамилию Ивана, а потом мою. Вывели в коридор, поставили лицом к стене. Через непродолжительное время завели в комнату, приказ!™ раздеться догола. л
- Шманать будут,— шепнул Иван
- Не разговаривать! Запрещенные предметы есть’ Если имеются, лучше выдайте добровольно,- зычно распто ИЛСЯ пРаПОРЩИК. В РуКаХ У Него были заполненные карточки. Разделись сделали несколько приседаний После тщательного обыска нам возвратиЛи одежду. В заключение прапорщик предупредительно посоветовал мне’ «Лишние, не очень нужные сейчас вещи лучше сдать в склад на хранение, целее будут. А за вещи, пропавшие в камере, администрация ответственности не несет»
- Как же так? А если арестованный пропадет, ад
министрация за него отвечает или тоже нет? — прикинулся я простачком. F
- Грамотный шибко! Ничего, оботрешься. Давай герои, быстрей поворачивайся! - Но вдруг, посмотрев в мою карточку, прапорщик сбавил тон и, немного покраснев, стал уже извиняющимся тоном объяснять трудности с которыми сталкиваются работники СИЗО'
- Оно, конечно, и за вещи арестованных несем ответственность, но разве за всеми уследишь? Воруют как крысы, друг у друга. Ничего поделать не можем,-’развел он руками,- Не хватает у нас людей. На такую адскую работу никто идти не хочет. Вот сегодня уже пятую партию принимаем: с утра до вечера на ногах, не присел даже. А люди все идут и идут. Откуда берется столько’
И каждый старается обмануть, оскорбить. Каждый свое доказывает. Плюнул бы да уоежал, Но стаж держит- до выслуги восемь лет осталось. Куда же мне вас на ночь поместить?
- Туда, где безопаснее. Сами понимаете ситуацию
- Я-то понимаю, потому и размышляю. Ладно, с несовершеннолетними ночь переспите, а завтра начальство пусть решает. А вещи все-таки лучше сдать.
— Хорошо. Забирайте все, только оставьте мне рубашку, пару носков и комплект нижнего белья. Я в целлофановый мешок сложу.
— Нет! У нас не разрешается целлофан с собой иметь. Придется вам сверточек сделать. А мешки мы заберем на склад. Не положено по инструкции. В четырнадцатую отведите,— крикнул он появившемуся в дверном проеме высокому старшине.
За разговором с прапорщиком я не заметил, когда увели Ивана. Обидно было, что не попрощался с ним.
Старшина быстро шагал длинными ногами, я еле успевал за ним. Пройдя несколько коридоров, оказались перед дверью, над которой темной краской была написана цифра «14». Нова камера была пуста. Площадь ее была примерно три на четыре метра. Слева у двери — ниша с грязным унитазом, рядом — большая куча почерневшего от времени мусора. Вверху противопложной от двери стены, на уровне поднятой руки, в конце прохода между двумя трехъярусными койками, сквозь мутные потрескавшиеся и местами отколотые стекла цедился слабый свет. Обрадовало, что это пыльное грязное окошко с двойными рамами было без «намордника» или «ресниц», что позволяло увидеть полоску неба и рельефную крышу здания напротив — с лепным орнаментом по карнизу и красивыми башнями. Обрадовал меня и деревянный пол камеры, пусть и с облупившейся краской. Дерево под ногами — совсем не то, что мертвый холодный бетон во всех камерах, где я успел побывать за месяцы заточения.
Еще один трудный день близился к кощу. Только рано утром в поезде удалось съесть бутерброд с салом и кусочком колбасы, которым поделился кто-то из товарищей по несчастью. Больше за весь день во рту ничего не было. Получив, как мне казалось, относительно безопасное место жительства в казенном доме, только теперь почувствовал, что страшно устал. Едва прилег на металлическую скрипящую койку, как камера поплыла, закружилась, и я заснул. Меня разбудил скрип двери и мужские голоса. С трудом разлепив тяжелые веки, я увидел двух парней, стоявших в нерешительности у входа. Вскоре они двинулись к койкам. Опершись руками о перекладину, я привстал и с любопытством рассматривал своих сожителей. Один был темноволосый, курчавый, невысокого роста, с темными глубоко посаженными глазами на бледном лице. Довольно крепкого телосложения, в приличной одежде, он вызвал у меня неосознанное доверие. Второй даже в слабом освещении камеры казался огненно-рыжим. Растрепанная копна волос, веснушчатое загорелое лицо, беспокойные светлые глаза, пестрая одежда, состоящая из синих потертых джинсов в темных кожаных заплатках, белой болоньевой куртки на замке-молнии, из-под которой виднелась темная фланелевая рубашка, потрепанных до дыр кроссовок. Оба были несовершеннолетними.
Они устало опустились на койки, закурили, и, не скрывая любопытства, стали молча разглядывать меня. Не выдержав затянувшегося молчания, я заговорил первым:
— Ну что, Джигиты, видно, нам вместе ночь ночевать. Давайте знакомиться. Меня зовут Валерой.
— Я Харис,— лениво ответил рыжий.
— Меня Юрой,— тихо произнес второй.
— Откуда будете?
— Я из Резекне, а он из Риги,— за двоих ответил рыжий.
— Ясно. Первый раз, видно?
— Он — первый. Я — второй. Сидел на зоне год. Вышел, полгода погудел и снова сюда,— Харис, кажется, гордился своей биографией.
— А когда ж у тебя волосы успели отрасти? За полгода вряд ли такие длинные вырастут.
— Из зоны пришел — больше двух пальцев были. Да еще на воле почти семь месяцев. Растут очень быстро,— притронувшись к голове, пояснил он.
— Только мыть их все равно надо, а то вон какие лохматые и слипшиеся: ни одна расческа не возмет.
— Времени не было. Свобода, она и есть свобода. Дни и ночи — в бегах да в делах. Малость погулять успел, а завтра их все равно остригут. Попрошу, чтоб наголо.
— А ты куришь? — спросил Хирис. Его зрачки напряженно-выжидательно сузились.
— Нет. Не курю, здоровье берегу. И вам советую поберечь.
— Жаль, а то у нас осталось только две сигареты. А насчет здоровья ты брось. Мой дед самосад курил и 90 лет прожил. Знаешь присказку: «Кто не курит и не пьет — тот здоровенький умрет».
— Слыхал. Все можно придумать в оправдание своей слабости. А дед твой, если бы не курил, может, и больше ста лет прожил бы.
— А зачем? Он часто говорил: «Надоело, внук, жить. Быстрее бы помереть». Как пришла пора, отдал концы, царство ему небесное.
— А ты, Юрий, что молчишь? Рассказал бы нам про своего деда, что ли? — попытался я разговорить молчаливого юношу.
— А что говорить? Скучаю по матери. Как там она? Плачет, наверное. Брат в первый класс в этом году пойдет. Тяжело ей будет без меня,— печально вздохнул Юрий.
— Квартира-то есть?
— Есть.
— Мать где работает?
— На заводе, монтажница радиоаппаратуры.
— На конвейере?
— Да.
— Нелегко на конвейере, но зарабатывает, видимо, хорошо?
— Бывает, под триста выгоняет. Нас надо кормить, одевать. Я только в этом году пошел работать, к ней на завод. Всего два месяца продержалася — и под замок.
— А натворил-то что?
— Хулиганка. Выпили, пошли впятером в кинотеатр. Ну а билетерша не пускает в зал: пьяные, мол, ребятки. Идите, проспитесь. Один из нашей компании — ей кулаком в лицо. Ясное дело, народ набежал, давай нас унимать. И поехало: витрину разбили, кое-кому «юшку» пустили. Легавые нагрянули, как гром с ясного неба, и в машину. Ночь в ментовке просидели, а утром к прокурору, и под стражу. Влез в дерьмо, как теперь выбраться, не знаю. Неужели посадят, а?
— Ты уже сидишь. Чего теперь ныть? Раньше думать надо было. На учете состоял? — пренебрежительно спросил Харис.
— Нет не состоял.
— А характеристика как?
— Положительная будет. Нигде не наследил, особо не пил.
— Отделаешься условным, сроком или исправительные работы получишь. У меня вот хуже. Раньше за раз- бой сцапали. Тогда мы втроем у одного чувака котлы сняли, у другого, военнослужащего, лопатник с зарплатой отобрали, маленько перышком пощекотали. Так мне, как соучастнику и самому младшему, два года сунули, а моим кентам — кому шесть, кому пять. А теперь и мне годков пять светит. Второй раз, нигде не работал, бродяжничал.
Все соберут: что было и чего нет. И так хотели мне пять квартирных краж навесить, еле-еле отмазался. Обалдели, что ли? Два раза по шее мусора врезали: «Бери,— говорят,— твои квартиры. Сало, колбасу дадим, кофе пить будешь». А зачем мне та кава, когда потом лет пять-шесть голый вассер хлебать? Дураков нет. Сказали бы, что на свободу пойдешь, так и десять бы взял на себя, а в крематорий идти — нет, уж, увольте. Фигу вам с маслом. Дураков в другом месте пусть поищут. Научен!
— А за что арестовали?
— Мотоцикл с коляской у одного из гаража угнал. Вначале даже не заметил, что он без одного колеса. А потом разглядел, да жалко было бросать. Километров пять по лесу ночью тащил его. Уморился, страх. Потом загнал его одному знакомому корешу за два «куска». Мало, правда, взял. Но надо было побыстрей товар сбыть, да смываться в другой район. Две кражи квартирные — моя работа, не отказываюсь. А чужие не возьму. Так им, собакам, и сказал: «Чего не делал, не возьму, хоть убейте!» Шея вот и сейчас еще побаливает,— Харис покрутил головой, погладил рукой затылок, притворно сморщился.
— А мне никто не предлагал брать на себя еще какое- нибудь преступление,— удивился Юрий.
— Что тебе: ты еще молодой, неопытный. Да и краж, за тобой не водится. В суде сразу определят, что не твоя работа. А мне кто поверит? Если две квартиры обчистил, так почему не больше? Понимать, «Федя», надо! Ничего, поживешь с мое — поймешь.
— На мой взгляд, вы одногодки? Сколько тебе, Юрий?
— Семнадцать.
— А тебе?
— Семнадцать и два месяца.
— И у меня два месяца. В каком ты родился?
— 26 мая.
— А я 29-го.
— Подумаешь, на три дня старше.
А чего у тебя, Юрик, рваные и как будто не твоего размера кроссовки? — поинтересовался я, уже догадываясь об ответе.
Подковали. Когда привели в этапку, то в камеру, где я сидел с одним стариком, человек пятнадцать сунули. Как навалились на меня, пришлось «подарить». Они у меня ничего были, импортные, «Адидас». С тремя драться не будешь. Хорошо, что куртку с собой не прихватил, в ментовке следователю оставил, чтобы матери передал. А то и ей бы «ноги приделали». Ну и порядки!
— Когда в тюрьму садишься, одевать надо самое худшее, тогда никто на твое не позарится и не разденет. Посмотри на мою одежду: куртка грязная, в заплатах, джинсы — тоже. Со временем и ты поймешь,— сказал я.
— А я и так понял, сюда я больше не ездок. Лишь бы отпустили. Как ты думаешь, Валерий, пожалеют?
— Скорее всего домой пойдешь. Здесь только, смотри, не натвори чего. А то позвонят из изолятора судье — и не видать тебе свободы, как собственных ушей.
— Хорошо, что предупредил. Не влезу. Мозгой шевелить буду. От греха подальше.
— А мне наплевать: все равно жизнь пошла наперекосяк. Ничего хорошего ждать не приходится. Быстрей бы на зону, а там развернусь, погуляю. Опыт есть,— ухмыльнулся Харис.
После сна мне захотелось перекусить. Вспомнил, что в сумке осталось полбуханки дорожного хлеба. Разломив его на три части, предложил каждому по куску. Ребята здорово проголодались и, быстро умолотив хлеб, стали укладываться спать. В этапные камеры постельные принадлежности не выдавали, пришлось ложиться на холодные железные пластины, вваренные в раму койки. Уложенные квадратным способом на большом расстоянии друг от друга, они врезались в тело. Я постелил свой плащ и лег на него, положив под голову сверток с бельем и тетрадями. Юноши легли напротив — Харис на нижней койке, Юрий залез на второй ярус. Хотя окно перед сном тщательно прикрыли, через разбитые стекла дул холодный ночной ветер. Сморенные усталостью сокамерники быстро уснули, но не надолго. Вначале проснулся Юрий. Стуча от холода зубами, он тихо слез с койки и, чтобы согреться, начал энергично делать физзарядку. Очевидно, он разбудил Хариса и тот, недовольно что-то проворчав, повернулся на другой бок, пытаясь снова уснуть, но это ему не удавалось. Он долго ворочался, вполголоса проклиная судьбу и всех на свете. Но и это не помогло. Наконец, злой и продрогший до костей, он вскочил и последовал примеру Юрия. Они приседали, сгибались, разгибались, взмахивали руками, ногами. Их сопение, хрипы, кашель и холод разбудили и меня. Ныла затекшая от впившихся пластин правая сторона продрогшего тела. Озноб становился все сильнее.
Лежать больше было невозможно. «Уж лучше умереть, чем так мучиться». Но эта мысль исчезла также быстро, как и появилась. «Нет, нет,— упрямо твердил внутренний голос.— Надо жить, чтобы бороться и победить, отстоять истину, быть в полной готовности к нападению и защите. Ведь впереди суд, а он сулит мне надежду на спасение, на благоприятный исход дела».
Я вскочил и тоже, как подростки, стал приседать, прыгать, размахивать руками. Через несколько минут почувствовал, что согреваюсь, наполняюсь теплом. Прекратив упражнения, несколько раз прошелся по камере: пять шагов от двери до окна — и обратно. Постепенно восстанавливалось глубокое дыхание.
Ребята не спали. Понуро опустив полусонные головы, они сидели на кроватях, поеживаясь от холода.
— Что приуныли, орлы? Выше носы,— попытался я подбодрить их. Подойдя к окну, попробовал рассмотреть через грязные мутные стекла знакомые звезды. Но опознать ни одну из них не смог: слишком малое пространство открывалось взгляду.
Закурить бы... Хоть бы пару затяжек, и потеплело б на душе,— сонно-мечтательно протянул Харис.
— И я бы с удовольствием покурил,— поддержал Юрий и тяжело вздохнул:
— Эх, угораздило же меня связаться с корешами с соседней улицы, как будто на своей не хватало. И как глупо влип! А теперь вот кукуй — холодный, голодный, неумытый. А что дальше будет? Бог весть.
— Опять заскулил. Умойся: вон вода из крана капает. Или крыс боишься? Я одну уже видел. Голову высунула из унитаза, увидела нас — и обратно.
— Не боюсь я крыс: на душе тошно.
— Кому нужна твоя душа? Спрячь ее подальше и не показывай никому, а то отнимут все, что осталось. Стисни резцы и молча жди. Пройдет время, пробьют часы и снова будет воля, «Вася»!
— То-то очень ты нагулялся на воле: полгода — и снова за решетку. На кой мне такое удовольствие? Работать буду. А там в армию пойду, если возьмут. И все станет на прежние рельсы.
— Мечтать не вредно. А я откинусь, снова бродяжничать пойду. Люблю простор, независимость, дым костра, испеченную в золе картошку. Балдеж... Приключения! Романтика,— гнул свое Харис.
— Тюрьма, зона. А жрать как хочется! Один раз только утром кружку чая с хлебом выпил, да сейчас кусок съел и все. Уже кишки к спине прилипли.
— Я бы тоже с удовольствием поел. Жареной картошки, кусочек курочки, в духовке испеченной, да малосольный огурчик.
— С грибами можно, с зеленым горошком, с капустой. Мое любимое блюдо — оладьи с клубничным вареньем или сметаной. Жаркое люблю...
— А я больше всего шашлыки, приготовленные на свежем воздухе. В крепком соусе, с луком, вином политые. А мясо чтоб было молодое: возьмешь, само во рту тает. Да бокальчик пива к нему. Балдеж!.. А из грибов больше всего люблю лисички, мелко нарезанные, с луком, с маслом, да к ним — хрустящей поджаренной картошки побольше.
— Скажи, Харис, а родители у тебя есть? — перебил я гурманов.
— А как же? Кто это без отца и матери на свет появляется? Только отец мой из тюрьмы не вылазит. За последние десять лет всего раза три и видел его. И то — был «под газом». А мать живет с каким-то хахалем. Забулдыга хороший. Да и сама попивает. Вот и разошлись наши дорожки. С отчимом — невыносимо. Мать больше тянется к нему, чем ко мне. А я между ними — лишний. Они сами по себе, я сам. Дома бываю редко. Летом — в основном на природе, а зимой по корешам, кентам шатаюсь. Дела крутим!
— А скажи, были бы у тебя хорошие родители: не пили, друг друга уважали, в доме — достаток и покой, за тобой бы смотрели. Ушел бы ты из такого дома?
— Зачем, когда все есть? Тишь и благодать. От добра добра не ищут. Купил бы себе маг. Слушал бы! Музыку люблю. На гитаре струны рву.
— А у меня все было: и магнитофон, и квартира, мать добрая. Отец ушел к другой. Но тоже не забывал: иногда деньжат подкинет или что купит. Шофером работает на дальних рейсах. И чего мне не хватало? Все потерял...
Остаток ночи заняли у нас разговоры, ходьба, гимнастические упражнения. Так было теплее. Как только наступило утро, мы с нетерпением стали ждать момента, когда откроется кормушка, и в ней появятся хлеб, миски с баландой и кружки с горячим чаем. Когда наше терпение было уже на исходе, в проеме показалась голова баландера:
— Сколько вас?
— Трое!
Каждый получил полбуханки хлеба, миску горячего супа и кружку чаю. Когда тележка отъехала, Харис возмущенно буркнул:
— Черт! Надо было сказать, что нас четверо. Может, на четырех и пайку бы выдал.
— Разинул пасть: он же вначале посмотрел в камеру, а уж потом выдавать стал. Да и рядом с ним работник СИЗО стоял со списком.
На первое была баланда из пшеничной крупы, заправленная прогоркшим подсолнечным маслом. Очевидно, юноши не отличались привередливостью, оба быстро опорожнили миски. Я же, хлебнув несколько ложек, предложил им съесть и мою долю. Они с удовольствием согласились и мгновенно разделались с добавкой. «Чай» все пили с упоительным наслаждением, хотя слегка подкрашенный кипяток чаем можно было назвать лишь условно, но он согрел наши озябшие внутренности. Хлеб был тюремной спецвыпечки: глинисто-вязкий, с горысо- вато-кислым привкусом.
Не успели мы закончить утреннюю трапезу, как за дверью прозвучала команда:
— Всем собираться в баню!
Голому собраться — только подпоясаться. Так и арестованному. У меня было с собой домашнее махровое полотенце, предусмотрительно переданное моей заботливой женой вместе с трикотажным костюмом и двумя комплектами нижнего белья. Были у меня и необходимые туалетные принадлежности: мыло, мыльница, зубная щетка, зубной порошок. В следственном изоляторе не разрешалось пользоваться зубной пастой, был разрешен только зубной порошок: изготавливать из него опьяняющее, одурманивающее питье заключенные еще не научились.
Когда нашу тройку вывели в коридор, там уже выстроилось человек двадцать арестованных. Строем повели в банное отделение. Сначала шли по длинным коридорам, перегороженным множеством дверей. Потом через тюремный двор вдоль линии бетонных Г -образных столбов, увенчанных струнами колючей проволоки. За столбами тянулась распаханная и тщательно взрыхленная следовая полоса шириной метра два-три. Беглец обязательно оставит на ней свои следы. За следовой полосой тянулся высокий забор из железобетонных блоков.
Банное отделение размещалось в отдельном одноэтажном домике и состояло из нескольких комнат. Наливая в тазик воду, я неожиданно в нескольких шагах от себя увидел недавнего знакомца — Динамита. Его крепкое, хорошо сложенное тело украшали три татуированных рисунка: на правой руке, на уровне плечевого сустава — кинжал, обвитый змеей; на левой руке, ниже локтя — череп с перекрещенными костями; на спине — изображение обнаженной женщины. Такое украшение тела — наглядный «диплом» о прохождении «колониальной» исправительно-трудовой терапии. Динамит тоже увидел меня, но сделав вид, что не узнал, повернулся спиной. Значит, его кентов с ним не было. Изредка наблюдая за ним, я заметил явные признаки беспокойства и тревоги: Динамит несколько раз подходил к закрытой двери соседнего банного отделения и, наклонясь к замочной скважине, называл клички друзей, наверное желая убедить окружающих, что они рядом и могут прийти на помощь. Он помылся раньше всех и пошел одеваться. «Нашкодил, врагов себе нажил, а теперь трусит»,— злорадно подумал я и вышел в предбанник вслед за Динамитом. Увидев меня, он отступил на несколько шагов, с беспокойством поглядывая вокруг.
— Ну что, на сей раз туфли не хочешь заполучить? — язвительно спросил я.
Он покраснел и, часто моргая, чуть заикаясь, произнес:
— Зачем мне твои туфли? Мы же еще в купе с тобой сало и колбасу вместе ели.
— A-а, и про колбасу с салом вспомнил? А я вот другое еще помню.
— Брось... Кто старое помянет, тому глаз вон,— немного осмелев, хрипло выдавил Динамит.
— Так, может, все-таки силой померяемся? — наступал я.— Парень ты крепкий. А как на самом деле?
Динамит настороженно посмотрел на меня:
— Зачем нам ссориться? Было бы что делить. Забудем прошлое. Извини, кент. Я же ничего...
— Дрожишь. Теперь тебе страшно? А толпой на одного, конечно, можно и нужно? Ладно, на первый раз прощаю и советую: брось дербанить и крысятничать. Времена меняются: при случае припомнятся тебе старые грехи. А ты еще молод. Жить, наверное, хочешь, да?
— А кто не хочет жить? Все хотят! Там видно будет,— уклончиво ответил он и облегченно вздохнул.
После бани нас повели на медицинскую комиссию. Фотографировали, брали кровь из вены, осматривали тело, записывали что-то в личные медицинские карточки. Мне удалось отказаться от сдачи крови, сославшись на то, что у меня кровь брали в Минском СИЗО, о чем есть отметка в медкарточке. Женщина-врач лет пятидесяти долго искала карточку и, не найдя ее, позвонила в спецчасть. После долгого разговора заявила, что постарается кое-что сделать для меня.
И вот я снова в этапной камере, и снова с нетерпением жду, куда меня определят и кто окажется рядом. Время шло, а за мной никто не приходил. Хотя баня сняла усталость, все тело снова заполнила ломота, разбитость. Видно, постоянные переживания, недоедание, недосыпание и неопределенность истощили силы. Клонило ко сну. В камере потеплело. Через распахнутое окно, насколько позволяли двойные рамы, дул теплый летний ветер. Солнца не было видно, монотонно шуршал мелкий моросящий дождь. Только непрерывный гул, казалось пронизывавший все здание, неприятно действовал на нервы, раздражал до боли в сердце. От всего этого я чувствовал себя одиноким и беззащитным, как никогда, никому не нужным в этом мире, всеми проклятым и позабытым. Черная тоска и грусть овладели мной.
Вдруг загремел засов, в просвете двери возникла фигура красивой молодой девушки. Я удивленно уставился на нее. Девушка назвала мою фамилию. Вскочив, я стал торопливо собирать свои вещи.
— Вещи не берите,— предупредила она. Мягкость и нежность этого голоса удивительно освежающе подействовали на меня: мой слух уже привык к командам, отдаваемым грубыми мужскими голосами.
Как мальчишка, зардевшись, не в силах отвести глаз от красивого лица с нежными щечками, курносым носиком, сочными алыми губами и большими голубыми глазами, я застыл на месте. Лишь потом послушно побрел за ней. Военная форма (китель, юбка) была сшита по фигуре и хорошо подчеркивала ее достоинства: узкие покатые плечи, тонкую талию и широкие бедра. Стройные ноги в темных колготках; маленькие босоножки стучат каблучками. Удивительное дело: во мне вдруг стало пробуждаться мужское начало. За многие месяцы заточения я не только не соприкасался ни с одной женщиной, но даже не был так близко, как сейчас, когда четко слышал даже ее дыхание. Я весь напрягся, пытаясь
подавить желание хотя бы коснуться ее руки.
Приведя меня на второй этаж, таинственная незнакомка открыла железную дверь отдельного бокса. Звякнул замок, и я снова остался в гордом одиночестве. Решил детально осмотреть свою крепость. У самого потолка виднелось маленькое окошко. За стеной слышались покашливание, тяжелые вздохи. Арестованные прозвали эти боксы стаканами.
Слегка освоившись на новом месте, три раза постучал по стене, вызывая соседа на переговоры. Немедленно услышал негромкий бас: «Говори!»
— Куда это нас привели? — поинтересовался я.
— Ты что, первый раз? Кумовья здесь находятся: заместитель, хозяйка. «Сам» этажом выше.
— А-а-а, понятно. Начальство, значит. А я-то думаю, почему здесь так чисто и воздух другой.
— А что они должны с тобой в камере вонь нюхать? Откуда ты?
— Из Москвы. Этапом вчера прибыл.
— Столыпинским поездом, что ли?
— А бог его знает, столыпинский он или аракчеевский, или еще чей.
— Столыпинский, столыпинский. Вагоны, в которых теперь зэков возят, при Столыпине появились и служат они по сей день, и еще долго им по Союзу кататься. Нашего брата не убавится.
— А ты откуда?
— Из Краславского района. Слышал о таком?
— Понятия не имею.
— Все-то вы понятия не имеете, а прете в нашу Латвию, как бабочки на огонь. Латышу из-за вас повернуться негде. Нашли лакомый кусочек,— бас явно клокотал злостью, недовольством.
— Я сюда приехал не по доброй воле: меня привезли. Как и тебя могут в Россию законопатить. Мы люди подневольные.
— А я про тебя и не говорю: ты такой же несчастный, как и я. Я про тех, кто к нам жить приезжает и нам свободы не дает. Мы бы сейчас не так жили, если бы поменьше отдавали голодной России. Нам бы отделиться Вот тогда мы бы показали всем, как жить надо...— уверенно прогремел бас.
— А ты не боишься, что за такие речи...
— А чего там бояться? Наши газеты местные почитай, не то узнаешь. Про разное пишут: люди свободы хотят, недовольны властью. Я — что, я — человек маленький, как все,— уже тише произнес незримый сосед.
За дверью простучала дробь женских каблучков, и та же девушка приказала следовать за ней. На сей раз она привела меня в просторный служебный кабинет, большую часть которого занимали два рабочих стола, длинных, стоящих друг против друга; третий, поменьше, притулился у входа. За ним ехидно улыбаясь сидел майор внутренней службы. Его оценивающий взгляд, величественный жест руки, которым он указал на стул, предназначенный для меня, холеное, чисто выбритое красивое лицо, обрамленное густой черной шевелюрой, как бы специально подчеркивали мое теперешнее «низменное» положение. Во взгляде его черных без зрачков глаз без труда читались напыщенная самовлюбленность и отталкивающая, дуболомная грубость ограниченного человека, наслаждающегося данной ему властью.
Так-так...— глядя на меня в упор своими черными «двустволками», скрипучим тенором медленно затянул майор,— Не повезло вам крупно: я читал ваше личное дело. Обвинение серьезное. Видимо, к нам надолго. А моя обязанность вас устроить. Судя по данным, в Минске вы находились в камере вместе с несовершеннолетними. Здесь я курирую этот участок и поэтому решил также поселить и в нашем СИЗО к несовершеннолетним. Они нуждаются в присмотре, а инструкторов у нас не хватает. Вот только какую камеру вам лучше определить? — он принял позу роденовского «Мыслителя» и сделал вид, что напряженно изучает лежащий перед ним список камер.
Я не преминул воспользоваться паузой в монологе:
— Понимаю, как ответствен ваш пост и как много у вас забот. Но прошу войти и в мое положение. Скоро суд. Мне необходимо тщательно подготовиться к нему. Дело в том, что я действительно не виновен в предъявленном обвинении и мне, как ни странно, все время приходится быть самому себе адвокатом. Надеяться не на кого. Думал, следствие в конце концов разберется. Но доследование оставило все без изменений. Поэтому убедительно молю вас: поселите меня одного, чтобы я смог спокойно все проанализировать и обдумать...
Не будем зря терять время! — резко-безапелляционно прервал майор.— Одного я вас не поселю: не положено по закону. Сами знаете, для этого необходима санкция прокурора. А во-вторых, у нас нет такой возможности. Пойдете вы в камеру...
— Извините, что перебиваю. Но мне известно, что у вас много незаполненных камер. А что касается санкции... Я напишу заявление.
— Я же вам русским языком объяснил: одного содержать не будем,— майор побледнел от раздражения.
— Тогда, учитывая то, что я бывший работник прокуратуры, прошу вас, поселите меня в камеру с такой же категорией лиц. Это необходимо и для моей безопасности и для того, чтобы меня не вынуждали лгать, изворачиваться, когда заходит речь о моем истинном социальном лице. К тому же у меня с собой конспекты по делу. Их всегда можно прочесть, уничтожить и тем самым навредить мне. Должны же у вас быть нормативные документы, хоть как-то регламентирующие содержание в СИЗО работников правоохранительных органов? Разве правомерно держать арестованного в атмосфере постоянного страха? — используя весь арсенал доводов, я пытался переубедить этого службиста.
— У нас нет инструкции на ваше отдельное содержание. И где я вам возьму таких, как вы? Такая категория для нас — не частые гости. Пойдете к несовершеннолетним. Их-то вы не боитесь? Что они вам сделают?
— Чем отличается арестованный за убийство семнадцатилетний деградировавший дылда, у которого косая сажень в плечах, баскетбольный рост, от арестованного за спекуляцию тридцатилетнего «малыша» комплекции Чарли Чаплина? У меня суд на носу. Вы же хотите убедить меня, что находиться дни и ночи заточения в этой толпе — для меня самое спокойное и надежное место,— уже с нескрываемой раздраженностью, чуть повысив голос, сопротивлялся я.
— Хватит болтать! Я вас сюда не сажал. Сами знаете, что не в санаторий приехали. И будет так, как мы хотим! Все вы грамотные и умеете красиво говорить, глухим от душившей его злости голосом заключил майор. Затем, пытаясь подавить свое раздражение, более миролюбиво спросил: — Так куда вас лучше поместить: в многоместную или шестиместную?..
Поняв, наконец, что в моем положении вообще было верхом безрассудства спорить с властью, смиренно попросил:
— Лучше туда, где меньше.
Майор внимательнее посмотрел на меня, затем, нахмурив брови, снова принял позу «Мыслителя» и вдруг с деланно доброжелательной улыбкой, всем видом подчеркивая, что делает мне большое отдолжение, со вздохом объявил:
— Ладно, так и быть. Пойду вам навстречу: поселю в 273 камеру. Это лучшая на этаже. Там, правда, уже один инструктор есть. Вы будете вторым. А дальше — посмотрим.— Захлопнул мое личное дело, решительно встал из-за стола, давая понять, что разговор окончен. Позвал девушку-контролера и приказал ей отвести меня в камеру.
Девушка сперва отвела меня все в тот же стакан. Оставшись наедине с собой, стал подводить итоги неудачного визита: мои планы тщательно подготовиться к предстоящему процессу рушились. Условий для этого никаких не будет. «Что этому чопорному холеному чурбану до моего горя? Такие больше думают о себе. Стандартный болт-винт бюрократической машины. Колеса вертятся, винтики не скрипят, зарплата идет и начальство довольно»,— с обидой и злостью думал я.
Вскоре девушка-контролер извлекла меня из стакана, завела в этапную камеру, позволив собрать вещи, и повела на третий этаж корпуса. Теперь присутствие красивой, благоухающей приятным дезодорантом и французскими духами девушки абсолютно не волновало меня и не затрагивало никаких чувств. На душе было беспокойно и скверно.
В камере я оказался под перекрестным обстрелом нескольких пар любопытных глаз. Пропустивший меня вперед работник СИЗО объявил: «Новый инструктор... Чтобы в камере был порядок». И тотчас ушел. Никто не шелохнулся. Я вдохнул уже привычный затхлый камерный воздух. Выдержав паузу, с достоинством спросил:
— Мужики, кто укажет мне место, чтобы можно было спать спокойно, все видеть и слышать?
Но и теперь никто не ответил. Только с правой койки поднялся невысокий пожилой мужчина и, приблизясь ко мне, протянул руку:
— Будем знакомы: меня зовут Николай.
Взглянув в морщинистое, с мелкими чертами лицо
инструктора № 1, которому некоторую значительность придавали большие залысины и длинные, седые, гладко зачесанные назад волосы, я представился:
— Меня зовут Валерий.
По следовательской привычке обратил внимание на осанку старшего в камере, на то, как он прямо держал свою небольшую голову. «В миру, очевидно, был начальником». Обмундирован он был в розовую рубашку, черные трикотажные брюки, домашние тапочки.
— А как ваше отчество? Мне как-то неудобно звать вас по имени. Как я вижу, вы значительно старше меня.
— Можно и по имени. Здесь такое место, где чины и почести не имеют значения. А отчество мое — Казимирович,— небрежно бросил он, хотя во взгляде его я заметил и горечь, и досаду.
— Значит, Николай Казимирович,— сделав вид, что не заметил недовольства старшего, уточнил я.— А где же мне располагаться?
— Гулбис, освободи койку. Там инструктор будет спать,— приказал Николай Казимирович полному парню, сидевшему на правой нижней койке у окна. Тот быстро свернул свой матрац и перебросил его на свободный верхний ярус.
— Располагайся с дороги. Потом переговорим,— сказал мне Казимирович и вернулся на койку. Налепив очки, он стал деловито перебирать какие-то бумаги в открытом шкафу, стоявшем возле его койки. Я спросил у ребят, где взять постель.
— Выбирай любую с верхнего яруса,— щедро предложили мне.
Сняв первый попавшийся матрац, расстелил его на отведенной койке и, закончив таким образом свое гнездование, стал с любопытством рассматривать свое новое жилище и сожителей. Камера была довольно просторной, квадратной, примерно шесть на шесть метров. С двумя окнами, зарешеченными широкими (дюйма в два) железными пластинами. Через зазоры между пластинами хорошо проникал дневной свет, и в камере было относительно светло и свежо: оба окна были распахнуты настежь. Справа от входа напротив койки Николая Казимировича стоял двухстворчатый канцелярский шкаф. Рядом, вблизи стены с окнами,— еще две койки. Между ними и стеной можно было пройти боком. Перед дверью находился деревянный, сбитый из толстых досок, стол с двойной крышкой. Нижняя служила полкой для ложек, кружек, мисок. Вдоль стола с двух сторон, на всю его почти трехметровую длину, тянулись неширокие скамейки. Между ними и кроватями оставался проход, в котором трудно было разминуться. Пространство слева от двери занимал туалет: унитаз, раковина умывальника, в котором стояло переполненное водой эмалированное ведро. Я насчитал пять двухъярусных коек: три — слева от входа и две — справа. Я расположился на второй правой под окном. Где-то в камере была радиоточка (сначала я не мог догадаться, где именно): звучала приглушенная музыка. Потом обратил внимание на дырчатую металлическую пластину в стене и догадался: она-то и прикрывала вмонтированный в углубление репродуктор. У потолка была подвешена арматура дневного электроосвещения.
В камере было чисто, койки аккуратно застланы. Но меня удивило, что несовершеннолетние вольготно сидели или лежали на этих койках. В Минском изоляторе такое категорически запрещалось. Стал исподтишка рассматривать подростков. Их было шестеро. Сразу бросилось в глаза, что никто из них не был острижен наголо. Это также было непривычно. Разнообразием одежды здешние несовершеннолетние не отличались: на всех были стандартные робы синего цвета, обувь — тоже тюремная: жесткие кирзовые ботинки. Подростки сидели группой, всем видом стараясь дать понять, что их совершенно не интересует новый инструктор, хотя я несколько раз перехватывал их быстрые любопытные взгляды. Убедившись, что даже несовершеннолетние без боязни лежат на застланных одеялами койках, прилег и я. Усталость взяла свое, и я незаметно уснул крепким безмятежным сном.
Проснулся от того, что кто-то сильно тряс меня за ногу. Еще не открыв глаза, услышал: «Ну и спит! Богатырский сон. Позавидовать можно...»
Сев на койку, как бы оправдываясь, объяснил:
— Устал с дороги: едва прилег, как вырубился полностью.
— С таким сном можно все на свете проспать!
— В здоровом теле — здоровый сон... А зачем бу- дили-то?
— Ужин прибыл. Садись за стол,— Николай Казимирович указал место рядом с собой. Сам он занимал место во главе стола по центру. По обе стороны стола сидели несовершеннолетние. Занял указанное место и я. Получил два куска хлеба и миску с ухой. Вскоре я с удивлением отметил, что инструктор и кое-кто из парней к ухе не притронулись.
Николай Казимирович нарезал сала, намазал несколько кусков белого хлеба маслом и выдал некоторым избранным.
Мне ни белого хлеба, ни сала, ни масла не преддо- жили. Это немного задело: обычно, где бы я ни был, люди делились пищей. Но здесь я постарался не подать вида, что обиделся. Похлебал горячей жидкой воды, в которой плавали две картофелины и небольшие кусочки рыбы. Пряча голодный взгляд, тихо спросил:
— Какой порядок уборки посуды?.. И кто ее моет?
Инструктор аккуратно откусил сало от своей порции, затем долго и тщательно пережевывал. Наконец ответил:
— У нас назначен постоянный мойщик посуды. Он же и убирает со стола. Когда придет к нам новичок, тогда он будет этим заниматься.
— Ясно,— я отодвинул свою миску и поскорее опять улегся на койку, чтобы не выдать (так мне казалось) завистливого блеска глаз. «Жадный, грубый этот жмот- инструктор, или на нервах хочет поиграть?» — попытался для себя решить вопрос, но не найдя ответа, опять незаметно уснул.
Проснулся по привычке за полчаса до подъема. Немного полежал, прислушиваясь. Пытался отогнать думы о неотвязных заботах, хотелось полежать некоторое время беззаботно, отдохнуть...
Из коридора донеслась команда: «Подъем!» Заспанные, недовольные, вяло вылезали несовершеннолетние из согретых спальных нор. Умылись и уселись по местам.
Опять давясь черствым и кислым хлебом тюремной спецвыпечки, который запивал чаем, я с нарастающим негодованием наблюдал, как Николай Казимирович из каких-то запасов избирательно выделял белый хлеб, масло, колбасу. И снова одному несовершеннолетнему, как и мне, инструктор ничего не предложил. Превозмогая закипавшую волну злости, я спокойно спросил:
— А что, давно возникло здесь разделение на черных и белых? Или только с моим появлением?
Николай Казимирович побледнел, рука с масляноколбасным бутербродом задрожала, и бутерброд шлепнулся на стол. Несовершеннолетние не сразу поняли мой намек или сделали вид, что не поняли. Крепко сбитый парень недовольно заметил:
— Что-то не то говоришь, инструктор, у нас здесь все равны.
— Как же равны, если одни едят белый хлеб, а другие черный, одни колбасу, сало, а другие — ничего?
Николай Казимирович смущенно пытался объяснить:
— Извини, мы не познакомили тебя с нашими поряд-
ками. За общий стол у нас принимаются только те, кто уже отоварился или получил «дачку». Вот получишь свою передачу, примем и тебя в свою компанию.
— Я давно знал, что до коммунизма нам далеко. А глядя на вас, задумался: возможен ли он вообще? Я уже в тюрьме девятый месяц, но такое вижу впервые. Ну были бы здесь враги, тогда — ясное дело. А то все как будто дружат, делятся друг с другом мыслями, заботами, а когда дело доходит до желудка, тут уж соседа не существует. Может, в Латвии так принято, не знаю...
— Не тебе здесь законы устанавливать. У нас уже есть один инструктор — мы его и будем слушаться,— зло ответил все тот же здоровяк.
— Да не о законах я толкую, о нормальных человеческих отношениях. С тобой рядом сидит твой одногодок и, наверное, как и ты, латыш, земляк, значит. А ты спокойно жрешь сало, притворно не замечая, как глотает слюнки сосед. Что, жалко поделиться? Завтра, может, у него будут продукты, а у тебя нет. Что ты тогда подумаешь, когда он будет их уплетать, а тебе — фигу под нос? — наступал я.
— Здесь каждый ест свое,— не сдавался толстяк.— Я же твоего не беру? А свое — хочу дам, хочу — нет. Это только от меня зависит.
Николай Казимирович молча положил на мой хлеб два кусочка сала, отделив от своей порции. Я растерялся, не зная, как поступить: отказаться или взять? Отвергнуть подаяние — бросить вызов, взять — значит смалодушничать, показать, что я просил для себя. Тут и ершистый толстяк отделил от своей порции кусок худощавому парню-соседу, и тот жадно впился в него зубами. Решил и я взять сало.
— У меня у «хозяина» есть деньги. Не знаю, когда поступят только. Отоварка скоро?
— Дней через пять. Здесь отовариваются два раза в месяц: в начале и конце,— пояснил инструктор.
— Хорошо, если бы к этому времени мои деньги поступили. Смотрю, богато живете: колбаса, масло, сыр. Откуда?
— Покупаем в буфете.
— Еще конфеты там есть, печенье, сухари, пряники, консервы разные,— стал перечислять один из сокамерников.
— Надо же,— удивился я.— А в Минском изоляторе были только маргарин, жир, сахар (по килограмму на зэка), дешевые конфеты-карамельки... Вот и все. А у вас богато, на редкость.
— Европа! Цивилизация у нас иная; если б не русские, еще лучше жили бы,— с ужасным акцентом, коверкая русские слова, заговорил еще один подросток, но взглянув на инструктора, сразу осекся, видимо, только теперь сообразив, что тот тоже русский.
— А я-то вижу в ведре, что стоит в раковине умывальника, масло плавает, вода постоянно течет. А масла чуть ли не пол-ведра. Думаю: откуда столько взяли? Проточная вода выполняет роль своего рода холодильника?
— Да. Оно быстро портится — жара. Вот так и продлеваем срок его годности,— подтвердил Николай Казимирович.
— А контролер видел ваше изобретение?
— Конечно!
— И что, не приказал убрать? Ведь это же столько воды утекает? Сутки журчит! Странно. У нас бы за это сразу бы на кичу посадили.
— А что такое кича? — спросил мой сосед.
— Карцер.
— У нас это зовется трюмом, а у вас — кича.
— Не знаю. Считал, что во всех зонах заключенные карцер называют кичей.
— А ты сидел на зоне? — тут же насторожился еще один из подростков.
Я ответил не сразу. Сказать правду иль не стоит? Решил, что не стоит. Представлюсь им, что я бывалый спекулянт. Для убедительности на ходу стал сочинять легенду:
— Да, сидел. Лет семь тому назад. Много воды с тех пор утекло. Вспоминать то тяжелое время не хочется.
— А мы подумали, что ты какой-нибудь большой начальник. Странно, что тебя в нашу хату посадили: она считается лучшей на этапе.
— Образование у меня высшее, вот к вам и направили на стажировку, так сказать. А потом, может, перебросят в другую хату, доверят быть самостоятельным инструктором. Пока не доверяют. Слышал, иногда вы и телевизор смотрите, правда? — желая окончательно рассеять сомнения и перевести разговор в другое русло, поинтересовался я.
— Да, смотрим. Два раза в неделю. Правда, все зависит от того, как норму сделаем. Теперь уже наловчились: отладили производство, норму всегда выполняем и два дня смотрим телепрограмму,— пояснил инструктор.
— Два дня? Что, водят смотреть на целый день? — удивился я.
— Почему водят? Сюда прямо в камеру приносят телевизор. Правда, портативный, «Юность». Шнур протягиваем через дверь из коридора, антенна — комнатная. Три программы: две московских и одна наша, рижская,— детально разъяснял Николай Казимирович, видимо желая растопить лед, возникший из-за куркульской дележки продуктов.— Нашли подход к воспитателю. Мужик он неплохой, попросим — дает. Здесь строго соблюдается очередность. Другие камеры тоже смотрят, а телевизоров всего два. Завтра — наша очередь. Надо не забыть попросить. Напомни мне,— попросил он толстяка, сидящего рядом.
Я понял, что этот крепкий парень — помощник у инструктора, его правая рука, если не больше. Из опыта я уже знал, что в некоторых камерах верховодили несовершеннолетние, устанавливая свой беспредел. Инструктора здесь числились разве что для проформы: они не в силах были навести и поддерживать порядок. Их не только никто не слушался, их порой оскорбляли, издевались, даже избивали. Судя по первым впечатлениям, всем заправлял инструктор, но согласовывал свое мнение с толстяком. Я уже запомнил его имя и фамилию: Гулбис Лаце. Высокий, широкоплечий, с фигурой штан- гиста-тяжеловеса, он держался спокойно, самоуверенно. Его тучность и круглое лоснящееся лицо мешали определить его возраст. Не выдержав, я полюбопытствовал:
— Гулбис, а сколько ж тебе лет? Ты кажешься взрослее других.
— Девятнадцатый пошел.
— Странно. А почему же тогда тебя содержат вместе с несовершеннолетними?
— Мне только в прошлом месяце исполнилось восемнадцать. Я написал заявление, чтобы меня оставили здесь. Николай пошел к воспитателю, попросил его. Пошли навстречу.
— А чего ты не захотел идти к взрослым? Может, там тебе интереснее было бы?
— М-ха, м-ха,— сквозь зубы рассмеялся Гулбис.— Так весело, что несколько дней голову не повернешь. Знаешь, как прописку проходят?
— Нет. Но слышал.
— Ха-ха, слышал! Это надо видеть или на себе прочувствовать. Вот спроси у Томаниса. Он тебе расскажет, как его избивали! Ты хочешь, чтобы и меня также? Нет уж. Толпой избивают. А здесь у нас — ни прописок, ни других приемок. Тишь и благодать. Зачем нам такая дурость?
— Так что эта хата вроде обиженки? Здесь собрались все выломившиеся из других? — наивно допытывался я.
— Никакая не обиженка. Просто собрались нормальные ребята, которые не хотят, чтоб над ними издевались. Придумали, понимаешь, разные названия: «хата петухов», «парашников», «обиженки». И придумал это тот, кто сам петух и парашник. Наша хата — лучшая из лучших. Нам незачем глупостями заниматься. Серьезно надо о жизни думать,— убежденно закончил свой монолог Гул- бис и встал из-за стола. Остальные подростки также разбрелись по своим местам. За столом остались только я и Николай Казимирович.
Некоторое время сидели мы молча, думая каждый о своем. Кажется оба почувствовали, что настало время познакомиться поближе. Первым не выдержал я:
— Николай Казимирович, как долго сидишь под замком?
— С октября 1986.
— Вот это да! Я ведь тоже с октября 1986. И какого числа арестовали?
— Десятого.
— А меня двадцать восьмого... И что, до сих пор не осудили?
— Почему. Суд уже был: 10 лет определили,— вздохнул Николай Казимирович.
— Многовато! И за что, если не секрет?
— За взятки. В крупных размерах.
— Да, статья навеселая. Мне сразу показалось, что ты не из рабочих, а из начальства будешь?
— А как это ты определил?
— Нюх особый у меня на начальство. Имел кое-какое соприкосновение с этой средой. Я ведь не простой спекулянт, а крупный. Хотя и не виновен в том, за что посадили,— туманно объяснял я.
— А виновных у нас редко сажают. Я вот, дурень, все признал, чистосердечно раскаялся, оказал помощь следователю. Даже там, где сложно было доказать, эпизоды взял на себя. Думал: раз поймали, надо говорить. Может, правильно поймут, оценят мою искренность, спасибо скажут. И на тебе — 10 лет. Вот так оценили! А сейчас жалею, что откровенно во всем признавался. Кое-какие эпизоды не прошли бы.— Инструктор замолк и задумался.
Для приличия, выждав некоторое время, я попытался возобновить разговор:
— А сумма взяток большая?
— Десять кусков. Десять тысяч. За каждую по году отмерили. Судил бы Верховный суд — меньше дали бы. А так районный — на всю катушку.
— А какие пределы устанавливает статья?
По лицу собеседника промелькнула тень досады, но быстро овладев собой, он тихо произнес:
— От восьми до пятнадцати.
— Теперь мне понятно, почему дали десять. Я-то думал, что эго максимум, предел. А потолок — 15 лет. Не так уж страшно, Николай Казимирович. Могли и больше определить: сроки большие статья предусматривает. Даже меньше серединки дали.
— Рассудил!.. Десять лет! Со стороны — пшик. А для меня — почти вся жизнь в колонии пройдет. Мне уже за пятьдесят. Здоровье стало пошаливать. За эти месяцы столько нервов потратил, сердце барахлит, на таблетках сижу. И жаловаться некому, никто не посочувствует, не поймет. А ты говоришь: мало. Буду ли я живым через десять лет? При такой кормежке и через пять лет ноги протяну.
— Я тоже, Николай Казимирович, изрядно подорвал здоровье за месяцы заточения. Желудок вообще сдал, боюсь язвы. Да и нервишки пошаливают, голова побаливает и сердце дает о себе знать. Тюрьма есть тюрьма. Но у меня еще хуже положение. Ты какие-то деньги имел, жил в свое удовольствие. А я ничего ни от кого не имел: жил честно на свою зарплату. А вот посадили, сделали в глазах окружающих подлецом. Старался быть объективным, принципиальным, но, увы, никому моя честность оказалась не нужной и даже вредной для меня самого. Когда знаешь, что поделом, что сам виноват, заслужил — видимо, легче сидеть. А я постоянно нахожусь в нервном напряжении, пишу во все инстанции: разберитесь, услышьте крик души честного человека, восстановите справедливость и законность. В ответ же — гробовое молчание. Как будто ты не человек, а пустое место. И когда ощущаешь весь груз такого безучастного, безразличного отношения, когда понимаешь, что никому до тебя дела нет, никому ты не нужен — находит непреодолимая тоска, жить не хочется. Устал я бороться, отстаивать свою честь, свое право на нормальное существование, но иного выхода нет...
Как-то непроизвольно, не желая, я поделился наболевшим с сидящим напротив человеком, вовсе не задумываясь, как он на это отреагирует. Только окончив свои излияния, я пристально посмотрел на собеседника. Тот сидел молча, безучастно. Потом медленно, с расстановками заговорил:
— Да-a, жизнь прожить — не поле перейти... Всякое бывает... Держаться надо... У тебя надежда еще есть: суд впереди, а мне уже отмерили, как по сердцу ножом полоснули.
— Свое горе всегда кажется сильней и больней, как и своя рубашка ближе к телу. Мне трудно до конца понять твое состояние, оценить, насколько глубоки твои переживания, тебе — мои. Ну, а «кассатку» ты писал? Может, скинули бы год-два?
— Кассационную жалобу я месяц, как написал. Сразу после суда. С адвокатом вместе сварганили. Жду вот ее разрешения. Может, скинут годика два, а может, на пересуд дело направят. Оно не плохо было бы, чтоб и заново рассмотрели. Может, Верховный суд разобрался бы. Они меньше дали бы. А то — районный! Что ему? Чужая болячка не болит.
— А почему ты думаешь, что Верховный лучше разобрался бы и меньше дал? — не скрывая личной заинтересованности, допытывался я.— Ты ведь все признал? Г оворишь, вменили все эпизоды правильно? А срок — это субъективное мнение суда. Смотришь, один за это восемь лет даст, другой — десять, а третий — все двенадцать! Они же не испытали на себе и не знают, что здесь день, как год тянется, и спокойно разбрасываются годами, словно подарки раздают.
— Это самый высший суд в республике. Там скрупулезно и дотошно во всем разбираются. Каждый из них боится свое теплое место потерять: зарплата хорошая и работы не так уж много. К тому же — почет и уважение. А что районный судья? Пахарь; стол делами завален, не знает, за какое хвататься. В общем, сплошной конвейер: только успевай поворачиваться. Поэтому и ошибок много допускается. Да и судья этот не боится работу потерять; своих две сотни он всегда заработает и не таким тяжким трудом. Не все эпизоды вменены мне правильно. Некоторые я не признаю, а держатся они лишь на показаниях свидетелей. Если их теперь отбросят, то и годика два-три скинут. А это — целая жизнь. Год— не день... Надоело ждать, а приходится.
— Они должны «кассатку» в течение месяца рассматривать, как мне рассказывали сокамерники,— стараясь не раскрывать себя, высказал я сомнение: — У тебя же месяц прошел, а ответа нет. Странно что-то.
— Может, где и быстро рассматривают. У нас же, в Латвии, и по два, и по три месяца тянут, на нервах играют. А арестованный все ждет и ждет, проходят дни, недели... Лучше уж в колонии сидеть: там и кормежка лучше, и работает человек, зарплату получает. А здесь — дурака валяет. Тунеядцем становится, от безделья из угла в угол ходит. Все ждет, надеется. А потом — тот же результат.
— Да я тоже об этом думал. На мой взгляд, подследственному, по его согласию, надо давать оплачиваемую работу: чего без работы сидеть? Бесплатно есть? Хотя и кормят нас всего на 8 рублей в месяц. Да и семья голодает, особенно, как у меня: жена и ребенок живут на одну ее мизерную зарплату. Да еще она ежемесячно тратится на передачи. А я, здоровый мужик, скоро год, как без работы по тюремным койкам валяюсь. Ни себе, ни людям пользы... А почему бы сразу после суда не отправлять осужденных в колонию близлежащую? Ведь в каждом городе, где есть следственный изолятор, есть и зоны. Пусть бы осужденные работали и ждали результатов рассмотрения кассационных жалоб. Все были бы довольны и в выигрыше. Так нет. Надо еще несколько месяцев продержать заключенного в камере без какого- либо дела, без воздуха, без нормальной пищи. Пусть теряет здоровье. Я считаю, это не государственный подход: большой пробел как в плане перевоспитания, так и в материальном,— излагал я свои не раз продуманные доводы.
— Ты полностью прав. Я вот тоже раньше со взрослыми сидел. Не знал, куда от безделья деться. Когда ничего не делаешь, переживаешь еще сильнее; нечем занять себя, чтобы забыться. А когда вот сюда, к несовершеннолетним, попал, жизнь лучше пошла: работу хоть какую дают — клеим пакеты. Иногда смотрим телевизор. Так тут я ожил. Месяцами здоровым мужикам сидеть без работы — это же преступно. Государство само воспитывает тунеядцев. Издержки всякие несет к тому же...
— Не государство виновато, а бюрократы, которые только и думают о своем благополучии... О чужой беде голова не болит.
— Ты думаешь, я такой уж закоренелый взяточник? Для людей же старался. Они-то мне и отплатили жестоко. Я работал заместителем начальника по кадрам и быту большого управления. В подчинении были десятки организаций. Идут ко мне на прием рабочие, инженеры, служащие. Все о чем-то просят: помоги да помоги. Особенно наболевший вопрос — квартиры. Люди по десятку лет без своего угла маются. Кто по общежитиям, кто по частным квартирам шатается. Одиноким еще — куда ни шло. А с детьми как в таких условиях жить? У меня были хорошие связи с исполкомами. Я — туда: где подмажу, где пообещаю; квартиру и выделят. Так за много лет насобиралось у меня десять «кусков»: деньгами, коньяком, разными подарками. Для людей старался... А следователь мне толкует: «Вы были должностным лицом, в функциональные обязанности которого входило осуществлять приемы граждан, вникать в их бытовые нужды и помогать им в житейских проблемах, в том числе и с квартирами. Это ваша работа, за это вы получали немалую зарплату. А взятки брать — преступно и безнравственно, и поэтому будете сидеть под стражей». Я ему и так, и эдак, а он непреклонен и неумолим: «Вы взяточник, подрываете наши экономические, нравственные и даже политические устои. Вы совершили тяжкое преступление и должны отвечать по всей строгости наших советских законов. Даже в капиталистическом мире взятки караются. Газеты, видимо, читаете?» Ну что ему сказать, уперся, как вол, и все тут. А я не для себя, для других старался. А вышло: на десять лет наработал. Другой, я таких знаю, всю жизнь берет и ничего, живет в свое удовольствие, а здесь надо же, попался...
— Ну и у тебя почти жизнь прожита. Сколько до пенсии осталось?
— Четыре года. А жизнь я еще не всю прожил. Думаю еще понаслаждаться ею. Внучка родилась, пока здесь сижу. Ей помогать надо. Дедом в тюрьме стал. Стыдно кому сказать: под старость залетел, как мальчик. И все этот Рудзитас,“ будь он проклят,— с него началось.
— Он что, заявление написал?
— Если б заявление. Всю мою подноготную раскопал. Устроился к нам инженером, а сам — бывший работник милиции. Выгнали его оттуда или по собственному желанию — не знаю. Да нашего управлени года два в другом месте поработал. Характеристика хорошая, образование высшее, юридическое. Я, правда, сразу к нему с недоверием отнесся, не по душе как-то он был, на работу пришлось взять: из райкома позвонили. Деваться некуда. А сам решил к нему присмотреться. Как никак из бывших милиционеров, доверия к такому, естественно, нет. Но он работал старательно, объективно рассматривал жалобы, акты проверки грамотно составлял. Неподкупным оказался. К нему неоднократно приходили, предлагали и выпить, и взятки, он — ни в какую, не шел на провокации. Это еще больше меня взбесило: не надежен, при случае сдаст. Давай я под него исподтишка подкапываться, зацепки искать, чтобы избавиться. А он, хитрый жук, сразу почувствовал. Заходит как-то ко мне и говорит: «Николай Казимирович, не стоит нам ссориться. Лучше давайте мирно жить будем». А я ему ласково: «Знаешь, дорогой, слон моське не товарищ. Я — начальник, и ты будешь выполнять мои распоряжения и указания, а не справишься — заявленьице на стол и — скатертью дорожка». Он так, с ухмылкой, на меня посмотрел и, ничего не сказав, ушел. Меня это еще больше заело. Стал теперь уже открыто выражать ему недоверие, кое-кого настроил на скандал с ним. А он, хитрющий, опытный, все мои подводные рифы сторонкой обходит. А с людьми старается ладить, доверительные разговоры с ними ведет и ко мне, как донесли, нездоровый интерес проявляет. Чувствую, жареным пахнет. Надо избавляться. Собрал верных сотрудников, говорю: надо устроить так, чтобы зафиксировать его неявку на работу, более четырех часов. Как только такой факт появится, сразу — ко мне. Все — рады стараться! Знают, что я их в беде не оставлю: при случае помогу премией или по службе продвину. Спровоцировали его, наконец. Запротоколировали прогул и на местный комитет вызвали. Объяснили, что к чему. Увольнять будем за прогул, говорим. А я-то знаю, что у него поддержка в райкоме есть. Мягко так предлагаю: «Пока не поздно, по собственному желанию уволить можно». Подумал он, подумал, затылок почесал. «Хорошо, я напишу заявление на увольнение»,— и ушел. Все облегченно вздохнули. Не хотели связываться, тяжбу затевать. К тому же он юрист, все законы знает, мало ли чего выйти может...
Принес он мне заявление, положил на стол, а сам, вижу, недовольный, красный весь. Подписал я ему в тот же день. Трудовую книжку выдали под роспись, как полагается, и заходит он снова ко мне, и речь такую заводит: «Николай Казимирович, подкопались-таки вы ко мне. А ведь я предупреждал: давайте мирно жить. Не захотели? А теперь моя очередь ответный удар наносить. Посмотрим, кому больнее будет». Не успел я сообразить, что ответить, как спина его в двери моего кабинета мелькнула. Подумал я, подумал, кое с кем из верных подчиненных переговорил, уточняя: собирал ли он что-нибудь обо мне, есть ли какая у него информация. Они говорят: интересовался, но будто никто ничего плохого в мой адрес не сказал. Ну, я и забыл про него. В отпуск собрался, на машине своей (у меня «Жигули», шестая модель) на юг подался. Время провел весело: отдохнул, позагорал, в море поплавал, здоровье подкрепил. Беззаботно возвращаюсь в Ригу, выхожу на работу. Звонок из Министерства внутренних дел. Зайдите, мол, Николай Казимирович, поговорить надо. Я сажусь в служебную машину, без особой тревоги приезжаю. Гляжу, собралось сотрудников пять и давай меня допрашивать. Оказалось: пока я в отпуске был, юриспрудент накатал заявление в прокуратуру республики, в нем указал три факта получения мною взяток за квартиры. Фамилии назвал, время — все, как для суда. Прокуратура поручила ОБХСС разобраться и доложить. Они быстро и бесшумно клубочек размотали, да так, что никто из моих сотрудников ничего и не узнал. Допросили они меня с пристрастием, и я, будучи сильно ошеломленным и подавленным, признался, как было в действительности. Тут же появился прокурор с печатью и меня — под стражу. Не успел и опомниться, как здесь очутился. Отомстил он мне крепко на десять лет, подлец, упек! Как это я, старый воробей, в мякине не разобрался? Это надо же! Нежданно-негаданно в тюрьму попал. Но ничего: время придет, расплачусь.— Окончив свою исповедь, Николай Казимирович задумался, потом пристально, с затаенной горечью в глазах посмотрел на меня и жалким, уставшим голосом спросил:
— А тебя как угораздило в это гнилое болото влезть? Парень, судя по виду, ты неглупый, а баланду вместе с убийцами, насильниками и прочими хлебаешь.
— Как все, так и я. Заявление один кент написал на меня, что машинами спекулирую. Вот и посадили, как у нас водится, не разобравшись,— довольно спокойно соврал я.
— И какую сумму вменяют?
— Четыре куска. Не так уж и много,— продолжал я лгать,— но часть третья — крупные размеры. Опись имущества сделали. Если осудят, голые стены оставят. И за что, ума не приложу: работал честно, а тут — на тебе. Как жить дальше, не знаю. Воры, проходимцы живут на широкую ногу, беды не зная. Пьют, гуляют в свое удовольствие, а тут пахал день и ночь, а под штык взяли.
— Мне тоже суд присудил конфискацию. Тысяч на пять опись в деле была. Вот только с машиной еще не все ясно. Если успели оформить ее как дарственную от сестры, то не заберут, а если нет — еще тысяч пять. Итого: конфискация на десять кусков. Мало того, что десять годков вкалывать, так еще все потеряешь. Хорошо, что жена у меня деловая женщина: кое-что успела припрятать, увезти, пока милиция чухалась. А то бы еще несколько кусков отдавать пришлось. Одна только японская аппаратура, видеомагнитофон сколько стоят.
«Неплохо пожил, а как отвечать, так застонал и заохал»,— подумал я, а вслух заверил:
— Десять тебе сидеть лет не придется. Будешь дома лет через пять, если не раньше.
— Дай Бог. Я об этом день и ночь думаю. Скинули бы пару годков, все легче было бы. Половинку отсидел нс зоне, а там можно бы и на стройки вырваться, а уж оттуда — домой. Как ты думаешь?
— Думаю, что половинку на зоне придется сидеть. А там видно будет. Может, даже под амнистию подпадешь.
— А когда следующая будет?
— Когда? Так: образование СССР—в 1922 году, значит, круглая дата будет в 1992. А больше ничего значительного не предвидится. Ты не участник войны?
— Нет.
— Участникам войны и женщинам почти каждый год амнистии делают.
— Недавно вот объявили амнистию в честь 70-летия Октябрьской революции, а я не попал под нее. Взятка сюда не подходит.
— Да не только ты, почти все, кто сидел под следствием, так и остались сидеть. В основном она коснулась осужденных, кто отбыл какой-то срок. Так мне следователь мой пояснял, когда дело закрывал.
— И здесь нам не повезло. К тебе тоже не подошла?
— Ия проскочил мимо. Раз не повезет, так везде, всю жизнь несчастным будешь.
— Это точно. Если бы мне кто-нибудь раньше сказал, что я перед пенсией в тюрьму загремлю, не знаю, смеялся бы с того человека, как с Аркадия Райкина. Даже теперь еще не все до меня дошло.
— Ничего, Николай Казимирович, лет пять просидишь — тогда уж точно все дойдет,— похлопав ладонью по лежавшим на столе нервно подрагивающим рукам собеседника, бестактно сострил я. Чувствуя возникшую неловкость, встал, потянулся и перевел разговор на другую тему:
— Заболтались мы что-то. Который час?
— Часов десять, наверное, будет, скоро должны на прогулку выводить.
— А что, и с утра водят?
— Обычно — до обеда, но бывает, что и после. У них тут свой график.— Инструктор тоже встал из-за стола.
— Тут дворики большие? Побегать есть где?
— Я же не знаю, какие там были, где ты сидел. Мы-то и тут немного физзарядкой занимаемся. Я тоже разминаю свои старые кости. Надо же как-нибудь сохраниться. Старуха ждет...
Прогулочные дворики, куда ежедневно на час выводили арестованных, располагались между зданием нашего, второго, корпуса и тюремной больницей. Общая площадь двориков представляла собой большой квадрат, разделенный на несколько маленьких квадратных или прямоугольных двориков, отгороженных толстыми высокими стенами. Поверху был положен дощатый настил с возвышавшейся на опорах жестяной крышей — пост наблюдения за арестованными. Вся площадка для прогулок прикрыта частой железной сеткой. Выбраться из этой клетки практически невозможно.
За время «осадного сидения» в Рижском СИЗО я «имел честь» лично ознакомиться с характеристиками прогулочных двориков. Они были здесь разных размеров: от 20 до 40 квадратных метров. Но по сравнению с Минском это уже был хоть какой-то простор. Здесь можно было немного пробежаться, размяться, попрыгать. Правда, козырьки-крыши здесь оборудованы только над помостом контролеров, а над двориками их не было.
И еще в отличие от Минска контролерами тут в основном работали женщины. Они дежурили на этажах, выводили арестованных на прогулки. «Не боятся же они заключенных? Что они могут в случае покушения на жизнь, в случае побега сделать с крепкими здоровыми мужиками? — размышлял я.— Не исключено, что девушку могут затащить в камеру и изнасиловать. В тюрьме хватает садистов, насильников и прочих, не лучших, особей мужского рода, со звериными инстинктами и привычками».
И на этот раз девушка лет двадцати, маленького роста, открыла камеру и предложила всем следовать на прогулку. Юстас хотел остаться, утверждая, что ему нездоровится. Но контролер, девушка-сержант, была неумолима. Она строго, приказным тоном, заявила: «Необходимо либо всем идти или оставаться инструктору в камере». Так как больше никто не хотел оставаться, пришлось и Юстасу подняться.
Меня же неожиданная «болезнь» Юстаса насторожила: «Неужели хотел посмотреть мои тетради, узнать, кто я на самом деле? Что-то часто он ощупывает меня любопытным, недоверчивым взглядом».
Во дворике наша камера построилась в круг, и все вместе с Николаем Казимировичем стали делать физические упражнения: приседали, наклонялись, прыгали. Окончили физзарядку пробежкой вдоль стены. Я бегал дальше других, размеренно, не спеша. Ребята пытались подстроиться под мой темп, но без привычки быстро устали и остановились, с почтением разглядывая мой крепкий обнаженный торс. После пробежки я сделал еще несколько успокаивающих упражнений, выполнил свой комплекс по отжиманию. Затем сел на стоявшую среди дворика бетонную скамейку и попросил одного из несовершеннолетних сесть мне на ноги. Прогибаясь и выпрямляясь, покачал брюшной пресс.
— Да, фигура у тебя ничего себе! Крепок, как дубок, а говоришь, ослабел от долгого сидения? — с завистью и недоверием сказал один из парней, сидя на моих ногах.
— Что ты нашел в этой фигуре? Кости да кожа. Вот раньше ты бы посмотрел, была мозаика. А теперь — одно воспоминание. У меня перед арестом было 88 кг, а сейчас 68.
— Глядя на тебя нельзя поверить, что у тебя такой маленький вес. Мне кажется, ты килограммов на 75, если не больше, потянешь.
— Да я вчера на медосмотре на весах стоял, Фома
неверующий. Знаешь, почему вольная птица летает?
— Потому, что крылья есть.
— Крылья и у домашних птиц есть: кур, индюков, гусей, а они не летают, по земле ходят, оторваться от нее не могут. А дикие птицы летают оттого, что у них вес мускулов по отношению к весу костей и общему весу тела во много раз больше, чем у нелетающих собратьев, а тем более — у человека. Это к чему я тебе говорю? Да к тому, что мускулы у меня — остатки прежней роскоши. Только создают видимость большого веса, а сами они легкие, пустые. Мясо им надо, калории... Понял?
— Кто его знает. Может, ты и правду говоришь, а может, врешь. Здесь никому особо верить нельзя. Трудно разобраться: где ложь, где истина.
Вдруг к нашим ногам упал скрученный, как сигарета, клочок бумаги. Паренек быстро поднял, развернул его и прочел вслух: «Мужики, подкиньте курева. Голодняк». К нему подбежали остальные наши несовершеннолетние.
— Ну что там написано?
— А то, что ты большой болван, и тебе нужно темную сделать. Говори, кого заложил?
— Ты что, того? — покрутил обиженно тот у виска.— Я никогда не козлил и не шестерил. Понял? Дай сюда записку!
Смеясь, шутник развернул ее и произнес: «Соседи просят курева. Подкинем?»
— Ну их к черту: постоянно бросают записки: «Голодняк». А у самих, наверно, полна наволочка табака. Не даем? — рассудительно предложил Юстас.
— Нет, так нет. Постучи ногой в стенку, скажи, что и у нас голодняк,— сказали Томанису. Тот подбежал и стукнул ногой три раза в стену, предварительно посмотрев на контролерский помост. Сверху раздался голос: «Говори!»
— У нас самих голодняк, не можем подбросить,— прокричал Томанис и отбежал от стены. Вскоре перелетела записка и из противоположного дворика. В ней значилось: «Какая хата? Есть ли у вас Мужниекс? Передайте всем, что он козел и пидар. Хата 32».
— Кто знает Мужниекса? — спросил Гулбис.
— Надо спросить: откуда он и по какой статье сидит.
Усевшись в кружок, они тут же на обратной стороне послания написали свой запрос. Внимательно
осмотрели помост, затем Томанис подбежал к стене и перебросил записку. Скоро прилетела бумажка с ответом. В ней уточнялось: «Мужниекс из Салдусского района, статьи 121 и 140».
— Изнасилование и грабеж. У нас из Салдусского никого нет,— сказал Гулбис.
Я, не переставая удивляться, наблюдал за происходящим. В Минском изоляторе такое было исключено: записки невозможно было перебросить из дворика в дворик — мешала сетка и высоко поднятые козырьки из жести. А главное, там за арестованными постоянно наблюдает контролер, двигаясь по настилу. Здесь же я видел на настиле трех женщин-контролеров только в начале прогулки. Потом их нигде не было видно. Должно быть, собрались вместе и обсуждали свои дела. «Не зря в китайской азбуке фигурками двух женщин обозначают шум, фигурками трех — базар»,— вспомнил я.
Переговоры окончены, и наши парни собрались вместе, закурили. Между ними завязался разговор. Мы с Николаем Казимировичем стояли в сторонке и грелись в теплых лучах августовского солнца. Пекло сильно, а нам было приятно. Мы наслаждались теплом, может быть, последним теплом уходящего лета, подставляя горячему солнцу то грудь, то спину, отогревая не только тело, но и душу. На задний план уходили тревога, горечь переживаний, неизвестность завтрашнего дня. Невольно воскресали воспоминания счастливо прожитых, невозвратных дней. Да, время неумолимо отсчитывает мгновения и его нельзя ни повернуть назад, ни даже на миг остановить...
— Представляешь, Валерий, в прошлом году такой порой, чуть позже, в сентябре, я был на юге. Остановились мы на берегу моря, поставили палатку. Всей семьей: дочь с зятем, я со старухой. Еды набрали с собой разнообразной, деликатесов: икра красная и черная, колбаса «Сервелат», балыки, консервы разные. Овощи, фрукты в деревне за бесценок покупали. Поедим, на горячем белом песке валяемся, в карты играем. Надоест, пойдем в теплое синее море и на волнах лежим, плаваем. Надувные матрацы мягко колышутся, солнце ласкает, волна шумит. Тишина... Бескрайнее светло-голубое небо, горы вдали, зеленые деревья, домики на склонах... Так хорошо на сердце, так спокойно на душе: отдыхают все косточки, каждая клеточка тела, отдыхаешь морально сам. Ни забот, ни тревог. Такой внутренний безмятежный покой ощущаешь! Надоест лежать, берем удочки и рыбку ловим. К вечеру на уху всегда есть. Сухонького винца или коньячка и — новый прилив сил. Не ощущаешь ни пространства, ни времени. Все уходит, остается блаженство и наслаждение. Эх, прошло, пролетело золотое время, когда я был уважаемый, почетный человек — Николай Казимирович, а сейчас заключенный Лопнев, заточенный на целых десять мучительных лет в клетку, как зверь! Только намордника не хватает, да людям показывать, чтобы те конфетки, печенье через металлические прутья бросали. Во дожился! — Начал с мажорного лада, а окончил минорной унылой нотой сокамерник. Прищуренные глаза обидчиво заморгали и, как мне показалось, в них блеснули слезы. «Сдают нервы у старика»,— подумал я и вместо утешения стал говорить о своем горе:
— Я тоже жил неплохо. Квартира у меня — почти в центре города. Сделал с разрешения исполкома перепланировку, три комнаты стали раздельными. Правда, они маленькие: где-то 35 полезная площадь, общая — 54. «Хрущевка» — санузел и ванна совмещены, но мы жили втроем: жена, дочь и я, достаточно вполне. Обстановка в доме есть. Питались неплохо. В общем, счастлив был. Жена у меня прекраснейшая женщина: в доме всегда чисто, ни соринки, ни пылинки, все постирано и отглажено, дочь досмотрена. Не жадная. Готова все людям отдать, добрейшей души человек. Ее родители-пенсионеры болели часто, как и моя мать, но мы помогали друг другу, жили дружно, весело. Друзья были. Время летело. Только живи и радуйся. Но вот встретился на моем пути малодушный, трусливый и подлый человек, а там и другие нашлись, и поломал он с помощью карьеристов- следчих, сумев облапошить вышестоящее начальство, в том числе и партийные органы, всю мою жизнь. Работал честно, не на плохом счету был, а в один проклятый день полетело все вверх тормашками, в тюрьме оказался. Жена с дочерью теперь места себе не находят, переживают, волнуются. Последние крохи от себя отрывают, стараясь мне помочь, поддержать. Мать моя и родители жены совсем сдали, слегли. Кто еще на ногах держится, а кто и с постели не поднимается. Сестра, брат переживают. Друзья — кто отвернулся, забыл, кто еще помнит, ждет, жену морально поддерживает. И жизнь опостылела. Обнажилась зловещая прорва, выплеснув поток грязи и клеветы. И этот поток разливается все шире. Из последних сил держусь, пытаюсь устоять, отчаянно сопротивляюсь. Устою ли? Сумею ли разорвать опутавшую меня грязную паутину лжи? Человек живет будущим. А меня оно пугает: в каком виде я приду домой? Как буду смотреть в глаза родных, близких, знакомых, если не отмоюсь, не очищусь от налипшей грязи? Как доказать им, что я не такой, каким меня представили власть имущие, что я не чудовище, а простой человек, со своими недостатками, слабостями? И их у меня не больше, чем у других. Как вернуть честь, запачканную и поруганную, отмыть свое чистое имя? Как? Это больше всего мучит меня здесь, в тюрьме. Не было бы у меня никого, бросил бы все и уехал куда- нибудь в Сибирь, в Среднюю Азию. И начал бы все сначала. Но есть семья, есть мать, родственники. От них-то я никогда не уеду, никогда не брошу. Остается только мучиться, ждать и упорно бороться за восстановление истины.
Не успели несовершеннолетние снять ботинки и сунуть ноги в казенные тапочки, как открылось окошко кормушки и голос из коридора произнес: «Получайте клей и бумагу. Сколько листов выдать?» Лопнев метнулся к двери, присел и попросил:
— Две тысячи, если можно.
— Для одной камеры это много: для других не хватит. Но, так и быть, выдам,— как бы делая одолжение, растяжно сказал заключенный-раздатчик, отбывающий свой срок в СИЗО. Дверь в камеру отворилась. Инструктор Лопнев — на одной ноге прогулочная спортивная тапочка, на другой — домашняя (не успел переобуться), стоя в проеме двери, передавал подросткам, а те складывали на стол кипы оберточной бумаги.
— Ну вот, теперь работа есть. Надо только постараться и успеть сделать в срок,— заявил инструктор сокамерникам.
— Навалимся все и быстро управимся. К сроку выдадим пару тысяч. У нас еще полтысячи есть в запасе, припрятано,— заверил его Гулбис, и, обращаясь к сверстникам, распорядился:
— Быстро разобрали каждый свое и начали делать. Завтра телевизор будет: сегодня надо все сделать.
Каждый подросток подходил к столу, получал кипу бумаги, затем, усевшись на койке, ловкими движениями загибал один конец листа, приглаживая его кулаком. Лопнев подошел ко мне и пояснил:
— Мы берем всегда с запасом. Выдаем ежедневно около двух двух с половиной тысяч пакетиков. Но чтобы столько успеть сделать, создали излишки. То, что на столе, переработать не успеем, но полтысячи пакетов у нас есть в запасе, а полтысячи резерва мы восполним после того, как уже заберут работу, и опять у нас будет запас. Во всяком деле свою смекалку и хитрость надо иметь. Потому мы всегда и в передовиках ходим. Все довольны, и нам хорошо.
— А вам за эту работу платят? — спросил я.
— А как же! Если выполним норму — 300 штук за день, а за месяц — 9100 кульков на брата, то каждый получит по 6 рублей. Это максимум. А если меньше, значит, меньше и заработок. Мы норму точь-в-точь делаем, не меньше — не больше. Я веду специальную тетрадь, где все записываю и подсчет веду.
— А сам, Николай Казимирович, работаешь или только присматриваешь?
— Да помогаю малость, под настроение. Они-то молодцы, сами все успевают. А ты как, работать не желаешь?
— Тоже буду периодически помогать. Теперь мне надо к суду готовиться; пару жалоб написать. Есть над чем поразмышлять.
— Оно и я хочу жалобы начать катать. Десять лет — это многовато... Явный перегиб.
— Но сегодня пока отдохну. Дай-ка мне несколько листов и покажи, как правильно загибать; помогу ребятам.
Лопкев подал мне стопку листов и обстоятельно, толково объяснил, что к чему. Сам он тоже стал складывать пакеты, усевшись за стол.
Когда все листы были сложены как требуется, двое несовершеннолетних стали склеивать боковины, остальные конвертообразно загибали дно, а последний доклеивал пакет. Ребята работали быстро, точно выверенными движениями. Работа спорилась; мы почти не разговаривали: все были поглощены делом.
Незаметно подошло обеденное время. Через кормушку передали миски со щами. Но щи были сварены из какой-то настолько тухлой капусты, такой гнилостный запах издавали, что каждый из нас, хлебнув несколько ложек, брезгливо морщась, отодвинул миску в сторону.
— Ну и гадость дали! Как ее жрать? Свиньям добрый хозяин такого не даст, а они людям,— возмутился самый шустрый из наших молодых.
— А кто это тебя, Юстас, здесь за человека считает? Свинье хозяйка картошку хорошую дает, гнилую отбрасывает, а тут одну гниль суют. От вони дышать нечем, а еще в желудок эту гадость заливай,— подхватил другой.
— А разве тебя заставляют? Можешь не есть,— пробурчал Гулбис, не дотронувшийся до своей миски.— Я вот не ем, и все.
— Первое, горячее, хоть немного надо есть, мужики. У вас еще желудки не окрепшие, быстро их посадите. А с гастритом или язвой нелегко жить. Диету строгую тут мы соблюдать, конечно, не сможем, но первое блюдо для желудка обязательно. Так что закрывайте глаза и наяривайте,— посоветовал я.
— Глаза закрыть можно, а вот нос куда деть? Как вдохнешь, так глаза на лоб лезут,— ехидничал Юстас. Но несколько ложек щей, театрально морщась, он все же опрокинул в рот.
— Ну как, пошло? Живой? — насмешливо поинтересовался Томанис.
— Живой!
— Тогда, пацаны, налетай. Если Юстас не умер, то мы и подавно выживем,— весело балагурил Гулбис, но сам ложку так и не взял.
Теперь и я уже пристальнее посмотрел на Юстаса. Худой-прехудой, кожа да кости, среднего роста, с по- детски бледными красивыми чертами лица, на котором выделялись бегающие быстрые глаза. Волосы каштановые, густые, короткие: стрижка под «ёжика».
— Юстас, ты «металлист»?
— Да.
— И какой рок предпочитаешь?
— «Хэви металл». А ты что, волокешь в этом? — удивился несовершеннолетний и с интересом посмотрел на меня.
— Нет. Просто обратил внимание на твою прическу.
— А как тебя зовут? Ты нам так и не представился.
— Забыл, значит. Валерием в детстве нарекли.
— По нашему, по-латышски, значит Валдис,— с сильным акцентом, медленно, с трудом подыскивая в памяти русские слова, проговорил Юстас. Вообще, я заметил, что чисто по-русски говорил лишь инструктор и еще один паренек, который убирал со стола. Остальные с трудом отыскивали в памяти нужные русские слова.
Между собой в основном они говорили по-латышски. Я, естественно, ничего не понимал и не мог знать, о чем идет речь. Лопнев в совершенстве владел латышским и общался с сокамерниками на их родном языке. Чтобы внести ясность в этот проблемный для меня вопрос, я спросил:
— Юстас, а ты какую школу кончал?
— Как какую? Среднюю, только 8 классов окончил и в училище строителей пошел. Да вот не дали, с первого года посадили менты проклятые.
— Я не о том. Какой основной язык в школе был? На каком предметы читались?
— На латышском. Я ходил в латышскую школу, русский для меня, как иностранный язык. У меня и мать, и отец — латыши. И я с детства только на нем говорю. А для русского языка немного часов отводилось. Я всегда диктанты на двойки писал. Но ставили тройку. Во всей школе без ошибок ни один ученик не писал.
— Ия латвийскую школу оканчивал,— вмешался в разговор Томанис.— Мне тоже русский не очень-то нужен. Я не собираюсь в России жить, мне и здесь хорошо. Мне непонятно, чего сюда русские лезут. Что у них своей земли мало? Вон Сибирь какая большая, только паши. Так нет, сюда прутся, как будто что забыли здесь.
— Здесь маслом намазано, вот и лезут сюда. А если бы их встречали не хлебом-солью, а дегтем, так не ехали бы. А так: «добро пожаловать, давно вас ждем, без вас, дармоедов, не обойдемся...»
— Ну, это ты перегнул. Я тоже — русский. Живу здесь с военных лет. И что я плохого сделал латышам? Для них старался, а они меня отблагодарили: сюда упекли,— вмешался Лопнев.
— Вы — другое дело. Время было военное. Голод, разруха. Тогда люди не знали, куда деться. Искали, где лучше. А сейчас чего толпой едут? Кого здесь ни встретишь только: грузин, армян, киргизов, башкир, а хохлов сколько — на каждом углу стоят и смотрят, где бы получше устроиться. Все национальности собраны. И каждому работу дай, да с хорошим заработком, квартиру дай, продукты, одежду... А бедный латыш пашет за всех, но его никто и никогда не пожалеет,— не унимался Гулбис.
— А что, разве латышей нет в Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Алма-Ате, в других республиках? А? — не выдержал я.
— Может, и есть. Чего они туда поперлись? Здесь всего хватает. За птицей счастья?
— Знаешь, ты их прости, что они у тебя разрешения не спросили и декларацию не представили с объяснениями причин отъезда. Простишь? — язвительно спросил я сидевшего напротив Гулбиса. Тот смутился, нервно дернул головой и сердито посмотрел на нового инструктора.
— Ты может в КГБ работал? С тобой трудно разговаривать: тебе — одно, а ты — другое.
— Нет, дорогой, я все о том же. Это ты, не зная демографических, национальных особенностей ни своей республики, ни других, пытаешься наивно утверждать, что латыши выше и лучше других народов. Но это совсем не так: твой народ такой же, как и всякий другой, столь же способен к научным и культурным достижениям. Развиваться и существовать любой народ не может без контактов с соседями, в изоляции. Другое дело, что многие ответственные лица не всегда помнят о внимательном и чутком отношении к национальным интересам, умаляют значение языка, культуры, традиций, науки той или иной нации. Национальный вопрос — это многогранная проблема.
— Ты затронул очень высокие материи. А жизнь, она проще. Мы бы без других жили бы лучше, богаче — и весь мой сказ,— не уступал Гулбис.
— Это упрощение проблемы, что и приводит к ошибкам, чреватым тяжелыми последствиями,— в заключение спокойно сказал я и поднялся из-за стола, так как в кормушке появилась голова баландера. Он начал выдавать второе.
Второе блюдо по качеству было не лучше первого и называлось оно у несовершеннолетних клейстером. Я видел его первый раз в жизни. Это была водянистая желтоватая жидкость с несколькими кусочками вареной картошки. Поковырявшись ложкой в этой массе, один из сокамерников горестно произнес:
— Этим клейстером только обои клеить: держаться будут крепко, не оторвешь.
— Ничего, наши желудки, как у кур — все переварят,— иронично успокоил другой и стал медленно, с неохотой есть клейстер.
Я тоже съел полмиски, на большее не хватило ни сил, ни мужества. Лопнев вообще не притронулся. Он нарезал маленькими ломтями сало, несколько кусочков положил передо мной и вприкуску с луковицей стал старательно жевать.
— А я закрываю глаза, набираю полную грудь воздуха и быстро опускаю несколько ложек в рот. Потом перевожу дыхание и снова повторяю. Так все и съел,— отодвигая пустую миску, сказал Юстас.
— А я тоже ем не глядя и внушаю себе, что это жареная картошка с огурцом. Так оно легче идет,— сказал парень, сидящий рядом с Томанисом. Чуть выше среднего роста, круглолицый, с большим носом и глубоко посаженными глазами, остриженный наголо, он оставлял впечатление глубоко переживающего юноши. К нему обращались сокамерники — кто по фамилии, кто по имени. Мне было трудно сразу разобраться в непривычных фамилиях и именах. Но многих уже запомнил. Так, худенького, самого непоседливого и болтливого звали Юстасом, фамилия у него — Кипурс. Достигшего совершеннолетия, главного помощника Лопнева,— Гулбис Лаце. Только что говорившего остриженного паренька звали Арвисом. Неоднократно слышал я и фамилию рядом сидевшего несовершеннолетнего. Сам он произносил ее — Томанис. Это был небольшого роста, коренастый юноша со светлыми волнистыми волосами и светло-голубыми глазами. Лицо было усеянно веснушками, нос угристый, красноватого цвета. Фамилия четвертого несовершеннолетнего легко запоминалась и подходила больше к женскому имени — Лаура. Костлявый, чуть сутулый, выше всех ростом, с длинными нескладными руками. Он походил на Дон Кихота Ламанчского.
Имя пятого несовершеннолетнего (или шестого по счету сокамерника) запомнил сразу, потому что оно было чисто русское — Павел. Это был типичный крестьянский парень: лицо крупное, губы толстые, нос чуть вздернут кверху, волосы каштановые, всегда лохматые, приземистая фигура пахаря. По характеру необидчив и послушен. Немногословен, даже робок в суждениях.
Совсем уж неожиданно судьба подбросила, как я вначале подумал, подарок. Рослый загорелый парень с актерской внешностью оказался моим земляком — уроженцем Витебщины. Старший инструктор камеры Николай Казимирович даже пошел на уступки и расположил нас на соседних койках, так что мы с Александром могли разговаривать, не повышая голоса. Правда, земляк оказался довольно строптивым, у нас с ним возникали конфликты, но на первых порах это не имело значения. Все-таки свой человек.
Сразу после обеда юноши взялись оканчивать работу. Сосредоточенно, быстрыми, точно выверенными движениями они клеили очень споро. Гора пакетов быстро росла, и вскоре работа была закончена. Перевязав бумажной лентой изделия в пачки по пятьдесят штук, ребята сложили их у двери, ожидая прихода рабочих из хозяйственной бригады. Те появились ровно в 16 часов. По этому поводу Лопнев заметил мастеру-женщине, которая проверяла и принимала продукцию:
— По вас можно часы сверять: как только по радио объявляют 16 часов, вы уже здесь. Да особенно можете не смотреть: мы работаем на совесть. Все в порядке.
Действительно, никаких замечаний от мастера не последовало. Она быстро пересмотрела все пачки и приняла.
Сдали работу, и в камере стало совсем тихо. Только дежурный подмел и подтер пол. Остальные разбрелись по своим койкам, отдыхали, вели негромкие разговоры, чаще всего о той, интересной, увлекательной жизни, которая осталась за стенами тюрьмы. Вздыхали, охали, печально качали головами, хмурили лица, горевали вслух и молча.
Я писал за столом, когда за мной пришла та же самая девушка-оператор, что водила меня сразу после приезда в Ригу к майору.
— Начальство просит вас к себе,— объявила она.
И вот я шагаю за красавицей в военной форме, раздумывая, зачем меня вызывают. Вообще-то уже время получить обвинительное заключение, которое я ждал с нетерпением и тревогой. Как-никак дело направлено в суд еще в июле, кончается август, а вестей оттуда все не было. Я уже написал два заявления с просьбой ускорить высылку обвинительного заключения в связи с его большим объемом и сложностью изучения. Я предполагал, что объем его составит около 400 печатных страниц. И чтобы изучить такой «роман», найти контраргументы, потребуется немало времени. По Закону, обвинительное заключение вручается подсудимому не менее чем за 5 дней до судебного рассмотрения, и высылает его после изучения суд, в производстве которого находится дело. Почему так? Я как юрист ориентировался в этих вопросах. При изучении уголовного дела судья может усомниться в объективности следствия, обнаружить ряд процессуальных ошибок и грубых нарушений и вернуть дело с распорядительного заседания. Как и сделал это Верховный суд БССР по данному делу. Поэтому обвинительное заключение до распорядительного заседания не высылается. А пятидневный срок законодатели считают достаточным для ознакомления. К тому же установлено: не менее, чем за 5 дней. Значит, можно, так в основном и делается судами, высылать обвинительное заключение и ранее, но только после распорядительного заседания. Получив заключение на руки, подсудимый еще не знает, когда же состоится окончательное судебное заседание.
Сидя в боксе и ожидая вызова, я все это мысленно перемолол и каждый раз, услышав шаги в коридоре, с нетерпением поглядывал на дверь. Меня привели на тот же этаж, что и прошлый раз, только стакан был другой. За стеной слышалось шарканье шагов и покашливание. Кто-то постучал три раза. Я громко ответил: «Говори!»
— С какой хаты? — раздался сиплый мужской голос.
— Из тридцать шестой,— решил соврать я.
— Я почти твой сосед — с три девять! Кто у вас за первым столом сидит?
— Пивовар,— решил напропалую лгать я.— Русский. Из Калуги, за мошенничество арестовали.
— Не слышал о таком что-то. А раньше у вас Амбро- зинас сидел. Где же он?
— Убрали куда-то. Понятия не имею.
— А рыжий у вас по кличке «Мотор» есть?
— Есть!
— Привет ему от Горького передай. Скажи, что сидели рядом в стаканах, держаться, мол, советовал, на уговоры не раскручиваться. Если что, крышка ему на зоне будет. Не забудь — слово в слово скажи. А то он нестойкий. А у тебя подельники есть?
— Нет, один!
— За что?
— Спекуляция в особо крупных размерах!
— Ого! Капитала много загреб?
— Все мое. Секретов не выдаю!
— А я и не требую. Выйдешь, поживешь на широкую ногу. А мы за 15 рублей мокруху с кентом сделали. Лет 15 отмерят, а потом выйдешь на голяк! Не везет, так не везет. Думали, что у него дома капусты много. Пришли, обрез к горлу: давай, выкладывай, скотина! А он: вот, ребятки, только 15 рублей и есть. Кент ему перо показывает, по горлу медленно водит: давай, гад, перережу.
У него кровь брызнула. Он молится, плачет, что нет: пожалейте. Где там! Ткнул кент ему перышком в самое сердце. Обшарили, все облазили — нет ничего. Только пять сберкнижек на 100 тысяч рублей. Богатый, да не про нас. Просчитались. А теперь вот дела — хуже некуда.
— На чем погорели? — переборов брезгливость, спросил я.
— Пошли в кассу деньги снимать. Кассир попалась не дура. Зубки мне заговаривала, а сама, значит, на сигнализацию нажала. Двери на замок, и легавые — тут как тут. «Вы артисты, без сомнения, проходите в отделенье». Друг обрез выхватил, успел на курок нажать, но удар по руке раньше пришелся, и пуля в потолок. К нашему счастью. А так было бы два трупа. Конец! Вышак! Лет пятнадцать отхватим. Говорят, новая статья появилась: можно и двадцать отхватить. Правда это или брешут?
— Правда. Это касается тех, кому присудили вышку, а по апелляции Президиум может заменить расстрел на 20 лет наказания.
— И то хлеб. А то тут тоже можно всего ожидать. Но полагаю, 15 лет, больше за одного старика не должны сунуть...
Тут пришла девушка-оператор и отвела меня к чопорному майору. Как и в прошлый раз, увидев меня, он торжествующе усмехнулся. Взгляд его мне показался высокомерным и пренебрежительным одновременно. Как бы подтверждая мои мысли, он заговорил подчеркнуто официально:
— Ну как устроились? Довольны?
— Ничего, жить можно. Камера неплохая и арестованные не из худших.
— Понятно! Я так и думал. Значит, акклиматизация уже произошла. Пора вас и самостоятельным инструктором перевести в какую-нибудь камеру. Как вы на это смотрите?
— Я категорически против. Только освоился, узнал людей — и на новое место. К тому же, здесь мне спокойно: я писать могу. Скоро должно прийти обвинительное заключение. А, может, уже прислали?
— Нет еще! У нас суды не спешат. Можете несколько месяцев прождать.
— Как? Согласно УПК суд в месячный срок после получения дела должен начать его рассматривать. Неужели Верховный суд будет нарушать закон?
— Чего? Вы как будто с Луны свалились! У нас суды по полгода дела рассматривают. А вот один уже год сидит, дожидается, а его дело все откладывается и откладывается.
— Это же вопиющее беззаконие! Человек сидит год под стражей, в нечеловеческих условиях, а его дело суд тянет и не рассматривает. Я о таком впервые слышу. Почему же он не жалуется? Почему вы молчите, он же у вас сидит?
— Он-то жалуется, каждую неделю пишет. Да толку с того. Ему культурно отвечают: ждите, вызовут, мы ускорим и т. п. А нам что: наше дело маленькое. Нам привезли арестованного, мы должны предоставить ему камеру, койко-место, трехразовое питание, согласно утвержденным нормам и существующим расценкам. Обеспечить его безопасность и охрану. А другие его трудности и заботы нас волнуют постольку-поскольку: нам бы со своими справиться. Только успевай проверяющих ублажать. А с малолетками надо кому-то сидеть. Желание ваше нам также не указ,— окончил он.
— Но ведь, согласитесь, закон для всех должен быть один. И любой честный человек, обнаружив, что его грубо нарушают, тем более, когда это касается ваших подопечных, должен сообщить об этом куда следует. Это элементарный долг не только должностного лица, а любого гражданина.
— Я смотрю, вы хорошо знаете, кто, что и кому должен. А где же сами были, когда расследовали дела? Нахомутали, нахимичили, человека невиновного в тюрьму посадили, а теперь о долге речи толкаете? — вспылил майор. Лицо его покраснело, глаза стали колючими.
— Со мной не разобрались. Я виновен, но не в такой степени, как это представило следствие. Состряпанное на меня обвинение — грязный поток клеветы и оскорблений, о чем я писал, пишу и буду писать. Считаю, что способен отстоять свою честь. А для этого мне необходимы минимально нормальные условия. Сами понимаете, что значит для прокурорского работника быть среди преступников день и ночь Кстати, дежурные по этажу работают очень плохо: часами не заглядывают в камеры. Можно избить, убить, изнасиловать сокамерника — и никто не придет на помощь. Так вот, прошу вас и настаиваю создать мне нормальные бытовые условия, чтобы я мог без опаски, без оглядки спокойно достать свои записи по делу и работать, писать жалобы. В этой камере, где нахожусь сейчас, хотя и скрываю от окружающих, кто я, но потихоньку работать можно. Это ведь у вас лучшая из лучших камер. А вы хотите мне еще худшие условия создать? Я буду жаловаться,— волнуясь, я лихорадочно искал доводы, чтобы переубедить ответственного работника учреждения, вынудить его отказаться от намерения перевести меня в другую камеру. Но он был непреклонен и грубо перебил меня:
— Жалуйтесь хоть министру, хоть черту, хоть Богу! Здесь порядок устанавливает администрация. Вы скажите нам спасибо, что не бросили вас в многоместную камеру ко взрослым: там бы вас не только давно раздели, но сделали кое-что еще...— многозначительно заявил майор.— Поэтому пойдете туда, куда мы скажем. Я подумаю еще,— он встал из-за стола, давая понять, что разговор окончен, и никакие доводы не принимаются.
— Да, там с вами в камере находится несовершеннолетний — Плутон Александр. Что вы можете о нем сказать?
— Я не знаю, что вас интересует. Парень циничен, очень высокого о себе мнения, распущенный, но не совсем. Человеческие качества преобладают над животными.
— Меня он интересует не в этом плане. Долгое время бродяжничал: водятся ли за ним еще какие грехи, совершал ли он, кроме тех, что рассказал, преступления.
— Вы знаете, он со мной об этом не говорил.
— Вы же земляки, найдите к нему подход. Узнаете, потом скажете. Если я вас переведу в другую камеру, он пойдет с вами. У вас будет время войти к нему в доверие.
— Знаете, я не хочу заниматься таким делом. Вы меня извините и не обижайтесь, но у каждого свои принципы. Я не желаю...— Но майор снова перебил меня, досадливо махнув рукой, и раздраженно посмотрел на меня:
— Вы же только что распинались о долге, говорили, что каждый честный должен помочь найти истину. Сами работали в органах, а помочь раскрыть преступление отказываетесь. Не понимаю вас. Я просто поражен!
— Я не отказываюсь помочь органам. Я говорю о способах достижения цели. Я не приемлю тезиса, что все средства хороши для этого. В свое время я тоже так считал и с благими намерениями перегнул. Теперь стал осторожнее в выборе средств. Как говорят, обжегшийся на молоке на воду дуть будет.
— Вас трудно понять. Крутитесь, как вьюн на сковородке. Не хотите, не надо. Только зря вы так: долго еще сидеть-то, а постоянно ссоритесь с администрацией.
— У каждого свои жизненные принципы. Уж не обессудьте. Хоть в необычной нахожусь ситуации, а кривить душой...— как бы оправдываясь, стараясь сгладить острые углы, тихо произнес я.
— Идите и думайте, где вы находитесь. Времена, когда с вами считались, когда вы имели голос, прошли,— сказал майор, косо посмотрев на меня. Потом отвернулся и стал перебирать бумаги на столе.
Огорченный, недовольный собой вернулся я в камеру. Молча прилег на койку и стал обдумывать детали и нюансы неожиданного разговора с начальством. И тут меня осенило: вчера к этому самому майору вызывали Лопнева. За ним приходила та же девушка, что и сегодня за мной. О чем Лопнев говорил с майором, я не знал. Но подозревал, не без оснований, что он мог на меня наговорить, не желая делить власть в камере. Вот почему и встал вопрос о моем переводе. Придя к такому умозаключению, я решил при удобном случае переговорить с Лопневым наедине, чтобы развеять сомнения. Такая возможность представилась во время прогулки. Парни играли в «классики», а мы грелись, подставляя плечи солнечным лучам.
— Николай Казимирович, ты вчера был у майора?
— Да. А откуда ты узнал? — удивился он.
— Добрые люди сказали,— уклончиво ответил я.— А что ты ему говорил обо мне?
— Ничего я не говорил. Вообще о тебе речи не шло.
Но внимательно посмотрев на сокамерника, я заметил, как беспокойно и тревожно забегали его глаза.
— Ну, а если хорошенько вспомнить? Мне кое-что известно.
— Подожди! — делая вид, что силится вспомнить подробности своей беседы с майором, сказал Лопнев.— Да. Кажется, он спрашивал, какое у меня мнение о тебе. Да, да, спросил!
— И что же ты ему ответил?
— Я сказал только хорошее: что ты грамотный, всесторонне развитый человек, может, даже умнее меня. И больше ничего.— Хитрая усмешка скользнула по его лицу, но я успел ее заметить и стал его отчитывать:
— Эх, Николай Казимирович. Зря ты на меня накляузничал. Оба мы в тяжелом, бедственном положении, а еще друг друга «поливать». Нехорошо это. Очень даже непорядочно.— Начав эту отповедь, я уже понял, что зря говорю это, что прямых улик у меня нет, только подозрения.
«Вывернется, старый прохиндей»,— подумал я, но не мог уже остановиться.
Лопнев с удивлением смотрел на меня:
— Что это ты так со мной разговариваешь? Я о тебе и слова плохого не сказал. А ты мне намеки какие-то делаешь?
На этом наш разговор закончился. Никто не хотел его продолжать. Некоторое время спустя я увидел, как Лопнев подошел к Гулбису и, закурив, о чем-то тихо разговаривал с ним, исподтишка поглядывая в мою сторону.
На следующий день утром в камеру зашел старший воспитатель — краснощекий майор. Спросил, как дела, есть ли у кого вопросы, и поскольку вопросов не последовало, хотел уйти, но вдруг Лопнев попросился к нему на прием. Мне сразу стало понятно, что речь пойдет обо мне. «Зачем я полез к нему с разговором? Сам себе навредил»,— с досадой подумал я. Так оно и получилось. Не прошло и часа после возвращения Лопнева от воспитателя, как пришел дежурный по коридору и приказал мне собираться с вещами.
Молча собрав вещи, я попрощался с каждым за руку и когда пожимал руку Лопневу, то с презрением посмотрел ему в глаза. Не выдержав моего взгляда, стукач смутился и отвел свои глаза в сторону. Желая хоть как-то загладить свою вину, он предложил мне взять кое-что из продуктов — сало, сахар, масло. Я согласился, зная, что в этой камере голодными арестанты не будут, а куда перебросят меня, еще неизвестно. Ребята быстро завернули в газету продукты и пожелали успехов в жизни. В ответ я с благодарностью и внезапно охватившей грустью ответил: «Ни пуха вам, мужики, ни пера. Быстрее домой возвращайтесь и сюда больше не попадайтесь». Мне было действительно грустно расставаться с ними: здесь я провел почти двадцать суток, сумел многих понять, узнать. Конечно, любой здравомыслящий может подумать: что такое двадцать суток в жизни? Но не надо забывать, что это двадцать дней и ночей неволи, тяжких раздумий, откровенных разговоров, мучительных страданий и переживаний, где день тянется как год.
Передо мной отворилась дверь камеры № 267, которая располагалась в этом же корпусе, в этом же коридоре, на той же стороне что и 263. Но была значительно меньше. Площадь — не более восьми квадратных метров, заполненная тремя двухъярусными кроватями, туалетом и маленьким столом. Она показалась мне подобной клетке для зверей: именно такие я видел в передвижном цирке. К тому же воздух был спертым, удушливым: окно плотно закрыто. Дневной свет еле проникал сквозь металлические пластины, густо разлиновавшие окно. Койки, расположенные вдоль стены, частично закрывали его. В камере царил хаос и беспорядок: пол был грязным, давно не мытым. В углу возле унитаза скопилась гора мусора, издававшего резкий запах гнили, на столе валялись объедки; на кроватях — порванные журналы, книги; стены ободраны, потолок почернел от копоти и времени.
На меня равнодушно смотрели две пары любопытных глаз. «Здесь живут люди, но у иной хозяйки в хлеву чище»,— подумал я, а вслух сказал:
— Привет, тунеядцы и бездельники.
— Привет, коли не шутишь,— ответил полнощекий парень.
Другой лежал на койке, задрав ноги на перекладину и даже не подумал встать при появлении работника учреждения, сопровождавшего меня. Тот, не обратив внимания на это, быстро удалился из камеры, громко хлопнув дверью и засовами.
— Будем знакомы. Меня зовут Валерий,— представился я и протянул руку толстому парню. Тот вложил в нее свою ладонь и назвался Арвидом. Второй, не поднимаясь с койки, небрежно протянул в пространство руку, очевидно, надеясь, что я подойду к нему, и безразлично бросил: «Герхард». Я не подошел, и его протянутая рука, повисев в воздухе, медленно опустилась на живот. Тогда он резво вскочил и стал передо мной в грозную позу. Я окинул его оценивающим взглядом с ног до головы. Передо мной стоял маленький, сухощавый и верткий юноша с быстро бегающими глазами. По его багрово красной шее со вздувшимися венами, наглому выражению лица можно было догадаться, что этот парень вспыльчив и очень самолюбив. Болезненно-бледный цвет лица, подергивание щек и нервная дрожь рук подтвердили мой диагноз о неуравновешенности его характера и легкой возбудимости. Когда же он встал, заговорил — бессвязно, отрывисто, мне показалось, что передо мной психически больной человек. В этом меня убеждала и его стрижка «под Котовского» — наголо обритая шишковатая голова с низким морщинистым лбом.
Другой же юноша был высокорослый, плотного телосложения, говорил медленно, взвешивая каждое слово. Полные, по-детски розовые щеки, курносый нос, внушительный рост, темные большие глаза — в общем, довольно привлекательная фигура.
Бритоголовый, то бишь Герхард, истерично, сквозь полусжатЫе зубы заскулил:
— Еще одного инструктора на нашу голову бросили! И этого обломаем: от нас только что один сбежал.
— Может, ничего кадр, присмотримся. А если что, то и проводим с почетом. Не впервой. Бугор, видишь, даже не приказал тебе встать: сразу понял, что бесполезно с тобой связываться. От скандала подальше.
— Да, я им вчера хороший переполох устроил: стены дрожали! Шнур прибежал, только ртом зевает, просит: «Может, успокоишься, Герхард,— телевизор принесу». А на кой... мне его телевизор. Я жрать хочу...— хвастливый монолог закончился грязной нецензурной бранью.
«Ну и публика»,— подумал я.
— А когда ты на пол повалился, да задрав штаны, стал всех голым задом освещать, я чуть со смеху рядом не упал. Шнур — это мы так старвоспита зовем — поморщился, кровью налился, руками машет, на корпусника смотрит, а тот плечами пожимает, как жид от холода. А баба, пушкарша, та сразу драпанула.
— А что мне с ними — свиней пасти? Пусть знают: кто есть кто. Чтобы каждый день был телевизор, приходил баландер, убирали и пайку нормальную давали, не воровали. Я и сегодня скоро начну спектакль. Отдохну малость и устрою им концерт почище вчерашнего.
— И чем же закончилось твое представление?
— Какой-то полковник-жид прибежал и давай грозить, что в карцер посадит, а я только два дня, как оттуда. Кричу ему: повешусь, а перед тем жалобу накатаю. Уговорили они меня. Пообещали «златые горы и бочки полные вина». Посмотрим, если свои обещания не выполнят, через два часа снова начну. Как раз смена заканчивается. А кто заступит? Арвид, ты не знаешь? — выражение глаз и лица Герхарда постоянно менялось. Но возбужденная, лихорадочная «красочная» речь определенно отражала психическую неполноценность.
— Проститутка, подстилка изоляторская! Мы же с тобой видели, как ее ночью один старый щупал, юбку задирал. А потом, через день, уже другой, майор, целовал. А мы иголкой заслонку глазка отодвинули и подглядывали, а потом как заорем, так тот майор как даст драпа! Во пер! Старый хрыч, а к молодой лезет...
— A-а, ну тогда пусть бережется. Пока мне не даст, не отстану...— Опять последовала грязная брань.
— Отодвинь глазок, посмотри, кто топает по лестнице,— попросил Арвид.
Герхард иглой, вставленной в дырку возле стекла глазка, отодвинул заслонку в сторону и припал к глазку. Из камеры хорошо просматривались часть коридора и лестница.
— Старшина поднялся, пошел к кабинету шнурка. Баба вниз поползла, с широким задом,— комментировал он громко и отрывисто...
«Что тут предпринять, как создать себе нормальные условия в этом проклятом изоляторе»,— растроенно размышлял я. В этой камере мне не только не подготовиться к процессу, но даже спокойно провести день вряд ли будет возможно, а, возможно, и самому придется «рехнуться». Постоянное гримасничанье, кривлянье, грязная брань, истеричные выкрики, суета по тесной зловонной захарканной камере бритоголового не предвещали ничего хорошего. Порой мне хотелось встать, схватить этого психа за шиворот, прижать к грязному вонючему полу, стукнуть пару раз и тыкать носом, искривленным от перелома, в кучу гниющего вонючего мусора. А что дальше? Это существо, получеловек-полуживотное тут же побежит жаловаться, что побил инструктор. Отношения же у меня с администрацией натянутые, если не сказать больше.
рассмотренияс-дела ,т приходится; -еж- щауг малейшую
-ДоказщсЬг.М;щ^&^й1«кий,
И попытка проучить бритоголового может сыграть роковую роль.
Сжав до боли голову руками, стиснув зубы, растерянный я молча сидел и напряженно думал, как найти выход из создавшейся ситуации. Наконец, кое-как овладев собой, изо всех сил сдерживая эмоции, я спокойно попросил Герхарда:
— Присядь! Давай поговорим. Успеешь накричаться.
— Что ж, давай побазарим.
— Откуда ты такой шустрый?
— Как и все, из...— назвал он цинично один женский орган.
— Я не о том, где родился, где крестился?
— Где родился — не знаю, крещеный ли — тоже не знаю. А какая это разница? Все равно: жизнь кончена!
— Разница большая. У каждого человека есть своя родина, край, где он родился и вырос. Я, например, из Белоруссии. Родился в деревне. Рядом — небольшое озеро, чуть дальше — лес, куда ходил в детстве грибы собирать. Но детство пролетело, не заметил, как старость наступает на пятки. Вот так-то, юноша. Годы летят, как птицы. О них помнить надо.
— Так ты из Белоруссии? — вмешался в разговор Арвид.— Был у нас тут один почти две недели инструктором, тоже говорил, что из Белоруссии. Спортсмен! Но тут ему негде было заниматься. Да и мы ни днем, ни ночью покоя ему не давали. Сбежал.
— А как же его звали?
— Валерий. Такой черненький, среднего роста. Не твой подельник?
— Нет,— ответил я, хотя сразу догадался, что это был Кирпиченок.
— Странно, ты же тоже из Белоруссии. А за что сидишь?
— За контрабанду, валютные операции,— снова, уж в который раз, солгал я. Скажи здесь кому правду — завтра весь изолятор будет знать, кто ты, и тогда жизни не будет.
— А тот за спекуляцию сидел. Говорил из Минска, а ты из какого города?
— Из Бреста. Слышал про такой?
— Слышал, как же: западные ворота в Европу. Потому и на контрабанду, значит, потянуло. Сколько миллионов капусты собрал?
— Тебе скажи, так и ты захочешь.
— А как же: капусту я люблю, сам за нее сижу.
— За что конкретно ты привлекаешься? — спросил я и покосился на умолкнувшего Герхарда. Лицо его было скучным, взгляд пустым и отрешенным.
— Длинная история. Уже осужден. Скоро должен быть этап: на зону топать. Сунули, скоты, пять лет.
— Так что, ты сейчас на зону поедешь?
— Нет, из зоны меня привезли «на раскрутку»: еще пару грабежей надыбали легавые. Да и квартирные кражи хотят на нас повесить. Посмотрим, подумаем. Может, что еще ц возьму... Угостят чайком, водочкой — дам показания, нет — пошли они к...— грязно выругался Герхард.
— Ну, а если бы ты успокоился, взялся за голову и попробовал собраться с мыслями, настроить себя на нормальный лад? Смотри: отсидел ты половину, чуть больше, на стройки вырвался. Работал бы честно, потом женился, здоровье подлечил, оно, может, лучше было бы...— Осторожно и неуверенно пытался советовать я.
— Ты что, в самом деле не понимаешь, что я конченый, никому не нужный человек? Каким родился, таким и умру. Никто и ничто уже не спасет меня. И я никому ничего ни на грамм не уступлю... Больной я, и больше не заводи меня. Прошу, уйди от греха подальше!..— Снова последовала грязная нецензурная брань.
Передо мной стоял бледный, несчастный, замученный, искалечивший сам себя совсем юный человек. Подавленный услышанным и увиденным, я молча прошелся по камере. Вернее, потоптался на месте: только три шага было от поперечно стоявшей койки до двери. Постоял, снова осмотрел чудовищно безобразные апартаменты и улегся на койку, повернувшись лицом к стене.
Не заметил, как уснул. Но, очевидно, спал не долго. Разбудил меня громкий шум и крик. Открыв глаза и повернувшись, увидел сидящего на корточках у кормушки Герхарда. Он хохотал, плакал, скалил зубы, зло, нецензурно ругался. И все это делал, кажется, одновременно. Но хотя выражение лица его непрерывно менялось, оно оставалось все равно сморщенным и угрюмым. Нервно вздрагивающие густые брови, горбатый красноватый нос, нервное подпрыгивание на полусогнутых ногах перед кормушкой и беспорядочный отрывистый говор, сопровождавшийся лязгом зубов, придавали ему вид озлобленного, паршивого цепного пса. Спросонья я не сразу разобрался, о чем шла речь. Но когда сосредоточился, стряхнув с себя остатки сна, отчетливо стал различать два голоса: истеричный юношеский и изредка перебивавший его мягкий женский.
— Ты, проститутка и стерва, что жрешь? Дай мне похавать! Я голодный, как волк. Дай, говорю. Тебе лее лучше будет. Я видел, как к тебе майор под юбку лез.
— А если не дам, что ты мне сделаешь? Молод еще, чтоб у женщин просить.
— Сука бесстыжая! Знаешь ли ты, с кем разговариваешь? Да я таких как ты, проститутка, на свободе тысячи имел, покупал оптом и в розницу. Чего ломаешься, как целочка? Дай семечек!
— Может, еще чего хочешь?
— Я бы с удовольствием тебя...— И он разразился бурным потоком всех известных ему бранных слов и выражений.— Я тебе еще припомню, когда отсижу: увижу — задавлю, как блудливую овцу! Я по ночам, когда ты дежуришь, слежу за тобой. Тебя старлей обнимал вон в том углу, а потом раком ставил... (Снова — поток нецензурщины...) Я напишу твоему мужу, как ты можешь, проститутка, с кем попало сношаться. Придешь ко мне ночью, возьмешь... в рот... не скажу, а иначе — жизни не дам.
— Ишь чего захотел! А больше ничего не надо?
— Смотри, стерва, сколько у меня шаров вставлено,— стал снимать штаны парень. Но быстро застегнул их — в коридоре послышались близкие шаги и голоса.
— Что здесь происходит? — спросил мужской голос.
— А вот этот, бритоголовый, штаны снимает: показывает мне свое «хозяйство», ругается — житья нет. Подзовет меня и давай обзывать, кричать, небылицы сочинять.
— А вы не подходите и не разговаривайте. Не положено контролерам с арестованными в переговоры вступать.
— Да нужен он мне, как собаке пятая нога! Стучит, ревет на весь коридор, подойду успокаивать, он немного уймется и давай на меня лаять. Что делать — не знаю. Надоел он мне.
Мне показалось, что с женщиной говорит старший воспитатель. Я вскочил и, отодвинув бритоголового, сидящего по-прежнему на корточках перед кормушкой, посмотрел в коридор. Действительно, перед нашей дверью стояли пухлый майор и контролер, красивая полнеющая женщина лет тридцати. По вульгарно размалеванному лицу нетрудно было предположить, что она могла легко вступать в контакты с мужчинами.
— Извините, что перебиваю. Гражданин воспитатель, я прошу вас вызвать меня к себе для беседы. Только сегодня, не откладывая,— попросил я.
— Хорошо, освобожусь — вызову.— Воспользовавшись моим вмешательством, майор дал задний ход. Кормушка захлопнулась.
— Ты помешал мне побазарить с ней. Я с этой блядью чуть было не договорился. Еще немного, и она была бы моя: через кормушку сосала бы у меня... (Снова последовали непристойные выражения.)
— Брось дурью маяться. Успокойся и сядь. Неужели не надоело?
— Какое тебе дело? Я тебя не трогаю, ну и помалкивай. Учитель нашелся! Я тебя сюда приглашал? Ну й не суйся,— окрысился юноша. Но и я не желал ему уступать.
— Хватит, прекрати базар! Не посмотрю, что бритоголовый. Еще одну трещину на голове получишь. Если не знаешь, с кем разговариваешь, лучше помолчи. Не таких на место ставил и рога обламывал. Или побокси- руем? — Мгновенно я принял стойку боксера, готового в любую секунду обрушить шквал ударов на соперника.
Не ожидая такой выходки от инструктора, Герхард старчески сморщился, сжался почти в комок и медленно попятился назад:
— Ты что, сдурел? Еще последние зубы выбьешь, а чем мне жевать потом? Ладно, не будем ссориться. Я тоже в драке страшен бываю. Но ты видно силен, по осанке и фигуре вижу, что боксом занимался. По-моему, боксеры все сутуловатые и подбородок держат к груди, чтоб их не нокаутировали. На прогулке потягаемся. Здесь места нет. Ты, конечно, здоровее меня — амбал вон какой! Но я ловок, как черт. Там поглядим еще...— Непрерывной дробью строчил Герхард. Не трудно было догадаться, что в нем боролись два чувства: желание ринуться в драку и доказать, на что он способен, и страх, который оказался сильнее. Медленно и неохотно он уступил.
Тут вмешался второй сокамерник:
— Ты, инструктор, особо не скачи здесь. Вдвоем мы с тобой запросто справимся.
— Арвид, а тебя я разве связал? Пожалуйста, я к твоим услугам. Или ты привык исподтишка, сзади, из-за угла бить? Я не боюсь открытого боя,— отпарировал я, видя, что Герхард уже морально подавлен и на некоторое время — не соперник.
— Ладно. Неохота связываться. Еще и вправду челюсть сломаешь. Кто вас тут разберет? — выждав немного, примирительно закончил Арвид.
Я тоже решил не рисковать и не искушать судьбу. Да и не был настолько уверен в своих силах, чтобы на все сто процентов гарантировать победу над двумя крепкими парнями. Но и цену себе знал. Нигде, ни при каких обстоятельствах, я еще не просил пошады. Дрался из последних сил, даже когда был один против трех, четырех, пяти... Правда, был в моей юношеской жизни единственный случай бегства. Тогда мне было столько же, как и этим парням. Мой противник в ярости вырвал из забора длинную и толстую штакетину, бросился на меня. Тут я и рванул: сработал инстинкт самосохранения. И еще такое было. В девятом классе на перемене один пацан стукнул меня в подбородок, а я стерпел, решив дать сдачи потом. Но так и не выбрал для мести удобного места и времени. Эти два случая не забылись. Потом было у меня в жизни немало стычек, когда я не уступал противнику ни на йоту, дрался до последнего. Некоторые из побед вспоминать теперь не очень приятно. Но что было, то было... Так, одному мастеру по боксу рассек бровь, другому, тяжеловесу, во время службы в армии, защищаясь от ударов его огромных, с мою голову кулаков, сильным ударом сломал челюсть. После этого разборы были большие: чуть не посадили. Спасло не то, что я защищался (органы дознания и следствия могут иногда из ничего сделать преступление), а то, что на следующий день неожиданно пробудился давно не беспокоивший аппендицит, и пришлось срочно ложиться на операцию. В госпитале вместо двух недель я пролежал сорок дней: боясь быть привлеченным к судебной ответственности, я тайком, умышленно раздирал ногтями заживающую рану.
Опытный хирург, капитан первого ранга, делавший мне операцию, сразу определил причину возникновения нагноения — от попадания в рану грязи из-под ногтей больного. И когда меня снова положили на операционный стол, плотно привязали к нему мои руки-ноги, стали без наркоза откачивать из раны гной, я кричал благим матом, обливался потом и умолял дать наркоз. Но операционная медсестра отказала мне в этом, сославшись на указания лечащего врача. Она мне и рассказала, что этот капитан первого ранга, теперь уже седой, лет за шестьдесят старик, в партизанском отряде сам себе отпилил правую ногу. Его ранили, началась гангрена. Ни медикаментов, ни врачей в отряде не было. Он, единственный молодой врач, понимал, что если немедленно не ампутировать раненую ноту, смерть неизбежна. Он попросил товарищей оказать ему такую услугу, но никто не согласился: ни у кого не поднимались руки отрезать ногу врачу, спасшему от верной смерти десятки больных. Тогда он сам, выпив два стакана самогонки, стал пилить ногу, корчась от боли, обливаясь потом. Только тогда ему помогли. Да! Это был сильный человек!
Вот обо всем этом я и вспомнил в зловонной камере после стычки с молодыми арестантами, сидя на койке и ожидая вызова к воспитателю. Я был полон решимости во что бы то ни стало уйти из этой клетки. Ибо, оставаясь здесь, я обрекал себя на постоянные конфликты с деградировавшими подростками. Лучше уйти от греха подальше. Молчать, потакать и угождать парням с извращенной психикой и наклонностями было не в моих правилах.
А бритоголовый снова стал изощряться в своих выходках. Он беспрерывно колотил ногой в дверь, похабно ругаясь. Его лицо поистине становилось безумным, взгляд был, как у сумасшедшего. Очевидно, он действительно был таким, с приливами и отливами. Сейчас мне это стало предельно ясно. Когда же подошла к двери та самая женщина-оператор, то парень, присев на корточки, сразу изменил выражение лица, сделав его притворно любезным, и тут же стал снова оскорблять ее, не стесняясь в выражениях. А та хохотала в ответ на поток нецензурных слов, унижающих и оскорбляющих человеческое достоинство. У меня сложилось впечатление, что ей даже приятно было слушать эту похабщину. Ведь она даже не пыталась приструнить его, только неуверенно спорила с распоясавшимся подростком. Видя это, Герхард входил в раж, бранился, кричал, расстегивал и опять застегивал брюки, просил, молил женщину сделать ему грязное одолжение, пугал ее, предупреждал, угрожал. Не выдержав, я несколько раз пытался урезонить разбушевавшегося хулигана, но тот вошел в экстаз, и, казалось, никто и ничто не в силах остановить его. Слышать и видеть происходящее казалось выше человеческих сил. Возникло острое желание ударить этого подонка так, чтобы он отлетел от раскрытой кормушки в вонючую кучу мусора. Но я сдержал себя. И даже когда за дверьми послышался голос воспитателя, Герхард продолжал извергать фонтан своего грязного нецензурного «красноречия». В ответ на замечания майора он стал обзывать его толстым, пузатым, глупым. Когда же отворилась дверь и на пороге появился красный, как рак, с налитыми кровью глазами, разъяренный старший воспитатель, юноша продолжал гримасничать, кривляться, кричать и браниться. Видя, что на грозные окрики возбужденный Герхард не реагирует, майор попытался урезонить его добром, обещаниями, уговорами. Но и это не помогло. Тогда майор, махнув рукой, оставил камеру, пригласив меня с собой.
Кабинет старшего воспитателя был небольшой, но светлый, с большим зарешеченным окном. Напротив входной двери у стены располагался большой двухтумбовый письменный стол, заваленный с одного края кипами бумаг; другую сторону стола занимала небольшая картотека. В углу справа стоял металлический сейф. Пол устилал ковер. В комнате было чисто, свежо и уютно. После грязной удушливой камеры она показалась мне райским уголком.
Не приглашая сесть, майор начал беседу:
— Какие у вас вопросы? Зачем просились ко мне?
— Вопрос один. Прошу создать нормальные условия содержания. Других нет!
— Вот как? — Краснощекое лицо изобразило наивное удивление.— А чем, собственно, вам плохо с несовершеннолетними?
— Там не то что плохо, там невыносимо находиться и час. Это просто зверинец! В чем вы только что могли убедиться,— возмущенно ответил я на притворно-наивный вопрос воспитателя. Тот, немного смутившись, заговорил чуть мягче: — Ну зачем так грубо: «зверинец». Это же люди все-таки. У вас высшее образование, жизненный опыт, вот вы и должны помочь им стать на путь исправления. А вы сами ведете себя так...— Но я не дал ему «достелить».
— Я просто не понимаю вас. Вы что, меня действительно за дурака, грубо выражаясь, принимаете? Не видите, что этот бритоголовый — психически больной человек, и его содержать с другими арестованными нельзя? Мало того, потворствуете и потакаете ему, любезничаете и заискиваете перед ним. Я же не такой глупец, как вам, может быть, хотелось бы видеть. Этому безобразию должен быть положен конец. Иначе я сегодня же сажусь и начинаю писать жалобы и заявления во все высокие инстанции о беззаконии и безответственности должностных лиц. Вы что, этого добиваетесь от меня? — сдерживая волнение, как можно спокойнее убеждал я.
Не ожидавший такой напористости воспитатель заискивающе улыбнулся и заговорил уже примирительно:
— Что вы, что вы? Я же к вам — всей душой, всем сердцем. Я же вам ни одного грубого слова не сказал. Это не я перевел вас из 279-й камеры, такую команду дало начальство. Ко мне у вас не должно быть никаких претензий. Наоборот, я сочувствую вам, мне по-человечески жаль вас. Я понимаю, что вы старались, честно работали, а вас за это в тюрьму. Так и меня, и любого могут поса-
82 дить. Я постараюсь вам помочь, чем смогу. А тот подросток — действительно больной человек, но я бессилен что-то предпринять. Надо бы в больницу, в психоневрологическое отделение определить. Я говорил начальству, но пока нет мест. Оставить его одного тоже нельзя: дел натворит, потом беды не оберешься.
— Так что, вы меня вроде сторожа-санитара к нему приставили? У меня суд на носу. Отсидел, отмучился ни за что год. Нервы потрепал — врагу не пожелаешь, и на финишной прямой мне такие препятствия устраивают. Совсем добить хотите? Говорите одно, а делаете другое.
— Я тут не причем. Начальству чем-то вы не понравились. Мое дело маленькое, мне приказывают — я исполняю. Человек я военный, должен подчиняться. Дис- цинлика, сами понимаете. Не обижайтесь на меня,— продолжал мягко стелить майор.
Я стоял, переминаясь с ноги на ногу, угрюмо смотрел в полное, расплывшееся лицо майора и думал: «Вот такие хитрецы нынче в моде. Со всеми хочет ладить, думает больше не о служебных обязанностях, а о том, как бы угодить начальству, да как бы чего не вышло. Страхуется и перестраховывается. Хитрый и скользкий». Содержание моих нелестных мыслей о нем майор как будто подслушал и заявил решительно:
— Ладно. Я пойду к начальству. Пусть оно и решает, что с вами делать. Попробую уговорить кого-нибудь из замов главного, чтобы они вас сейчас приняли. А пока посидите в камере. Если кто из верхних соизволит вас принять, я вызову.
Мне, конечно, ничего не оставалось, как подчиниться. Я снова оказался в опротивевшей до тошноты вонючей и шумной камере, где стук, крик и сплошная нецензурная брань еще не прекратились. Я попытался приструнить разбушевавшегося хулигана, но на того слова не действовали. Убедившись еще раз в бесполезности своей попытки, я прилег на койку и с нетерпением стал ждать, чем окончится сегодняшний день: вызовут ли меня для беседы и даст ли она положительные результаты. Арвид не выдержал и поинтересовался:
— Зачем ты ходил к воспиту?
— Есть личные дела,— уклончиво ответил я.
— Хитришь что-то ты. Какие могут быть личные дела? Козлил небось, жаловался.
— А тут и жаловаться не надо. Оно и так всем все видно: камера превращена в хлев для скота, а вы — далеко не подарок для общества. Он же был здесь и сам все видел.
Видимо удовлетворившись таким ответом, Арвид больше с вопросами не лез.
Дверь открылась, и майор пригласил меня следовать за ним.
В его кабинете за столом сидел работник учреждения в форме полковника. Когда я вошел, он даже не поднял головы от бумаги, которую держал в руках. Остановившись метрах в двух от стола, я заметил, что читал он (тут и не надо было гадать) мою личную карточку. Я негромко и спокойно поздоровался с полковником, но тот не ответил на приветствие. Только его полные круглые щеки, заканчивающиеся двойным подбородком, вдруг разом побагровели. Наконец он поднял глаза, пристально оглядел меня, грубо произнес:
— Не слышу доклада!
Какой доклад? Я впервые столкнулся с таким обращением, а поэтому доложил, как в обычной гражданской ситуации, когда обращался к должностным лицам с вопросами, просьбами:
— Моя фамилия Сороко, переведен к вам из Минского следственного изолятора...
Но полковник грубо прервал меня:
— Вы что? Сидите уже не первый месяц и до сих пор не научились докладывать по форме?
— Вы знаете, я пока не отбывал наказания в местах лишения свободы. А в ваших Правилах не написано, как должен арестованный, содержащийся в СИЗО, докладывать начальнику при таких вот вызовах,— пояснил я, поняв, что полковник ждет от меня доклада, как от осужденного, отбывающего наказание. До меня, кажется, дошло, что он длительное время работал в колониях и привык соответственно обращаться с просителями.
— Законы вы хорошо знаете, в этом вас не упрекнешь, а вот почему нарушаете их? — не сбавляя сердитого тона, продолжал полковник.
— Не понял вас. Точнее можно?
— Чего дурака валяете? Чего скандалите? Надоело без дела сидеть, на зону захотелось? Там быстро научат работать и вести себя. Там поймете, по чем фунт лиха...
— Извините, но я действительно не понимаю ваших намеков и угроз. Причем здесь зона и кто дурака-то валяет? — не сдержался я: уж больно груб и невежествен оказался начальник с большими звездочками.
— Демократии захотелось! За границу потянуло? Западной пропагандой от вас попахивает! Ну, ничего, разберемся,— продолжал тот, входя в привычное для него русло.
Не ожидая услышать из уст этого высокопоставленного чиновника абсурдных заявлений, я молчал, собираясь с мыслями.
— Знаю: вы о себе много мните. На спецзону поедете отбывать наказание. Вы выше этих смертных? А знаете, что и там существуют тюремные законы, зэковские традиции, мужеложство развито, как и в других колониях? Чего молчите? — лицо полковника еще больше побагровело, горящие злобой глаза свинцово застыли на мне.
— А чего там говорить? Все ясно: я шпион и враг советской власти,— не найдя ничего более умного, ответил я.
— Чего, чего? — переспросил удивленно полковник.— Вы думаете, что говорите? У вас же высшее образование, как никак работали прокурором.
— Что слышу, то и говорю. Я продукт западной пропаганды, саботажник. На спецзоне мне будет очень плохо, там развито мужеложство. Правильно я вас понял? — задал вопрос я, отлично сознавая, что этим могу только навредить себе.
Но полковник растерялся. Он не ожидал такой реакции и не сразу понял, что выбрал не того субъекта для своего «умного» разговора.
— Чего вы хотите? — наконец перешел он на официальный деловой тон.
— Одного: чтобы мне создали относительно нормальные условия содержания, как этого требуют соответствующие нормативные документы.
По выражению лица полковника я понял, что его раздражает арестованный, который не только разбирается в законах, но еще и настырный, упорный. Однако он не хотел уступать:
— Никаких инструкций, чтобы содержать вас отдельно, у нас нет. А потому, с кем хотим, с тем и содержим.
— Хорошо. Тогда почему вы меня содержите с несовершеннолетними, а не с особо опасными рецидивистами? — задал я провокационный вопрос, зная, что по закону лица, привлекаемые впервые, должны содержаться только с такими же. Категорически запрещается содержать впервые арестованных с ранее судимыми.
— В целях вашей же безопасности.
— Тогда в целях моей безопасности прошу и содержать в нормальных условиях, поселить меня с такими же, как я.
— А где мы их возьмем? Бывшие прокуроры к нам редко попадают.
— Если у вас среди арестованных нет прокуроров, то есть судьи, работники внутренних войск и должностные лица — люди с нормальной психикой.
— Вам создали самые лучшие условия: посадили к несовершеннолетним, которых вы заодно должны и воспитывать. Это не только ваш гражданский долг, но и долг взрослого человека вообще.
— Мой долг сейчас — доказать, что я не виновен, ибо меня обвинили в том, чего я не делал. А вот воспитывать арестованных — это долг работающих здесь и получающих немалую зарплату. Кстати, ваше штатное расписание предусматривает ряд таких должностей. Воспитатели, замполиты, уполномоченные, контролеры и т. д. И если контролер, воспитатель перед этими преступниками на цыпочках ходит, по головам их гладит, потакает им во всем, то такие, как я, погоды здесь не сделают. Вы просто издеваетесь, посадив меня в одну камеру с психически неполноценным подростком,— взволнованно говорил я.
— Да, вам палец в рот не клади, руку откусите,— оценил мои рассуждения полковник.— Все-то вы знаете. Все требуете каких-то особых привилегий для себя. Как будто мы — всемогущие боги и придумали для вас тюрьму и условия содержания. Мы всего лишь — исполнители. Над нами, как и всюду, есть начальство, инструкции. Их мы и исполняем. Подумаем, что делать с вами дальше.
— А душа-то у вас есть? Ведь надо хоть немного понимать сидящих здесь. Даже если допустить, что все они преступники. Но все ли они одинаково опасны для общества, все ли они садисты, звери? Все ли одинаково деградировали, испорчены и представляют собой отработанный материал общества? Неужели не ясно вам, умудренному жизненным опытом, убеленному сединой мужчине, что многие здесь — случайные люди, с нормальным интеллектом. Почему же таких надо обязательно сажать вместе с больными, извращенными и окончательно испорченными личностями? Почему нельзя арестованных дифференцировать, учитывая возраст, образовательный уровень, состав преступления и многое другое, и тем самым создавать людям, именно людям, нормальные условия содержания под стражей? У вас же получается все наоборот: закоренелые преступники живут и процветают. Зэки занимаются поборами, грабежами, разбоями, мужеложством, избивают и унижают случайно попавших сюда слабых, спокойных. Жестокость, наглость здесь — критерий благополучия. И администрация делает вид, что ничего этого у вас нет, что здесь тишь и благодать. На бумаге оно так, а на самом деле — дышащий вулкан, который в любую минуту может преподнести массу сюрпризов с множеством жертв...— Я разошелся так, что на время забыл о своем теперешнем положении, а полковник, видимо, поняв мое состояние, решил дать мне выговориться. Но наконец в нем возобладали чувства хозяина положения, и он решительно и равнодушно подвел итог:
— Ваше время прошло, ваша звезда погасла. Не забывайте об этом: вы арестованный. Не думаю, что следственная группа прокуратуры СССР, даже если вас привлекли к уголовной ответственности невиновного, в чем я глубоко сомневаюсь, признает свою ошибку и не надавит на суд, если тот попытается освободить вас из-под стражи. Не думаю. А вот вам посоветую: впредь всегда думайте, что и с кем говорите. Не напрашивайтесь на неприятности. Из этой камеры мы вас переведем. Куда — пока не знаю,— сказал он на прощание.
— Я вас прошу: только в камеру с нормальными людьми, чтобы я мог спокойно ждать суда. А то 9 месяцев заточения в темных стенах, при круглосуточном электрическом свете, без нормальной пищи и без воздуха крепко подпортили мне нервы и здоровье,— попросил я.
— Посмотрим,— коротко бросил полковник и, не попрощавшись, вышел из кабинета, оставив меня наедине с майором, который все это время молча стоял сзади, не проронив ни слова, ни звука.
— Вот видите. Это заместитель начальника. Он решает. А я что, я человек маленький: мне прикажут, я переведу. О вас я ему только хорошее говорил,— торопливо лепетал он.
ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ
Вот и опять та же камера, те же лица. Но не прошло и часа, как дежурный по коридору приказал мне собираться с вещами. «Куда же теперь? К кому меня подселят? Когда же все это кончится?» — суматошно метались в голове безответные вопросы.
Видимо, в отместку за упрямство и за попытку «качать права», меня сунули в 208-ю камеру — самую зловонную в Рижском централе.
В нос ударил резкий запах табака, настолько крепкий, что перебивал все другие запахи. При слабом электрическом освещении, в клубах табачного дыма я разглядел сидящих за столом четырех мужчин, которые стучали костяшками домино. Быстро окончив партию, которой они, казалось, были полностью поглощены, все уставились на меня. Я поздоровался, спросил, куда можно положить постель. Один из них (худой, ниже среднего роста, очень бледный) подошел и, осмотрев меня с ног до головы оценивающим взглядом, протянул руку:
— Меня зовут Юрис, фамилия Томсон. Сразу видно, что будешь из интеллигентных людей. Одет фартово. Штроксовый костюм, солидный вид. Давненько я не разговаривал с людьми из вашего света. А постель клади на вторую шконку,— указал он тонкой рукой.
Я обратил внимание, что эта камера по размеру была такой же, как и та, откуда я только что с трудом вырвался. Но в прежней три двухъярусные койки располагались у стен буквой «П«, здесь же у боковых стен находились две трехъярусные койки, возвышаясь до самого потолка. В камеру вообще не проникал дневной свет из-за закрытого сплошным железным листом окна, в котором на большом расстоянии друг от друга было просверлено несколько отверстий диаметром с мизинец. Доступ к железному листу перекрывала наглухо вмурованная в стену решетка из толстых стальных прутьев. И решетка, и лист, закрывавший окно, были насквозь проржавевшие, с прутьев нитями свисала черная паутина. Закопченный потолок свидетельствовал о том, что здесь курят часто и помногу. Местами на нем выступали пятна сырости. Особенно отчетливо эти пятна проступали по углам потолка. Стены, когда-то окрашенные темно-голубой краской, обшарпаны, исписаны и изрисованы. Цементный пол черен от грязи. Раковину загаженного унитаза прикрывала темная древесно-стружечная крышка. Рядом находился маленький умывальник. К унитазу и умывальнику по грязной сырой стене спускались ржавые трубы, с которых беспрерывно капала на пол вода. На противоположной стене, в углу, была вмонтирована небольшая деревянная вешалка. От нее до самых кроватей тянулась по стене самодельная трехсекционная полка, прикрепленная на уровне головы взрослого человека. Между койками был втиснут стол, который можно было обойти с трудом и только боком.
Судя по повадкам представившегося мне тощего Томсона, мужчины лет 35, он здесь был за старшего. Я отметил, что у него и у двух других, сидящих за столом, были очень бледные, изнуренные лица. Это признаки либо болезни, либо долгих мучительных переживаний. А может, на цвет лица влиял спертый, влажный воздух и длительное употребление табака.
Лицо еще одного сидящего за столом, напротив, выделялось свежестью, туго натянутая крепкая кожа, лоснилась. По его внешнему виду не трудно было догадаться, что он только еще недавно дышал не затхлым воздухом камеры, а ядреным воздухом свободной жизни.
Меня зовут Валерием! — после недолгого перерыва, вызванного заброской постели на второй ярус койки, представился я. По очереди пожал каждому руку. Тройка невнятно пробурчала свои имена, я их не расслышал, но переспрашивать не стал.
О, смотрите: кусок сала есть, масло! Вот здорово! А то мы сидим тут голодные, как волки,— громко объявил Томсон, сглатывая слюну и жадно рассматривая лежащие на развернутой постели продукты.— У нас здесь коммуна. Живем одной семьей. Все общее. Вступаешь в колхоз? — вопросительно посмотрел он на меня.
А куда он денется. Что он, один будет жрать, а мы смотреть станем? — за меня ответил мужчина с квадратным полным лицом.
Дайнис, не лезь. Без тебя разберемся,— остановил его Томсон.— Как ты решил?
Решать здесь нечего. Мы связаны несчастьем и должны помогать друг другу. Вместе легче горе переносить, чем одному.
— Правильно глаголешь. Я сразу определил в тебе умного, толкового мужика,— панибратски похлопывая меня по плечу, заключил Томсон.
— Располагайся! Вон вешалка. А вы, братва, убирайте кости со стола, умнем по бутерброду. Жрать хочется — жуть! Какое счастье, что хоть у тебя кусок сала нашелся. Сейчас мы его хавать будем. Давай, быстрей шевелись, Райнис, уснул, что ли?
— Щас.— Из-за стола поднялся высокий худощавый парень. Скуластое, прыщавое лицо, тонкие губы и большой нос с горбинкой явно не украшали его. Но яркие голубые глаза и густые соломенного цвета вьющиеся волосы делали его лицо привлекательным. Пластмассовой пластинкой, заточенной с одной стороны, он быстро нарезал хлеб. А Томсон стал тонкими дольками резать сало, затем положил их на куски хлеба. Когда все было готово, блондин налил каждому в кружку воды из-под крана. Не дожидаясь особого приглашения, все принялись жадно жевать и глотать бутерброды, запивая водой. Это было впечатляющее зрелище: все настолько были голодны, что с едой было мгновенно покончено, а Райнис сгреб со стола себе в ладонь крошки хлеба и высыпал их в широко раскрытый рот; остальные старательно облизывали сальные пальцы.
Закончив трапезу, трое мужчин закурили, четвертый встал из-за стола и подошел к унитазу. Отправив свои надобности, он стал размеренно ходить по ограниченному пространству камеры. На вид ему было чуть больше тридцати. Очень маленького роста. О таких обычно говорят: «метр двадцать на коньках и в шляпе». Но телосложения он был плотного: массивные руки, широкие плечи и толстая короткая шея. Красивое смуглое лицо, смоляные, коротко остриженные волосы и черные выразительные глаза.
— Я сразу не расслышал, как тебя зовут?
— Кирилл.
— А фамилия? Имя-то русское.
— Сабитов — тоже русская, и сам я москаль по национальности.
— Ия русский, из Москвы,— в который уж раз соврал я.— А где ты жил?
— Здесь же, в Риге, недалеко от тюрьмы, а сейчас живу недалеко от дома,— с усмешкой произнес он.
— А родители твои тоже здесь?
— Нет, они живут в Алунсенском районе. Слыхал о таком?
— Название знаю из газеты «Советская Латвия». Но вы, наверное, не местные. Откуда приехали?
— Из-под Смоленска. Давно это было. Я родился уже здесь, в Латвии.
— Латышский хорошо знаешь?
— А как же, в совершенстве, как родной.
— А кем работал?
— Шофером. В начале, где-то с полгода, на милицейской машине. Дурак был: в ментовку после армии подался, а потом понял, что к чему. Деньгу там не зашибешь. Подался на промтоварную базу. Дали мне «ГАЗ-53» с будкой. Здесь я был сыт и пьян. Кому мебель, кому холодильник, телевизор и прочее. Капуста рекой текла. Особенно, когда случались дальние рейсы. Там одно прихватишь, там другое — около ста «левака» выходило. Нужды не знал.
— А семья есть?
— А как же: дочь, жена. Тут у меня есть фотография. Покажу потом,— с каким-то теплым чувством тихо сказал Сабитов. Я решил: очевидно, жена — красавица, раз сразу предлагает посмотреть.
— А жена где работает?
—- Швеей, в ателье. Как находишь мои брюки? Ничего сидят?
— Да!
— Это ее работа. Мастерица на все руки. Молодец она у меня, чистюля: дома усе ухожено, прибрано...— стал он расхваливать жену.
«Не зря так заливается, здесь что-то кроется»,— подозрительно подумал я и постарался продолжить разговор:
— Давно сидишь?
— Десять дней уже. Дело закрыли. Я сам виноват. Может, и не арестовали бы, да я не явился на вызов по повестке. А меня и под замок...— Договорить ему не дали, позвали играть в покер.
Я не играл и забрался на второй ярус, поправил постель, решив отдохнуть, собраться с мыслями.
«Вот я и на новом месте. Сожители пока, вроде, ничего относятся. Или это пока у меня есть сало? Посмотрим, что дальше будет... Здесь нетрудно задохнуться непривычному человеку. Камера не проветривается, вентиляции никакой. Что те маленькие дырочки в жести? На пять лбов в такой тесноте — жуть! Надо постараться убедить мужиков, чтобы поменьше дымили: себя травят и других. Мало им сырости, плесени в камере, так еще чаду поддают. Солнце сюда, конечно, не заглядывает никогда. Трудно будет узнать: день или ночь за окном, не говоря уже о погоде. Хотя при дожде влажность, сырость в камере увеличится. Что за тюрьма проклятая: людей хуже зверей содержат. Только бы дождаться суда, только бы перенести все это, чтобы не сойти с ума. И чего судья тянет, не назначает дня слушания дела? Заканчивается август, а еще и обвинительного нет. Сколько еще ждать? Как там дома? Жива ли мать? Как жена, дочь без меня маются?..» Незаметно, под гомон сокамерников, а, может, под воздействием одурманивающего табачного дыма, уснул тревожным сном.
Вскоре мне стало ясно, что эта камера была худшей из всех, в которых я побывал до этого. На каждого из пятерых арестантов приходилось менее одного кубического метра ее объема. На третьем ярусе койки взрослому человеку можно было сидеть только согнув голову. Воздух камеры был пропитан табачным дымом, резким запахом потных тел, человеческих испражнений, разных нечистот. В непроветриваемом помещении запахи многослойно накладывались один на другой, дым раздражал глаза, дыхательные пути. Стены камеры сотрясал и закладывал уши беспрестанный гул вентилятора, очищавшего воздух кухни, расположенной вблизи корпуса. Если ветер дул в окно, то с улицы в камеру он приносил удушливый запах пищевых отходов и мусора из мусоросборников, расположенных опять же под нашим окном. Меня, некурящего, особенно угнетала табачная дымовая завеса, постоянно висевшая в камере. Такой «богатый» букет запахов и зловония вызывал общее физическое недомогание, головные боли, расстройство желудка.
Но надо было терпеть и, считая минуты, часы, дни, ждать и ждать. На следующий день утром Томсон поинтересовался у меня:
— Слушай, это не ты дал разгон полковнику Рейн- хольду?
— А откуда тебе это известно?
— Я был вчера у оперработника. Залетает туда полковник, красный, потный, разъяренный и кричит: «Он нас всех под монастырь подведет. Надо его как-то успокоить. Куда бы засунуть, чтобы молчал?» Фамилию не называл, на меня косился. Стали они вместе (еще майор краснощекий был там) гадать: куда бы посадить скандалиста, чтобы не мог писать. Вот и определили — сюда. Здесь они всех недовольных собирают. Я ведь сижу уже год и тоже пишу во все инстанции: надоел всем.
— А за что ты сидишь?
— Э, брат, у меня целый букет. Уже вторая ходка. Первый раз я сидел ни за что. Оклеветала меня одна проститутка, будто я у нее сорок рублей спер. Ходил я к ней, подгуливал тайком от жены. Она забеременела и поставила условие: разводись с женой. Я, конечно, в отказ. Стал уговаривать ее мирно разойтись. Но бабы — народ мстительный. Она на меня заявление в ментовку. Дело завели. Прикрыли бы: мать моя ученая знаменитость, весь Союз знал. Но, как назло, залетел я еще и на спекуляции. Тогда собрали все в кучу и три года всучили. Писал я, писал — сняли два года и освободили. Но я с этим был не согласен и продолжал писать во все инстанции: в Верховный суд СССР, Президиум, в ЦК КПСС, в международные организации, в газеты «Известия», «Литературку» — трудно сказать, куда только не отправлял жалобы. Ну, и дописался, что снова посадили.
— И сколько отмерили в другой раз?
— Семь лет! Ни за что,— весь напрягся Томсон.— Послушай, парень ты грамотный: может, что подскажешь? Значит, откинулся я, а моя жена без меня подгуливать начала. Узнал — развелся. Молодой, погулять охота. А женщин хватает, сам знаешь. Одна, вторая, третья. И пошло, поехало. Пьяные гулянки, кореша... Однажды познакомился я с кадрой, ей только 16 исполнилось. Говорю ей: «Возьми подружку, погуляем». Та согласилась. Встретились, пошли к другу в гараж. Выпили малость, посидели, покурили, побазарили. Добавили еще. Пора ближе к телу. Я говорю своей: «Пойдем в лесок, прогуляемся. А подруга пусть здесь побудет». Согласилась. Пошли. Ну, в лесу она сама мне и дала. А потом, как вернулись в гараж, стала кричать, что я ее изнасиловал. Ревет, на себе одежду рвет. Прибежали посторонние. Меня арестовали и Верховный суд семь лет отмерил. Зэк я — мне веры нет. Уже три отсидел. Там у меня еще по одному делу гражданский иск появился, так перевели сюда в тюрьму, второй год здесь и сижу. Куда только не писал... Все улики, отвечают, против меня. Осталось четыре года. Но якобы амнистия наполовину снимет, значит, два. Недавно ко мне приезжал корреспондент из «Литературки». Не пустили. Худющий, говорят, откормим — тогда встретишься. В больничку должны недели на две положить, там поправлюсь. А пока мест нет.— Сбивчиво и нервно рассказывал он. Во время разговора несколько раз потирал себе грудь в области сердца, морщился. Выглядел он сильно утомленным, издерганным. Наглядный пример тому, как тюрьма высасывает у человека здоровье. В первые дни я очень сочувствовал ему.
Но чем дальше, тем больше убеждался я в противоречивости его суждений и характера. В целом Юрис производил впечатление спокойного человека. Но в нем раздражало то, что он постоянно подчеркивал свое превосходство над другими сокамерниками, кичился своей грамотностью, начитанностью, эрудицией. Был очень самолюбив и легкому язвим. Читал он много, но у него постоянно прогрессировала близорукость. По его словам, за год он посадил зрение и теперь читал, держа книгу так близко к лицу, что почти дотрагивался до страниц носом. Неприятно поражала его какая-то болезненная прожорливость. Он так жадно глотал любую пищу, что можно было подумать, будто он не ел несколько дней.
Юрис охотно помогал сокамерникам составлять заявления, жалобы. Можно сказать, что он питал к этим бумагам неравнодушие и даже страсть. Пожалуй, это было его настоящим увлечением, даже хобби. На всякий случай у него были разные сорта бумаги, несколько дорогих ручек с разноцветной пастой. В жалобах наиболее важные места он подчеркивал пастой разного цвета, выделяя их.
Он знал всех работников учреждения, каждому из них мог дать исчерпывающую характеристику. Имел даже информацию (а может, и сочинял ее сам) о их темных делах и сторонах жизни. Частр записывался на приемы к начальству и, что удивительно, его постоянно вызывали на эти приемы, и там он задерживался подолгу. От него я узнал о беспорядках и беззаконии, творимых ответственными должностными лицами, многое другое.
Он был единственным в камере обладателем маленького зеркальца и безопасной бритвы, которой брились все сокамерники. Надо отметить, что когда я был в камере с несовершеннолетними, там инструкторам, по их просьбе, выдавали бритвенный станок и лезвие раз-два в неделю всего только на час. И проблем с бритьем не возникало. На «взросляке» процедура эта оказалась проблемой. Ни бритвенных приборов, ни лезвий здесь в камеры не выдавали. Только в бане, куда водят раз в 10 дней, по большой просьбе можно получить станок с ржавым тупым лезвием и без зеркала. Пока этим «орудием», корчась от боли, будешь сдирать с лица щетину, помыться не успеешь. Работник СИЗО быстро выгонит из душа, так как наступит время мыться следующей камере. Томсон, правда, не имел нормального бритвенного станка: сохранилась лишь его верхняя зажимная часть, без ручки. Но и это в тюремных условиях считалось сверхъестественной роскошью, потому что в других камерах арестованные делали самодельные станки либо из двух щепок, связанных между собой нитками, между которыми вставлялось лезвие, либо из пластмассовых пластин.
Наличие этих атрибутов благополучия, хорошее знание всех ходов и выходов, умение писать жалобы и заявления, вхожесть к администрации заслуженно делали его старшим в камере. Его слушались, зная, что если поссориться с Томсоном, то он пойдет к оперработнику, и непослушного тотчас переведут в другую камеру, а там будет гораздо хуже и беспокойнее. Здесь же все только ели, спали, болтали, играли в домино и шахматы. Никто друг над другом не издевался, не заставлял несколько раз в день мыть пол, посуду, белье и так далее. Это всех устраивало.
Правда, Томсон был неравнодушен еще и к одежде, а к красивой — особенно. Он, не стесняясь, занимался поборами. У новичков сшибал носки, тенниски, трусы, разные предметы туалета. Когда я поселился в камере, у него уже целый рюкзак был набит «трофейной» одеждой. Но особую, болезненную страсть он питал к туалетному мылу. Он добывал его у всех, у кого только мог, не брезгуя лестью, обманом, угрозами. Часто он вынимал большой чулок, набитый разными по форме, окраске и запаху кусками мыла, любовно перекладывал их, подносил поочередно к носу, с наслаждением, щурясь, как кот, вдыхал их аромат, рассматривал на свет...
У меня с Томсоном сразу установились неплохие отношения. По-моему, этому способствовало и то, что я был старше всех по возрасту, крепкого телосложения, к тому же легко ориентировался во многих важных вопросах. Томсон, кажется, тоже испытывал ко мне доверие и уважение. Не исключено, что не последнюю роль
сыграла и «беседа» с полковником, о котором случайно узнал Томсон.
— Скажи, Юрис, почему в изоляторе такой бардак?
— Так это на руку администрации, вот она и поощряет его.
—- Не понял. По-моему, как раз наоборот: администрация должна быть заинтересована в дисциплине, чистоте, нормальных взаимоотношениях между арестованными.
— Здесь своя, тонкая, философия. В камерах есть столы. Первостольники держат всех в ежовых рукавицах. Они забирают с помощью вторых и третьих столов у остальных вещи, продукты. А камеру там моют петухи и парашники по нескольку раз в день: ни пылинки, ни соринки не найдешь, все вычищено и блестит. Окурок первостольник бросит на пол, парашник тут же на четвереньках его подберет. Это не то, что у нас. Выгодно это дежурному по корпусу и начальнику? Выгодно, зайдешь — порядок в камере. Жалоб тоже никто не пишет, потому что первостольник не позволит: все должно через его руки пройти. Опять же это выгодно администрации. Кто что натворил, тут же тайно сообщат оперу. Снова польза.
— А какая польза от того, что друг друга бьют, унижают, оскорбляют?
— Не всех же петухами и парашниками делают. Только тех, кто слаб, не может постоять за себя. А издержки в любом обществе есть.
— Я слышал, что всем новичкам здесь такие приемки делают, что никто их не может выдержать и становится парашником либо петухом.
— Это так. Но кому за сорок, тому приемку не делают. И если парень, скажем, косая сажень в плечах, ростом под потолок, то такого согнуть не так-то просто. А есть смелые, отчаянные и среди молодых; те защищаются до последнего дыхания. Помнут ему бока толпой, а на парашу не отпустят, боятся, да и не согнешь такого.
— И все-таки бардак: приходишь, а тебя догола раздевают, все отнимают, дают взамен старье, с чужого тела. Здесь и болезни и паразиты. Дачку первую получаешь отнимают. Отоварку тоже забирают. Правильно мне рассказывали?
— Правду тебе говорили. Вот он,— Юрис указал на парня с квадратным лицом,— и я эту школу прошли. Расскажу как-нибудь во всех подробностях. Не такое еще
услышишь. Жуть! Эта камера раем нам кажется по сравнению с теми, где мы были. Правда, те просторнее, воздуха много. Так лучше я здесь задыхаться буду, потом обливаться, чем на карачках ползать, не смея выше стола подняться,— сказал он, страдальчески улыбаясь. По всему было видно, что пережитое оставило неприятный осадок в его душе...
Что сейчас? Сейчас — по-божески! — продолжал в задумчивости Томсон.— Вот раньше здесь настоящий ад был. Когда я, два года назад, сюда попал — ужас, что творилось! Тараканы, клопы, вши стаями ползали. Зэки друг друга насиловали, били, издевались, кто как умел. А администрация? Начинаю вспоминать — мурашки по коже ползут. Пушкари пьяные ходили, пушкарши занимались развратом. Все с дубинками. Зэков дубасили напропалую. Помню: сидим мы, в покер режемся. Открывается дверь, в камеру заползает толстая, здоровенная пушкарша — цыганка, черная, а лицо серое, испитое. Сама под этим делом... В руках — дубинка. Залезает на стол и кричит: «Козлы, педерасты, что, женского тела вам захотелось?!» Да матом кроет. Задрала юбку кверху: нате, смотрите... А потом давай дубинкой махать направо и налево. Мы — кто под койку, кто куда. Вбежал корпусной, увел ее из камеры. Во как!..
Нет, теперь, конечно, не то, что раньше было. Были времена, а сейчас мгновения. Раньше на бабу тянуло, а сейчас давление,— протяжно пропел мужчина с квадратным лицом.
Не обращая внимания на реплику сокамерника, Томсон продолжал:
Пушкари и пушкарши, корпусники и другая мелкота, если изымали у арестованных что хорошее, себе забирали. Оставалось и высшему начальству. А те тоже не дремали. У какого зэка родители состоятельные, тому свидание, за капусту, естественно, у себя в служебном кабинете устраивали. Сам я имел такое свидание. Оставляли одних, о чем хочешь говори, закручивай свои дела... А сейчас все резко изменилось. Приходят новые кадры. Вон заместитель новенький, майор. Он так зажал сейчас службы, что не пискнуть. Ни одного пьяного не увидишь. Офицеры все по струнке ходят. Дубинок не видно, к зэкам по-человечески обращаться начинают.
А то кроме мата и оскорблений ни одного человеческого слова было не услышать. Бардака, правда, еще хватает, но стало гораздо лучше. Комиссии по жалобам стали приезжать. А то пиши, не пиши — дальше СИЗО твоя жалоба не уходила. Почитают — ив корзину. А сейчас к кажому из спецчасти работник приходит и сообщение под роспись читает: так, мол, и так, жалоба тогда-то отправлена, за таким-то исходящим номером. Перестройка, что ни говори, и нашему брату пользу большую дает. Как там на свободе — будет ли толк, я не знаю. А здесь кое-что чувствуется.
— Кому нужна перестройка? Еще больше беспорядка натворят. Закручивают гайки, закручивают, пока резьбу не сорвут. У нас на автокомбинате тоже зажимать стали: счетчики проверяют, спидометры пломбируют, отмечают время приезда и отъезда. А мы как делали «леваки», так и делаем, только умнее стали. Наперестрои- ли: мясо, колбаса только по кооперативным ценам, кофе не достать, в магазинах продуктов нет,— вмешался в разговор Сабитов.
— Мне плевать на эту перестройку! Я и без нее обойдусь. Пусть только русские уберутся вон из Латвии. Им тут делать нечего. Мы их сюда не звали. Пусть у себя дома перестраиваются. А мы, латыши, сами у себя порядок наведем. Наша земля и мы здесь хозяева, злобно высказался латыш Альфонс.
— Я тоже такого мнения. Пусть коммунисты в России перестраиваются. Голодранцы пузатые сюда прутся; без Латвии им не прожить. Где еще такую халяву найдешь: мяса — вдоволь, молока — вдоволь, земли хватает. Лезут и лезут. Бедному латышу скоро негде будет стать ногой. Куда ни кинь, то в русского, то в хохла, а то и в узкоглазого попадешь. Как мухи на мед, послетались. Житья от них нет,— глухим басом проворчал пока еще безымянный для меня парень.
Я решил не спорить с сокамерниками. Это не подростки, а взрослые мужчины и переубеждать их бесполезно, только обостришь отношения, да себе же нервы попортишь. Но слушать их было неприятно, и я решил перевести разговор на другую тему.
— Юрис, а у тебя мать жива?
— Нет, умерла. Была бы жива, я бы здесь не сидел. У нее тоже были связи, популярность. На машине разбилась. А отчим есть. Да что я ему: не родной. Полковник в отставке. Слышал, якобы, и его арестовали...
— За что же отставника арестовывать, да еще полковника?
— Он воевал в Афганистане и оказался замешанным в какой-то большой спекулятивной сделке. Товары вроде на сторону загоняли. Точно не знаю. В тюрьме всей правды не узнаешь. Говорили оперы мельком, а как на самом деле, понятия не имею.
— А кто еще из родственников?
— Родственников-то хватает и по отцовской, и по материнской линии — двоюродные, троюродные. Да все меня забыли. Ни дачки, ни денег не шлют. Как попался, так сразу отвернулись. Бандит, мол, туда ему и дорога. Когда мать жива была, так все увивались, кланялись: помоги сделать то, помоги это. А как умерла, так все сделали вид, что меня на свете не существует. Во как бывает...
Четвертого сокамерника звали Дайнис Мужниекс. Может, это и был тот самый Мужниекс, о котором говорилось в записке, переброшенной неизвестными во время недавней прогулки, я не знал, да меня это и не интересовало. Мало ли кто и кому не понравится. Пустить слух легко, а насколько он достоверен — знают единицы. Всюду на стенах боксов, камер, прогулочных двориков можно увидеть написанные и нацарапанные разными почерками и шрифтами фамилии заключенных. И к ним, как правило, добавлены приписки-пояснения: «козел», «стукач», «на опера работает», «петух», «парашник», «сдал такого-то» и тому подобное. Чего только не узнаешь из этой «наглядной агитации».
Мужниекс был выше меня и плотнее телосложением. Широкий в кости, с толстыми руками и большими ладонями, он казался сильным парнем. Лицо у него было квадратное, мясистое, с толстым носом и губами. Волосы черные, густые, почти до плеч. Движения его отличались какой-то особой замедленностью, неуклюжестью. Почти все время лежал на койке и либо читал, либо спал. Слезал со второго яруса для того, чтобы только поесть, поиграть в покер, выйти на прогулку, да по естественным надобностям. В его облике и фигуре было что-то медвежье. Говорил в основном на латышском языке, со всеми спорил, уступал только Томсону, поддакивал ему и угодничал.
У меня сразу возникло к нему чувство брезгливости и даже отвращения, вызванное больше всего его привычкой громко испускать газы кишечника. Хотя в этом изощрялись открыто, без стеснения, все, кроме Томсона, что делало воздух камеры нестерпимо зловонным. Это очень злило меня, но я сдерживался и молчал. Решил жить по принципу: в чужой монастырь со своим уставом не лезь.
На следующий день после моего вселения Мужниекс на прогулке рассказал мне о своем несчастье:
— Понимаешь, ни за понюх табака арестовали. Как выжить — ума не приложу. Может, ты что посоветуешь? Скоты кругом! Так меня подставили! И эта, стерва и проститутка, еще пасть разевает. Выйду — придушу, как котенка. Дай только добраться. Это надо же так меня оговорить? Здоровья у меня нет. Живот побаливает, сердце покалывает, постоянная простуда, а здесь сидеть совсем невыносимо. И все из-за этой проклятой шлюхи да кореша. Тоже мне друг: как заловили, сразу стал все на меня валить...— ныл он тихим басом, все время боязливо оглядываясь по сторонам. Как-то странно было слышать из уст такой глыбы стон и хриплый плач.
— Так ты толком расскажи, за что тебя арестовали. А то слов много, а сути я никак не уловлю,— прервал я его излияния.
— А кто ж знает, что ты за птица? Расскажу, а потом сам себе локти кусать буду,— насторожился сокамерник.
— Ну, если не хочешь, так и не рассказывай. Чего ж тогда расплакался и помощи просишь? Сколько сидишь?
— Четвертый месяц. А жуть как надоело. Думал уже покончить с собой. Может и покончу, посмотрю...
— У меня уже девять месяцев, а Юрис — второй год в камере сидит, и то не плачем и не отчаиваемся. Выживать нужно. Во что бы то ни стало — выживать, бороться и не сдаваться. Видишь, как действует Юрис: пишет и пишет. Сам худой, весь насквозь просвечивается, а строчит и строчит. Не сдается.
Услышав свое имя, подошел Томсон.
—- Что это вы обо мне говорите?
— Говорим, что ты настырный, упорный: пишешь и пишешь, не сдаешься.
— Еще бы! Пусть знают, что ни за что не смирюсь. За какую-то блядь сидеть семь лет? Пускай в другом месте дураков поищут. А какие я коники на зоне выкидывал! Как «косил», как администрацию разыгрывал! Не знали, куда деться от меня, как избавиться.
— Так вот почему ты здесь! Заперли в тюрьму, мол, тут ты тише будешь.
— Нет, тут другие причины,— начал он, но внезапно замолчал, задумался.
У меня мелькнуло подозрение: видимо, многим заключенным он крепко поднасолил и иного выхода, как здесь спрятаться, у него не было. Но истинные причины только ему ведомы.
— Что это у тебя обе руки искромсаны шрамами? — перевел я разговор, заметив на кистях рук грубые рубцы.
— На зоне лезвием вены вскрывал. Если бы не обнаружили вовремя, давно бы уже сгнил.
— А стоило жизнью бросаться? — пристал я.
Томсон задумался. Видимо, решал: говорить или нет.
Наконец, пристально посмотрев на меня, заговорил:
— Не сжился там с зэками. Начали они меня преследовать. Жизни не было, не знал, куда деваться. Обращался к администрации, жаловался, письма писал, но никого не тронули мои трудности. Тогда я, в знак протеста и того, что незаконно сижу, вскрыл себе вены. Но спасли. Потом бунтовать начал, 40 дней в карцере продержали. Вывели оттуда под руки, сам ходить не мог... Еще голодовку объявлял: 8 дней ничего не ел, потом тоже долго на уколах держали, восстанавливали организм. Навоевался, намучился я на зоне — вспоминать не хочется. Перевели из одной зоны в другую. Там легче стало. А шрамы — напоминание о тяжких днях моей молодости,— упавшим голосом со вздохом закончил он. Лицо его вдруг стало смертельно бледным, рот скривился; Томсон пошатнулся.
— Что с тобой, Юрис?
— Не обращай внимания. Это от усталости уже водить начинает. Что ты хочешь? Год просидеть в камере! Сам удивляюсь, что еще на ногах стою. Но вот пробил больничку. Кормят там лучше, чем здесь, да и нет такой вонищи. Приду оттуда, харя будет во,— развел руками сокамерник,— не узнаешь. Я быстро вес набираю. Этой зимой уже был на лечении. За две недели прибавил десять килограммов.
— Туда, насколько я знаю, очень сложно попасть: блат надо иметь. Как ты умудрился?
— Как? Ты посмотри на меня: кожа да кости. А мне скоро в суд ехать, с корреспондентом встречаться. Вот и хочет администрация немного подкормить, чтобы человеческий облик принял.
— А ты под стражей сколько сидишь? — вдруг обратился он ко мне.
— Девять месяцев уже!
— Неужели? А сохранился, дай Боже. Мне бы так. Как это ты умудрился?
— Рецепт здесь особый, «секретный»: занимаюсь ежедневно на прогулке физзарядкой. Передачки получаю, сплю много,— стал сочинять я, не желая рассказывать, что сидел вместе с несовершеннолетними, где работают и получают дополнительный паек.— Когда последнюю передачу получали в камере?
— Сейчас вспомню. Эй, Дайнис. Ты, кажется, последним дачку получал?
— Я. А что?
— Когда это было?
— Завтра будет месяц.
— Вот тогда мы последний раз и попировали.
— И за сколько дней вы ее умололи?
— Дня за три, наверное...
— Вот здесь весь корень зла: я же привык растягивать надолго. Каждый день — понемножку. А там кому-нибудь еще прибудет. Этим и держусь. На баланде, сам знаешь, скоро ноги протянешь. Вон ты какой худой, да и Райнис тоже солнцем просвечивается. Дайнису беспробудный сон не дает худеть, а Кирилл только что со свободы, еще домашними пирожками пахнет.
— О, ты не видел, каким толстяком пришел в тюрьму Дайнис! Он тоже похудел. Так или нет? — обратился к нему Юрис.
— Так! Похудел килограммов на десять. Сейчас, может, где-то под восемьдесят буду, а может и того меньше. Проклятая тюрьма: все здоровье отняла,— опять заскулил Мужниекс.
— Выдержишь, куда денешься. Я уже три года по зонам да по тюрьмам шляюсь и живой. А тебя еще обухом не убьешь. Вон здоровяк какой: полный, жирный,— прервал его стоны Томсон.— Кому жаловаться на судьбу, так это — мне. Столько промучился, а сколько еще терпеть надо? — Постепенно он приобрел свой обычный вид, быстрыми шагами засеменил по дворику, глубоко и жадно вдыхая свежий воздух.
Сабитов и Альфонс стояли в стороне, о чем-то громко и оживленно беседуя по-латышски. Я снова оказался наедине с Мужниексом. Настороженно озирнувшись, он заговорил:
— Видишь, здесь бугор на голове? Это после травмы. На машине, с полгода до посадки, ехал. А мне впереди «Жигуль» путь подрезал. Выбора не было: либо — в него, а потом за наезд плати, либо — в столб бетонный. Я крутанул руль в сторону — сотрясение мозга заработал. Сейчас часто побаливает,— он сделал несколько вращательных движений тяжелой крупной головой.— Когда арестовали, говорил следователю, что болен, мол, с головой не все в порядке. «Косить» решил. А он: «Шоферил, не жаловался, а теперь вздумал жаловаться? Экспертизу назначим». И что ты думаешь? Послал на судебно-психиатрическую экспертизу. Врачи посмотрели, покрутили, карточки из поликлиники и больницы запросили, историю болезни изучили и сделали заключение, что здоров. А какой я здоровый, когда шумы в голове?
— Что это он тебе рассусоливает? — пренебрежительно спросил подошедший Томсон.— Все, небось, на здоровье жалуется да совета просит? Нытик...
— А тебе-то что? Не с тобой разговариваю.
— Да надоел ты всем своими жалобами: голова расколота, болит, ни за что посадили. Все плачешь и плачешь. А лет 6—8 получишь. Как пить дать. Поверь моему слову.
— Сплюнь три раза! Что ты! За что? За проститутку? — И, как бы рассуждая про себя, тихо буркнул: — «Косить» надо. Слышь, подскажи, как под дурака сыграть? Мужик ты грамотный. Должен знать, как лучше, а?
— Сколько тебе лет?
— Возраст Иисуса Христа. Тридцать три недавно исполнилось. А что?
— Да, так. Спрашиваешь, как лучше дураком прикинуться? Рассказывали мне один случай. Солдат не хотел служить. Он каждое утро в 5 часов, за час до подъема, кукарекал: «Ку-ка-ре-ку!» С месяц так, упорно, изо дня в день. Надоело это всем. Солдаты, уставшие за день, спят, а под утро сон самый сладкий. А тут на всю казарму кукареканье. Жалобы пошли, просьбы: уберите его. Что делать старшине? Стал он начальство просить, чтоб этого солдата в госпиталь определили да на психиатрической комиссии проверили: нормальный он или нет. Уговорил командование. Положили солдата на стационарное обследование. А он и там в палате каждое утро ровно в пять свое поет: «Ку-ка-ре-ку!» И там жалобы от больных пошли: не дает спокойно болеть, уберите от нас. Думали, думали врачи и решили комиссовать его по этой части, по состоянию здоровья. А психически неполноценного человека из армии домой должен в обязательном порядке сопровождать в пути кто-либо из начальствующего состава и вручить его под расписку родным. Послали старшину сопровождать этого певуна. Ехать надо было из Сибири на Украину. Дорога долгая, несколько суток поездом. Взяли проездные документы и поехали. Старшина под утро не спит, тревожно смотрит на часы, чтоб вовремя заткнуть подушкой солдату рот, когда закукарекает — пассажиров в вагоне может перепугать. Голос-то у вояки был что надо: громовой, не зря до этого сдвига запевалой в роте был. Смотрит старшина: стрелки часов ровно пять утра показывают, а солдат спит себе, как ни в чем не бывало. Удивился старшина, перекрестился даже. Ждет, вот-вот закричит. Проходит десять минут, полчаса, час, а солдат спит ровным, спокойным сном. Пассажиры уже стали подниматься. Не выдержал старшина, давай будить подчиненного: «Вставай, семь часов уже, умываться надо, чай пить будем». А тот спросонья отвечает: «Рано будишь, спать охота...» «Как же так,— возмущенно удивился старшина,— раньше вставал в пять часов и на всю казарму кукарекал, за будильник слыл. А теперь уже семь, и т.м не кукарекаешь?!» А тот спокойно в ответ: «Э, начальник, я свое откукарекал. Теперь твоя очередь»,— повернулся на другой бок и снова уснул. Так вот и ты попробуй, может сработает,— посоветовал я сокамернику.
— А ну, тебя! Нашел время шутить. Что я тебе, пе тух какой?
Тут я вдруг вспомнил про записку, найденную несо вершеннолетними во время прогулки, и спросил:
— Ты сразу в эту хату попал или еще где был?
— С этапа меня определили в первый корпус, в многоместную камеру. Там человек сорок было. Как только я вошел, на меня налетели со всех сторон, раздели догола, все сняли и забрали. Одежда была у меня ничего. А взамен видишь какую сунули? — Мужниекс несколько раз повернулся передо мной, демонстрируя старые брюки, лоснящиеся от мазута, с заплатами, рваные и стоптанные туфли, видавший виды порванный пиджак, из-под которого виднелась рубашка в заплатах.
— Да, явно не по размеру и не по фасону тебя приодели,— согласился я и добавил: — И даже не по сезону: кепки не хватает, «коры» зимние надо бы. Перепутали, что ли?
— Шутник ты, как я погляжу! Попал бы ты туда, посмотрел бы я, что осталось бы от твоего шикарного костюма.
— Ну, костюм, я думаю, никто не порвал бы. Сам говоришь, что хороший. Неплохо сидит, да? Спецзаказ. В ателье шил, по индивидуальной мерке. Не то, что у тебя: пифагоровы штаны во все стороны равны,— продолжал я шутить.
— Ничего, будет еще у тебя время наплакаться. Может, тоже в те хаты попадешь. Посмотрим, какие тебе тогда штаны достанутся. А главное, как приемку осилишь. У меня после нее две недели шея и живот болели. Стонал, как резаный. Так пекло, так пекло. Бьют, гады, не жалеючи, со всего размаха.
— А чего ты стоял да бока подставлял, сдачи не мог дать, что ли? Такой здоровый бугай, а труслив, как заяц. Защищаться надо, а не ныть. Одному хорошенько двинул бы, другие призадумались бы.
— Да я один на один любого уложу. Каратэ знаю, боксом увлекался. Да я... Но они толпой налетают и бьют. Бесполезно сопротивляться. Я им еще припомню...
— Так, значит, ты сам подарил им свою фартовую одежду, а теперь жалеешь. Э, брат, после драки кулаками не машут. Надо было тогда думать.
— Язычок у тебя хорошо мелет. Смелый ты болтать, а вот посмотрим, какой ты на самом деле. Долго еще сидеть нам вместе. Будешь подкалывать, получишь...— зло предупредил он.
— Поживем — увидим! Знаешь пословицу: цыплят по осени считают. Скажи лучше, где ты так хорошо научился по-русски говорить, почти без акцента. Ты же латыш?
— Конечно, латыш. И этим горжусь. Всю жизнь буду говорить, что русским у нас делать нечего, пусть убираются к себе домой. А научился я в Сибири. Четыре года там шоферил, на заработки ездил капусту зашибать.
— Вот видишь, кричишь: русские надоели. А сам в Россию ездил, жил там и работал. Так почему тебе можно к ним ездить, а им к тебе нельзя? Кто ты здесь — удельный князь, а Латвия — твоя вотчина?
— Ничего они здесь не потеряли. Пусть подобру- поздорову убираются, а не то ноги переломаем,— по- прежнему злобно заявил Мужниекс.
— Ну, ну, вояка! — спокойно отреагировал я.— Поосторожней на поворотах: Россия большая и не тебе с ней тягаться. Сидеть не хочешь, так думай, что мелешь.
— А что? Здесь никого же нет,— озирнувшись по
сторонам, уже тихо и настороженно ответил он.
— Ты, я вижу, из-за угла, как моська, силен, а чуть что, сразу — в кусты.
— Опять ты на рожон лезешь? Брось, говорю. Не испытывай мое терпение...
— Ладно, Дайнис, не обижайся. Я же шучу,— успокоил я сокамерника.— Ты женат?
— И да, и нет... Первая женка в Сибири с мальцом осталась. Бросил ее, когда уезжал оттуда. Правда, крепко меня любила. А на кой черт мне такая любовь, когда по пятам за мной бегает? Бросил и уехал. Она потом сама на развод подала. Алименты, зараза, взыскала. Но я написал заявление, что буду добровольно их выплачивать. Исполнительный лист забрала, поверила. А я высылал ей, когда вздумается. А теперь вообще ничего не получит. Из зоны нечего высылать.
— Как нечего? Будешь работать, будешь и получать. Она снова на тебя в суд — и с тебя 25 процентов «хозяин» станет забирать да жене на содержание ребенка отсылать. Сын-то твой ведь?
— Мой!
— Так почему для родного сына деньги жалеешь? Какой же ты отец?
— Для сына не жалко. Да она их сама будет прогуливать.
— А кто сына кормит, одевает, смотрит и воспитывает?
— Как кто? Она, конечно, бывшая супруга.
— А говоришь, что прогуливать станет. Где же логика?
— А иди ты! С тобой нормально не побазаришь. Все закручиваешь так, что я в дураках остаюсь.
— Так ты ж косить собираешься, дураком хочешь быть. Вот я помогаю тебе. Не обессудь. Я человек — не вредный. Скажи, она русская?
— Русская. Красивая баба, но дура!
— Теперь я тебя совсем не понимаю: русским в Латвии делать нечего, а сам на русской женишься? Благородную кровь смешиваешь? Сын-то у тебя уже не чистокровный латыш. Как же так? Где твоя национальная гордость?
— Сердцу не прикажешь. Полюбил, понравилась, женился. Что ты все с придирками да подковырками?
— Я-то ничего. И полностью согласен, что сердцу не прикажешь, как и людям: где им жить, как им свой быт устраивать, с кем рядом по соседству находиться. Поэтому и лозунг твой «Латвия — для латышей» — абсурден и глуп. Сам говоришь одно, а делаешь другое. Доходит малость?
— Не пойму я тебя. Что ты против Латвии имеешь?
— Абсолютно ничего. Для меня Латвия, как, скажем, и Узбекистан,— одна из республик. Не больше, не меньше. Люди здесь такие же, как и везде. Да и ты ничем не отличаешься от тех, других, которых я видел, слышал, с кем под одной крышей жил, делился радостью и бедой. Вот был ты в Сибири. Там тебя притесняли, унижали? Говорили: ты, латыш, уезжай в свою Латвию, тебе здесь делать нечего, тут наша земля, мы, русские,— хозяева? Говорили такое?
— Нет! Они дураки — русские. На них пахать можно. Запрягай, они молчать будут, кнутом бей — молчат, плюй в глаза — скажут, дождь идет...
— Брось. Я — белорус, для тебя — русский. Так что я, дурной? Тогда чего ко мне за советом лезешь?
— Нет, ты, вроде, толковый!
— А кто, как не русские, монголов разбили, французов Наполеона, фашистскую Германию, которая всю Европу, в том числе и Латвию, полонила? Кто, латыши? Нет, дорогой... А сейчас подумай: сможет устоять мизинец против кулака? Вот, давай я кулаком в твой выставленный мизинец стукну. Что, сломается?
— Во дает... И чего это ты в тюрьме оказался? Тебе бы только на митингах выступать. Говоришь сладко, будто постель мягкую стелешь. Заслушаться можно. А сам бандитом оказался. Слышал, за валюту сидишь?
— За нее, красавицу перламутровую, золотую и брильянтовую,— вошел я в роль.— А что?
— Да так. С таким талантом валюту можно грести, не воруя.
— А я, как ты говоришь, так и делал — не воровал, а меня все равно посадили. Выходит, воровать надо было, взятки брать, тогда бы не был преступником и социально опасным элементом. Да, воруют, взятки берут многие, если не большинство, а сидят единицы и то, в основном, глупцы. Воровать и обманывать — уметь надо, а кто не умеет, тех сюда. Пусть учатся уму-разуму. А в этой «школе» и из честного быстро сделают бесчестного.
— Так что, у тебя сейчас ни жены, ни детей? — переключился я.— А плачешь больше всех. Был бы я холостой, вообще не переживал бы. А то семью жалко, мать жалко...
— Семья-то у меня есть. Не расписан я, правда, со своей последней сожительницей. Дети у нас; один ребенок ее, второй — общий, наш. Жалко мне ее. Одна осталась с двумя на руках. Как она справится? Может, и бросит меня. Знает сейчас, что за проститутку в тюрьму сел. Следователь постарался, всю подноготную вывернул наизнанку. До нее вести дошли. Дочку сюда уже не она, а моя мать приносила.
— Да, мать всегда остается матерью. Больше нее никто своего чада не жалеет. Какой он бы ни был. Вон рождаются больные дети, на всю жизнь прикованные к постели, неполноценные, а настоящие матери не сдают их в приют. Всю жизнь возле своей кровинки мучаются. Всю жизнь, представляешь? Бывает, на несколько дней дочь заболеет, и то жена места себе не находит; изо всех сил бьется, чтобы помочь ребенку, изматывается до предела. А у некоторых вся жизнь проходит с больным рядом, день за днем, без выходных и отпусков. Вот где героизм и самопожертвование!
— Моя жена тоже детей любит. Плохо только, что брак у нас не зарегистрирован. Найдет другого и будет жить. А мне, если выберусь отсюда, снова семью заводить придется. Срок ожидается большой...
Но договорить он не успел. Поступила команда следовать в камеру. Не хотелось уходить в зловонную конуру. Но с желаниями заключенного никто не считается, до его переживаний и страданий никому дела нет...
В этот лее вечер Мужниекса забрали на этап. Перед уходом он высказал предположение, что его везут в Краславу закрывать дело.
На следующий день перед обедом Томсона с вещами отправили на стационарное лечение. Сокамерникам он оставил два лезвия безопасной бритвы, что на целый месяц решило проблему с бритьем. Станок смастерили сами.
В перенаселенной камере даже отсутствие одного человека заметно сказывается. У нас теперь увеличился объем «кислорода» на душу населения, что при полуголодном питании было самым главным. К тому же оба ушедших были заядлыми курильщиками. Теперь из курящих в камере остался только Альфонс, который заявил, что он курит для баловства и постарается бросить. Сабитов же, по его словам, вообще никогда не курил. В камере заметно посвежело. Но по-прежнему она оставалась темной, сырой, заплесневелой конурой, насыщенной вонючими, нездоровыми испарениями и газами.
Сабитов сразу после ухода Томсона перенес свою постель на его место — с третьего яруса на первый. Растянув рот в довольной улыбке, уселся на новом месте и объявил:
— Легче дышать стало! Наверху, возле потолка, всегда дым скапливается, там от нехватки воздуха задыхаешься. А здесь, внизу, хоть сыро, зато воздух шипя. Вся вонь кверху лезет. Надо чтобы ты,— обратился коротыш к Альфонсу,— скорей бросал курить, и в кубрике будет полный порядок.
— А я и так мало курил. От безделья и переживаний. Понятно? Могу и вообще не курить. Я еще не настолько втянулся в это дело. Могу курить, могу и не курить...
— Сколько ты уже месяцев здесь? — спросил у него Сабитов.
— Шестой пошел. После Юриса я теперь старожил в камере. Он уже второй год. Я — пять месяцев. Время хоть и медленно, а идет и идет.
Я забрался на свой второй ярус над Альфонсом, улегся и, полузакрыв глаза, думая о своем, невольно прислушался к разговору, который вели Альфонс и коротыш Кирилл.
— Слушай, Кирилл, а тебя за что посадили? Ты сказал два слова и все молчишь и молчишь. Расскажи. Я молодой, мне интересно знать, да и на будущее наука.
— Да ничего хорошего нет. Но думаю, что долго здесь не задержусь. Должны освободить. Статья легкая досталась. А вначале пытались всадить покушение на изнасилование несовершеннолетней. Еле-еле отвертелся. Хорошо, что успел проконсультироваться, кое-кого подключить по старым связям. А так — табак дело было бы. Загремел бы безвыездно этак лет на пять-семь. Теперь вот суда жду. Мое счастье, что сразу под замок не закрыли. Значит, я везучий.
— Да, совсем везучий. Здесь все счастливчики сидят. Нашел, чем хвалиться! Если б везучий был, не посадили бы,— возразил Альфонс.
— Оно-то так. Но посуди сам: сидеть пять или каких- нибудь два месяца. Разница есть?
— Разница, конечно, большая. Я скоро полгода сижу и еще месяц какой придется. А там, может, на стройки или исправительными отделаюсь. Надежда есть. Шансы большие. Советовался я со многими, все говорят: не должны на зону запереть. А как оно будет, только Бог один знает... Здесь только остается ждать, ждать и еще раз ждать.
— Я-то точно домой пойду. Самое большое — химию сунут. И то не должны. Это гарантировано, без сомнений.
— Гарантию даже аптека не дает, а ты за судью отвечаешь. Мало ли какая ему дурь в голову придет. С женой дома поругается, придет на работу расстроенным, сердитым. Бах-трах и решение. Получай фашист гранату... Или упадет по дороге на работу, больно ударится, или еще что. Так что сплюнь три раза.
— Да не может быть! Предел статьи — до трех лет. Если бы на два дня раньше встретил ту суку, то под амнистию попал бы. Всех, у кого статья до трех лет, амнистировали. Представляешь, мне следователь, а потом и адвокат говорили: не хватило двух суток. Вот здесь не повезло — это факт. И надо же, подвернулась, стерва. Пусть бы на недельку раньше, или хотя бы на несколько дней. Не пришлось бы мучиться в этой грязи и вони, здоровье терять... Из последних сил, но дотяну. Удивляюсь, как этот больной придурок сумел здесь просидеть больше года. За месяц концы можно отдать, а он столько протянул! Дохлый, дохлый, а живуч.
— Так он в эту камеру вместе со мной пришел... Кости да кожа, да и я такой же. Высохли в щепки. Все высосали эти проклятые стены. Ни жратвы нормальной, ни воздуха. Лежим днями, как трупы. И не пожалуешься никому. Стиснешь зубы — и молчишь. Хорошо здесь одно: не бьют и не унижают. Но почему так подло все устроено? Где бардак, где садисты, бандиты сидят, где беспредел — там хорошие камеры. Где нормальные люди подбираются — тех в сырость, в вонь, в гниль бросают. Чтобы быстрее подохли, что ли? Я до сих пор был в сорок первой. Там камера большая, светлая, воздух, как на улице. Три окна открытых без сплошных решеток. А здесь не знаешь, день за окном или ночь... Но там невозможно находиться: первостольники такие вещи творят, что волосы дыбом становятся. И бьют новичков, и пить из параши заставляют, и дерут их во все дыры, отбирают продукты. О вещах своих вообще забудь — сразу отнимают. Ходить по камере можно только на четвереньках или ползком... Жуть! Такая дикость процветает — на уровне первобытной эпохи... Так вот. Тех, кто оттуда вырывается, в такие, как наша, камеры бросают: подыхайте, мол, здесь медленно и верно, раз не хотите раком ходить. Бардак, которого свет не видел! Мне повезло. Сразу сюда заперли. Хоть без нормальных условий, да человеком себя чувствую. А то тоже ползал бы сейчас на четвереньках, как собака. А куда денешься, если толпой, как рассказывают, дубасят? Парень я крепкий и драться умею, а против толпы не попрешь. А может, и не стерпел бы, кто его знает...
— Я бы сразу в драку полез,— заявил Сабитов.
— Да ну! Ты такой коротыш, тебя бы там сразу — на парашу. Даже приемки не делали бы. Там не любят малых, слабых, слюнтяев. Когда прибывает здоровяк, тут и старшие хвосты поджимают; сегодня ты его с дружками побьешь, а завтра окажешься с ним один на один или на зоне. Тогда он тебе так отплатит, ввалит — не унесешь. Таким и приемки устраивают формальные, для вида, да и на парашу их не сажают, а сразу — за пятый или четвертый стол. Всего-то столов пять. Это условное название. В камере всего-то один стол, а разные места за ним — тоже столы. Номер места за столом — показатель власти в камере. Во главе, от окна, сидят первостольники, за ними — второстольники и так — до дверей. Самые крайние — пятый или четвертый. Старики обычно занимают предпоследний или последний стол. Их не трогают. Они сами себе предоставлены...
— А как же ты оттуда вырвался?
— Очень просто. Пошли на прогулку. А я уже настолько издергался, что вот-вот с ног свалюсь. Сердце, как у загнанной собаки стучит. А до тюрьмы я и не знал, что оно у меня есть. Да и в нынешнем хлеву тоже не перестает ныть. Думаю, еще недельку выдержу — и все, надо рвать. Возвращаемся, значит, с прогулки. Все — в камеру, а я — за дверь. Кричу: «Не пойду!» Ну, пушкар- ша: «Чего ты?» Я: «Веди меня к оперу». Повела. Сидит капитан усатый, на южного похожий. Не поднимая головы от бумаг, спрашивает: «Что тебе не нравится?» Я ему объясняю, что житья в камере нет, забьют меня. А он: «Никто еще у нас не умирал. Выживешь и ты. Не нравится? Не надо было приходить сюда!» Как будто я сам, добровольно, сел. Молчу, слезу пустил. Подождал он, сжалился, видно. Ладно, говорит. Есть у меня в ма- ломестке место свободное, туда и пойдешь. Вот сюда пушкарша и привела. А тут тогда было уже пять поселенцев, я шестым оказался. Из полымя да в пекло угодил: дым столбом, лиц не видно, меня — под потолок, на верхнюю полку положили. Лежу, ртом воздух хватаю, как рыба на берегу. Но помаленьку, потихоньку привык. Потом на второй ярус перебрался, а когда ушел один наркот, Юрис предложил мне ложиться сюда. Внизу лучше лежать — воздуха побольше. Так вот я ушел из ада. А там, если кто начинает ломиться, стучать в дверь, так бока намнут, что потом не встать. А некоторые на проверке корпусному прямо говорят, что не могут оставаться. А он никак не реагирует. К нему надо в кабинет идти. Если же пошел, опять-таки пятому закажешь — забьют. Иные к оперу на прием записываются. Но добиться этого сложно. Первостольники и их помощники проверяют, что и кто пишет. Это у них отлажено. Ни одного слова тайком не напишешь, да и заявления без них не отдашь... Так, а тебя за что посадили?
Чувствовалось, что коротышка не рвется рассказывать, за что сидит. После долгой паузы решил все-таки рассказать:
— За одну малолетнюю дуру... Были в компании: я с женой, еще несколько человек. Ну и там, по пьянке, познакомился с девицей лет шестнадцати-семнадцати. Так мне показалось. А на самом деле ей было только четырнадцать. Выехали на берег речки. Рядом лес. Искупались. Женщины стол шикарный приготовили. Как закрою глаза, так его и вижу... Закуски разные — вяленые, копченые, маринованные, колбасные, мясные, овощные — чего только не было там. Семьи с детьми. У одного шофера — день рождения (50 лет исполнилось), вот и решили отметить на природе. Детей с собой взяли. Меня заинтересовала дочь юбиляра — полненькая, кругленькая, сдобная, как свежая булочка. Выпили, погуляли, искупались. Снова сели на травушку-муравушку, еще добавили. На воздухе оно хорошо и пьется, и закусывается. Незаметно хмелеешь. Смотрю: эта девчонка напротив сидит, тоже вино попивает. Заметила, стерва, что посматриваю на нее жадными глазами... Жена рядом сидит, под бок постоянно толкает: ухаживай, мол, муженек, хоть здесь за женой своей, да на чужих не поглядывай. Надоело сидеть, пошли по лесу погулять. Июль, теплый вечерок, птички поют, все кругом цветет и благоухает. Уже от этих запахов голова кружится, а тут еще хмель в голову ударил. Бродил я по лесу и встретил эту девчонку. Она увидела меня — улыбается. Сама разговор со мной завязала. Иду я с ней, а сам все по сторонам оглядываюсь: не увидела бы жена, скандал устроит из ревности. Девица заметила это и говорит: «Женушки боишься? Трусливый ты мужик!» Ах, ты так! Я, сдуру, к ней. Мол, сейчас тебе докажу, что никого не боюсь. В голове аккумулятор замкнул, мужская сила верх взяла. Повалил я ее на траву и давай целовать, обнимать, да по трусикам рукой шарить. Она закричала, вырвалась и убежала. За столом сидела хмурая, злая. Родители спрашивают: «Ты чего это, Велга, в лесу орала?» Она: «Так, испугалась». И опять молчит, больше ничего не говорит. А я сижу ни живой, ни мертвый; расскажет — скандал будет. Праздник испорчен, да и от жены попадет. Снова пьем потихоньку. Я ей предлагаю выпить за дружбу, а сам всем видом даю ей понять: извиняюсь, мол. Но она со мной пить больше не захотела. Еле дождался я конца этого пира, потому что и водка уже в горло не лезла, и страх меня все больше осиливал. Скорее бы в автобус — и домой. Только когда разъехались, на душе полегчало. Пронесло, думаю. На работе — все нормально; ее отец, как ни в чем не бывало, со мной здоровается, никаких признаков, что он знает или слышал что от дочери. И вот еду я однажды под вечер. Настроение хорошее — полета закалымил, бутылочку прикупил. Чин-чинарем. Смотрю: стоит она на остановке. Я по тормозам, кричу: «Велга, садись, подкину!» Она увидела меня, спокойно подошла и села рядом. Вот те, думаю, на... Приятный сюрприз... Тогда я и предложил: «Давай на природу махнем? Я машину загоню — и за город, на пару часиков. Искупаемся, по бережку походим, птичек послушаем. У меня выпить есть, закуска». Она, к моему удивлению, согласилась. Загнал машину, сели на электричку и махнули в одно место. Там домик есть. Я знаю, где ключи. Приехали, искупались. Опять я засмотрелся на нее. Девка, что надо: и бедра, и грудь — все на месте. Сели мы на бережку. Я предложил выпить — она не пьет. Налил я тогда себе стаканчик. После воды прохладно, а водочка, она согревает. Перекусили, прошлись малость. Солнышко уже к закату клонится, только птицы поют да лягушки вдали квакают. Я еще стаканчик приголубил. Снова поели. Она: «Мне домой пора». А я сам себе: «Ишь ты, какая шустрая. Чего ради я с тобой в такую даль катил?» Говорю ей: «Давай здесь часика четыре побудем, избенка вон — рядом. Посидим, полежим, отдохнем». Она — ни в какую: домой пора и все тут. Я и так, и этак. А водка уже развезла меня. На подвиги потянуло. Я ее в охапку — и на траву. Давай грудки нежные целовать, потом рукой по ногам шарить стал. Плавки, влажные после купания, прилипли к телу — не содрать. А она как завопит, да так громко, что я сразу отпустил. Она вскочила, глазенки вытаращила, плачет: «Зачем ты так со мной обращаешься? Я еще малолетка, мне только четырнадцать...» Тут у меня в душе все оборвалось: «Не бреши! Не верю!» — «Скоро узнаешь...» Обозвала меня скотиной, дураком и убежала на станцию.
На следующий день на работе подходит ко мне ее отец и заявляет: «Что же ты, гад, мою дочь изнасиловать хотел?» Мне хоть сквозь землю провались. Попытался объяснить ему, что к чему. Мол, сама поехала, пьяный был, не знал, сколько ей... Прости, мол, коллега. Он говорит: «Я бы простил. Да она на остановке плакала, милиция подъехала и в отдел ее отвезла. Она там все и рассказала». Меня как ошпарило: «Конец! Надо что-то делать». Отпросился у начальства и давай по знакомым мотаться, советоваться, помощи просить. Пообещали. Да поздно. В райотделе сразу зарегистрировали заявление в журнале и возбудили дело. Я к этой дуре домой. В школе. Я в школу. Молю, прошу: «Напиши еще одно. Скажи, что сочинила, ничего у нас не было. Не приставал я к тебе». Она говорит: «Ты мне плавки разорвал, уже изъяли. И следы твоих рук там остались. Экспертиза была». Это — конец! Места себе не нахожу. Что делать? Снова к своим бывшим знакомым милиционерам. Так, мол, и так, ребята, выручайте. Век благодарен буду, не забуду. Они на все педали нажимать. Крутили, вертели. Уговаривали следователя оформить дело не как попытку изнасилования, а как развратные действия в отношении малолетней. Санкция — до трех лет. Думали, может, под амнистию попаду. Тогда еще разъяснения не дали. Обрадовался я. Жене ничего не говорю, надеюсь, что дело прекратят, она и не узнает. Нет, шиш! Пришло разъяснение, что я под амнистию не подхожу. Пришлось жене рассказать. Она — в крик: «Не прощу! Разведусь!» Еле- еле уговорил. Убедил, что ничего не было, что сама лезла, я отказался, вот она заяву сдуру и написала. Врал, ползал перед ней, просил, чтобы не разводилась. Когда дело закрывали, прокурор меня вызвал и после утверждения обвинительного заключения арестовал. Почему? Понятия не имею. Статья же такая, что не должны были посадить. Последствий никаких. Она осталась девственницей, а мне вот сидеть. Сейчас молодежь пошла — палец в рот не клади. Все знает. Сама дура напросилась, а я виноват остался. Чуть семьи не лишился. Чего, спрашивается, перлась со мной на природу? Что там забыла? Знала, что женат. Мужика захотелось. И меня бес попутал. Искал на свою задницу приключений. Вот и нашел...
Я привстал на койке и посмотрел на рассказчика. Лицо его было мрачным, зло сверкали глаза. «Интересно, на кого он больше злится: на себя или на девушку-мало- летку?.. Еще легко отделался. Конечно, еще как суд посмотрит. Может запросто дело обратно завернуть, чистейшее покушение на изнасилование».
— Да, от этих баб чего угодно ожидать можно... Наверно, третья часть, если не больше, арестованных из-за них сидит. Только у нас в камере таких четыре человека: ты, Томсон, Дайнис, Ингвар. Как это меня еще минула эта горькая чаша? А тоже мог! Запросто!
Ингвара в камере сейчас не было. Мне сказали, что он уехал на этап и должен скоро вернуться.
Альфонс продолжал свои излияния на русском языке, но с ужасным акцентом:
— Сколько у меня их перебывало! И слезы видел, и угрозы слышал. Два раза в «триппербаре» лечился...
— Да и я их немало перепробовал на своем веку. До этого удачно обходилось. Вот и решил с молоденькой побаловаться. Вот и доигрался! Наука на всю жизнь. Никогда не думал, что в тюрьму загремлю. Жена сейчас психует, нервничает... Такой ей подарок. Как дочь там — не знаю. Ты еще не видел ее фото? Она с женой?
— Нет!
— Сейчас покажу! — коротыш встал и подошел к вешалке. Полез в карман пиджака. Достал бумажный сверток, развернул, достал фото и долго, будто впервые, внимательно, задумчиво разглядывал его, потом со вздохом протянул Альфонсу.
Тот сел на койку и, чтобы лучше рассмотреть, поднес изображение поближе к свету.
— Красивая жена! И дочка симпатичная. Сколько ей лет?
— Семь. Было...
— Ждешь папу? — кивнул на фото.— Ничего, скоро придет. Не пускай его больше из дома. Блудный он и дурак большой!..— Возвращая фотокарточку, тоже вздохнул: — Ты вот недавно из дома... Знаешь, как там. А я уже около шести месяцев свою мать не видел... Как арестовали, с тех пор — ни слуху, ни духу. Как она там мается?
— Хочешь посмотреть? — Сабитов и мне протянул фотокарточку.
— Давай, оценим! — поняв чувства сокамерника, ответил я и как только взглянул на чужое фото, сразу вспомнил своих жену и дочь: «Как они там? Уж скоро год будет, как мы не виделись. Вернее, свидание с женой было два месяца назад, а дочь я не видел со дня ареста. Утром отвел ее в садик. Она вдруг вернулась, догнала меня и поцеловала, крепко обняв ручонками. Раньше с ней такого не было. Как будто чувствовала, что долго не увидит своего папку. Если вообще увидит. Всякое бывает в тюрьме, на зоне, на этапе... Этот жаркий поцелуй, крепкое детское объятие я часто ощущаю так остро, как будто это было вчера. Стоит только закрыть глаза, сосредоточиться и я слышу ее голос: «Папка, приходи скорей, я тебя жду и жду. Почему ты так долго не приезжаешь из своей плохой командировки? Папочка, я очень скучаю по тебе. Приезжай быстрей». И меня бросает то в жар, то в холод. Я не мог четко рассмотреть изображение: мешали застилавшие глаза слезы... Но сокамерник стоял рядом и ждал оценки, ответа, восторга, он уже нетерпеливо покашливал. Я пришел в себя, возвращая фотографию, спокойно сказал: «Хорошая жена, красивая малышка. Меня тоже такие ждут».
— Жена у меня красивая, а дочь вся в меня, в папку, пошла. Видишь: и нос такой, щечки, глазки. Моя кровь, сразу видно. Не надо беспокоиться и переживать, гадая, мой или не мой ребенок. Здесь сразу видно, чья работа.
Но я опять не слушал рассуждений товарища по несчастью, погрузившись в свои воспоминания... «Ребенку нужен отец, жене — муж, матери — сын. А я здесь сижу и сижу, задыхаясь от вони и нехватки воздуха, за семью замками и решетками. Когда же все это кончится? День и ночь перед глазами тусклая электрическая лампочка, обшарпанный почерневший потолок и серо-голубые стены... Когда я избавлюсь от этого кошмара? Когда обниму дочь? Если подсчитать, сколько времени из десяти месяцев заключения я думал о жене, дочери, матери, то получится, пожалуй, не меньше двух месяцев чистого времени. Ложусь спать и просыпаюсь постоянно с их именами на устах и с ними мысленно всегда — весь день, долгий, томительный, изматывающий. И в минуты уединения опять и опять мысленно возвращаюсь домой, где оставлена частица моего бытия, частица сердца и души. Удивительно, но теперь я почему-то помню до мелочей каждое их движение, взгляд, жест, мимику лица, поворот или изгиб фигуры...»
Фотография семьи сокамерника снова всколыхнула мою постоянную боль, мою ноющую рану. Каждой клеточкой тела и души я живо ощутил последнее, прощальное прикосновение нежных детских рук, родной запах волос и тепло дочери. Так и смотрят мне в душу ее чистые детские глаза. Меня снова охватывает то озноб, то жар — я весь покрываюсь потом... Изо всех сил сдерживаю себя, чтобы не закричать, не замолотить в дверь руками и ногами с требованием и мольбой выпустить из этого гадюшника... Уткнувшись в подушку, чтобы сокамерники не видели моего лица, я, мужчина 36 лет, тихо плачу. И мне не стыдно... Хочу быть и остаться человеком!
...Я предложил сделать в камере генеральную уборку, убеждая, что после этого у нас станет свежее и уютнее.
Сабитов встретил это предложение недружелюбно:
— Что ты здесь раскомандовался? Недели не сидишь, а свои порядки потихоньку начинаешь устанавливать.— После ухода Томсона он явно претендовал на старшинство в камере. Об этом можно было судить и по тому, как он спешно перекинул свою постель на кровать ушедшего, как стремился подбежать к открывающейся кормушке с миской, наивно полагая, что ему достанется лучший кусок гнилой капусты или картошки.
Но я продолжал настаивать на своем предложении:
— Слушай, люди мы или свиньи? Почему должны сидеть в нечистотах, когда их можно убрать? Если тебе трудно, я один это сделаю. С меня корона не упадет. Это свинство — жить в паутине и грязи.
— Без тебя знаем, что делать! До нас так было и так будет. А не нравится — можешь уходить. Держать не будем,— зло перебил меня коротыш.
Тут я вспылил:
— А не много ли ты на себя берешь? Мне власть не нужна. Я ею насытился по горло. Но не хочу опускаться до скотского состояния. Я человек и потому хочу жить в чистоте и устраиваться, насколько это возможно, по- человечески.
— Ага! Он — человек, а мы, значит,— скоты? Видали мы таких! Приехал в Латвию свои порядки устанавливать? Тут без тебя разберутся,— злобно кричал Сабитов.
— В Латвии, конечно, разберутся, и в тюрьме, наверняка, тоже, а в камере я такой же, как ты. А потому желаю придать ей хотя бы мало-мальское подобие жилья, а не скотного двора.— Не желая разжигать ссору, я подошел к проблеме с другой стороны: — У тебя дома, что, тоже такая вот грязь и вонь?
— Сравнил тюрьму и дом! У меня в квартире ни соринки, ни пылинки не найдешь. Жена на этот счет строга. Мне тоже покая не дает: убери, принеси, отнеси. Одни ковры трясти и выбивать... Уже всю душу вывернули, смотреть на них не хочется... То дома, а то камера.— То ли воспоминания о доме, жене, то ли еще что подействовало, но Сабитов стал сбавлять тон.
— Вот видишь, в квартире у тебя порядок. А как в машине, на которой работал?
— В машине моей тоже порядок. Там особый случай. Клиентов вожу. Надо чтобы сервис был на самом высоком уровне.
— Ага, и там у тебя порядок. Тогда объясни мне, глупому: почему ты дома порядок поддерживаешь, в машине тоже чистота, для людей стараешься, а здесь навести чистоту для себя, для своего здоровья тебе лень? Или снаружи ты чистоплотный, а копни поглубже... Что же обнаружится внутри, за внешним лоском?
— Тебя не касается, что у меня внутри. Я сам себе хозяин. И не суйся больше ко мне. А то схлопотать можешь.
— Не кипятись и не зарывайся! Я, как-никак, умею давать сдачи и рожки обламывать. Так что смотри. А уборку все равно сделаю, хочешь ты или нет.— Я взял тазик и стал набирать в него воду из-под крана...
Альфонс молчал. Как я догадывался, он обдумывал, чью сторону занять. По духу и складу ума ему ближе Сабитов. Да притом они из одного города, больше меня в одной камере сидят. Сабитов и родился в Латвии, и знает местный язык и обычаи, а этот блондин залетный... Видать, не простой он мужичок, себе на уме. Тихой сапой свою линию гнет и гнет. От такого лучше подальше. Сокамерники сидели и молча посматривали друг на друга. Наконец, не выдержав, видимо, опасаясь, что может остаться в меньшинстве, Сабитов встал с койки, потянулся, крякнул и уже миролюбиво, но по-хозяйски снисходительно, согласился:
— Я тоже давно подумывал насчет уборки. Не дело в грязи валяться. Только что: мне больше всех надо? Но раз ты взялся, надо помочь. Нам здесь жить, нам и убирать. Ты мой окно, а мы вдвоем из-под койки выыетем. Ну-ка, Райнис, пошевеливайся, а то совсем раскис. Шевелись, чтобы деточки велись...
Работа закипела. Камера маленькая, уборка спорилась. Воду приходилось часто менять. Она быстро становилась черной от грязи. Пол постепенно превращался в светло-серый. Окно также стало похожим на окно. После уборки в камере посветлело, посвежело, похорошело... Стало приятней и легче на душе. Совместная работа сблизила нас, но некоторая отчужденность оставалась: неприятный осадок от скандального разговора с Сабитовым давал о себе знать.
Сыграли в покер. Потом Альфонс с Сабитовым уселись за шахматы, а я занялся чтением. Выбирать было не из чего: в камере было шесть книг и только одна из них на русском языке — «Дело Артамоновых», которую я и читал. Меня этот факт насторожил. Книги выдавались раз в десять дней, и если иметь только одну на этот срок, то от скуки умереть можно. Хорошая книга отвлекает заключенного от тяжких дум и переживании, заставляет забывать о своем горестном положения- Когда я был в камере с несовершеннолетними, то сам ходил в библиотеку выбирать книги и журналы на свой ькус, а здесь приходится читать то, что приносил в камеру работник СИЗО, скорее всего библиотекарь. Книги, как правило, он выдавал неинтересные, чаще всего каких-то малоизвестных провинциальных писателей. Классиков же, философскую, историческую литературу нам почти не предлагали. А именно такого рода книги теперь больше всего хотелось почитать. Кстати, в тюрьме, большинство заключенных читает книги. Мне не раз приходилось слышать, что на свободе годами не читал книг, а здесь в чтении нахожу удовольствие и наслаждение.
Ежедневно в камеру поступали газеты. Но случалось, что и по два-три дня газет не приносили. Меня злило, что газеты были только на латышском языке, которого я не знал. Иногда выдавали «Правду». Тогда я читал ее» ка^ говорится, от корки до корки, от первой до последней страницы. Поднимать вопрос о русских книгах и газетах перед администрацией было неудобно, не хотелось затрагивать национальные чувства сокамерников. Как сильно здесь развит национализм, я скоро испытал на своей шкуре.
Время в тюрьме, как всегда, шло медленно. Я уже знал, что Альфонс сидит за грабеж и хулиганство. Он сильно переживал, что вместо того, чтобы разбогатеть, оказался в тюрьме. Постоянно он твердил нам, что здесь последний раз, сюда он больше не ходок, дураков пусть поищут в другом месте. Как-то после слабенького ужина (уха была невкусной, из настолько костлявой рыбы, что выбрать все кости из миски оказалось невозможным; приходилось приспосабливаться, глотать вместе с костями; ни сала,ни масла, ни других дополнительных продуктов не было), Альфонс, сметя со стола все хлебные крошки в ладонь и опрокинув ее в широко раскрытый рот, заключил:
— Малость червячка заморили, теперь и побазарить можно. Может, кто какой-нибудь анекдот свеженький расскажет?
— Что анекдотами душу травить? Ты лучше расскажи, как ты до такой жизни докатился, что крошки хлеба со стола собираешь? На свободе, небось, батоны в мусорку выбрасывал. Было такое? — вызывающе спросил я.
— Было. Жил неплохо. Но ушло золотое времечко. А сейчас лишь одно на уме: как выскочить отсюда. Даже о женщинах забыл.
— Выскочишь, ты еще молодой. Не то, что я, старик. Тебе и двадцати нет. Суд возраст тоже учитывает.
— Де, если б не попал в тюрьму, пошел бы в армию. Два года неизвестно кому отдай. Так что, может, и неплохо, что сюда попал, самое большое — год отмучаюсь. Зато есть гарантия, что в Афганистан не загремлю. Я же занимался с другом в ДОСААФ, через военкомат нас туда определили. Готовили нас в десантные войска, учили и как с парашютом прыгать. После тренировок приходил домой еле живой. Дружок мой ушел весной в армию, а меня на осень оставили, отсрочку почему-то дали. Так он мне писал, что в учебке его готовят к отправке в Афган. Может, теперь уже и в живых нет. А я цел и невредим. Ха-ха-ха! Неизвестно, кому из нас больше повезло. Может, придет оттуда инвалидом. Вон сколько их по городу ходит. Так лучше уж здесь...
— Это ты успокаиваешь себя, а сам бы скорее в Афганистан согласился ехать, чем сюда, если бы была возможность выбора.
— Черта с два! Пусть дураков в другом месте поищут. Мне чужой земли не надо. Только нашу Латвию пусть не трогают. А то вот русские лезут и лезут к нам. И что им здесь надо, никак не пойму. Вот они пусть и воюют. А мне дома нравится. Ко мне пусть никто не лезет, и я ни к кому не полезу.
— А у тебя родители есть? Слышу ты все о матери вспоминаешь. А отец где?
— Тю-тю! Давно уж бросил нас с матерью и удрал. Где сейчас, не знаю. Ни слуху, ни духу. Если когда поймаю — прибью. Ни копейки не давал матери. Хорошо, что я подрос и стал подрабатывать. А так ей очень трудно было. Она у меня очень добрая.
— Вот ты говоришь, что сюда больше попадать не хочешь. А отца собираешься убить. Так что ж снова тюрьма тебе светит! — вмешался Сабитов.
— Это я так, к слову. Убивать не стану, но в морду врежу. Папаша нашелся! Меня сделал, а сам сбежал. Ну и ввалю ему, долго будет помнить сына!
— А кто он у тебя по национальности?
— Мать говорит, что немец. Мать — латышка. И я латыш, чем и горжусь. Окончил латышскую школу. Дома у нас сотни книг, в основном на латышском. Презираю все, что не связано с Латвией. Помню, еще в детстве мы писали краской на заборах, на стенах домов, вокзалов: «Русские, убирайтесь вон! Русские, уходите подобру, вам здесь делать нечего!» И теперь эта традиция не перевелась: такие надписи в городе можно увидеть в разных местах, даже в общественных туалетах...
— Ну, в туалетах много всяких надписей и записей. По-моему, вообще умные люди в таких местах не пишут,— вставил свое слово я.
— Слушай, если тебе не нравится в Латвии, чего ж ты тогда сюда приехал? Уезжай! — раздраженно закричал Райнис.
— Чудак ты, парень! Во-первых, я не самовольно приехал, а меня под конвоем доставили. Во-вторых, я бы с удовольствием отсюда уехал. Посоветуй, как это сделать? А в-третьих, я не говорил, что Латвия мне не нравится. Она такая же республика, как другие, только со своими особенностями. Здесь много старины, национального своеобразия, колорита, свои традиции.
— Все равно. Не нравишься ты мне! Не любишь истинных латышей, все равенство проповедуешь. А где оно, это твое равенство? Одни икру черную, красную едят, на казенных «Волгах» день и ночь по личным делам раскатывают, имеют государственные дачи, свои магазины, склады, а другие пашут, получая гроши. Как это понять? Где же равенство для всех? Что они народу отдают? Пустые призывы и лозунги: «Дадим стране угля... Пятилетку в три года... Выполним задания партии и правительства досрочно»... Где же справедливость? Ты не иначе, как подосланный к нам мораль толкать. Так мы тут все грамотные: с пеленок на своем горбу эту мораль испробовали. Нас уже не перевоспитаешь,— разошелся Альфонс. Бледное лицо его покраснело.
— Что тебе сказать? Я такой же зэк, как и ты. В твоих словах есть большая доля правды. Но эти лозунги, что ты назвал, сам народ выдвигает, принимает на собраниях.
— Не гони туфту! Знаем мы эту инициативу масс. Вот приходит к нам начальник колонны или автокомбината и говорит: «Мужики, в райкоме был». Дали указание почин выдвинуть: «Проработаем год без аварий». Как будто это только от шофера зависит. Но если начальник призывает, значит, надо. Проголосовали. Или приходит парторг и говорит: «В горком вызывали, надо в этом месяце перевыполнить план перевозок на 20 процентов. Надо — припишем к 100 километрам еще 20. За нами дело не станет. Кто бы спорил, мы не будем. И так, и этак приписываем. Вот она действительная инициатива масс. А ты тут брешешь, слушать тошно...
Я понял, что оба моих оппонента настроены воинственно и решил не лезть на рожон, не накалять страсти:
— Может, вы и правы, ребята. Беспорядков всюду хватает. Но все равно все зависит от народа: он власть устанавливает, он и начальство может поменять.
Но и эти мысли не понравились Сабитову:
— Народ твой — стадо баранов, куда его пастух погонит, туда он и пойдет. Скажут это делать, сделает, скажут — то, делает то. Лишь бы платили «мани». Сегодня один у власти, все ему хлопают, завтра другой придет, другому хлопают, третьему, четвертому... А потом говорят: тот плохой был. Соглашаются: да, плохой был, этот — хороший. Через некоторое время пишут: нет, уже тот был хорош, а этот плохой. Пусть будет так... А в Китае... Мао за десять лет так народ убедил, что он лучший в мире, что люди ложились и вставали с его именем. С его именем умирали. Вот тебе и народ. А что у нас при Сталине было? Тысячами ни за что хватали, гнали неведомо куда, расстреливали, а народ молчал...
Я сразу понял, что спорить с ними бессмысленно, бесполезно. Ничего не сказал я в ответ, хотя в душе был категорически против такого абсурдного утверждения, что народ беспомощен, безобиден и послушен, как стадо баранов. Жизнь, правда, доказывала другое...
После этого разговора в моих отношениях с латышами стала проявляться некоторая натянутость. Но мы по-прежнему вместе ели, говорили, спорили. Условия содержания людей в заключении, нервозность обстановки, переживания отрицательно сказываются на психике, это приводит к резким срывам, неустойчивости поведения, непоследовательности в словах и поступках. Оба сокамерника часто, без нужды, подчеркивали, что они латыши, хотя Сабитов и не был таковым по паспорту. Но сам факт рождения в Латвии давал ему право заявлять об этом. Теперь они довольно часто разговаривали между собой по-латышски, как бы игнорируя меня. В такие минуты я вспоминал и сравнивал со здешними людьми своих земляков-белорусов, в большинстве своем лишенных национальных предрассудков и национального чванства. Для моих земляков совершенно безразлично кто живет с ними рядом: эстонец, удмурт, чеченец, среднеазиат — лишь бы был честный и порядочный человек. У нас в крови — гостеприимство и хлебосольство. Даже в Минской тюрьме, где я провел несколько месяцев, никаких конфликтов на национальной почве не было. Никто не кричал, что он белорус, а значит — высшая раса в республике, что другим здесь делать нечего; никто не оскорблял и не унижал чьи-либо национальные чувства, хотя вместе всегда находились представители разных национальностей и народностей. Никто у нас не общался только на белорусском языке, правда, многие из заключенных его толком и не знали...
Здесь же, в латвийской тюрьме, латыши, за редким исключением, читали книги и разговаривали только на родном языке. Газеты тоже требовали и читали на латышском языке. Лица других национальностей чувствовали себя здесь неуютно и тоскливо, их старались по любому поводу притеснять и унижать. Среди арестованных больше всего было русских. Мне бросилось в глаза, что русские оказывались гораздо крепче в моральном, волевом плане. Они были сильнее духом в тяжелой, подневольной камерной жизни, они были смелее. Не раскисали, не ныли. Но, в отличие от русских, латыши были сплоченнее. Тем не менее в беде они не очень-то помогали друг другу, каждый больше думал о себе. Это позволяло русским или представителям других национальностей верховодить в многоместных камерах. Жестокие тюремные традиции и законы были придуманы латышами, о чем свидетельствует тот факт, что таких глупых, садистских, бесчеловечных унижений нигде нет в других тюрьмах. Об этом знал я, знали другие заключенные из разговоров между собой. Тюрьма, как вокзал, служит перевалочным пунктом и временным пристанищем людям со всех концов страны. Несмотря на то, что законы были придуманы латышами, несмотря на то, что их было большинство в тюрьме, первую скрипку в претворении этих законов в жизнь играли русские. Они, как говорится, командовали здесь парадом. Во всех многоместных камерах, где стойко держались уголовные традиции, за первым столом сидели русские парни. Они диктовали условия, а латыши, как и другие новички, гнули спины. Ибо русские были наиболее отчаянными, смелыми и, нередко, наиболее наглыми заключенными. Это бесило аборигенов, вызывало у них злобу и ненависть, которую они при удобном случае непременно срывали на других. Но не во всех камерах существовали неписанные традиции, не во всех камерах избивали, унижали, грабили. Это прежде всего зависело от состава и числа сокамерников. Во всех многоместных камерах, где размещалось от 10 до 60 арестованных, жестокие тюремные традиции были устойчивы и живучи. Меня не только возмущали эти дикие традиции, но, не скрою, сильно интересовало, почему, на чем они держатся, в чем причина их живучести? Я постарался найти подход к Альфонсу, который испытывал на себе эти чудовищные нравственные и физические унижения... Его рассказ глубоко поразил меня.
В камеру прибыло пополнение, вернее восполнение. Возвратился с этапа Ингвар, который здесь сидел до меня. Я с ним был, конечно, незнаком. Придя с прогулки, мы увидели сидящего на койке юношу лет восемнадцати. Он радостно поднялся навстречу вошедшим. Пожимая руки, он говорил, что удивлен переменами в камере — чистотой и порядком. Он был примерно моего роста и такой же весовой категории. Держался уверенно, много рассказывал о себе. Из этих рассказов я узнал, что сразу после ареста он находился в многоместной камере несовершеннолетних до тех пор, пока не исполнилось 18 лет. Тогда его сразу перевели в многоместную камеру к взрослым, где он пробыл около недели и, не выдержав испытательного срока, убежал. Вышел вслед за проверяющим и упросил перевести в другую камеру, чтобы избавиться от унижений и издевательств. Вот тогда он и попал в нашу. После того, как мы с ним познакомились, я полюбопытствовал:
— Ингвар, а сколько же месяцев ты под стражей?
— Второй год.
— А точнее? Я тоже второй календарный год.
— Более точно — десять месяцев. В ноябре арестовали.
— Так и у меня — десять уже: арестовали в конце октября.
— А меня в начале ноября, 5 числа.
— Смотри-ка ты: почти одно время сидим. Ты что, дело закрывал?
— Да. Оно было на доследовании. Прокурор запросил дать мне 8 лет, а суд завернул дело. Следователь теперь ничего нового в него не внес. Видимо, столько же и дадут.
— А почему так много? «Паровоз», что ли?
— Он самый. Мне из всей группы больше всего сидеть.
— Да. Многовато для первого раза. Все молодые годы проведешь за ключей проволокой.
— Ничего не попишешь, такие наши бумаги...
— Надо надеяться, что удастся на половинке выскочить...
— Много чего надо, а как на самом деле будет — неизвестно. Время покажет.— Какое-то апатично-безразличное отношение к своей судьбе, звучавшее в этих словах юноши, поразило меня.
— Ты что, совсем смирился? Тебе все равно — пять или восемь лет сидеть?
— Нет, конечно, не все равно. Но ничего не поделаешь.
— Многое зависит от тебя. Отсидишь полсрока — пойдешь на стройки, а там и досрочно освободишься...
— Там видно будет!
Я понял, что мои вопросы разбередили душу парня.
— Слушай, а по какой части ты проходишь?
— Статья у меня 121, ч. 3 — групповое изнасилование несовершеннолетней, а санкция там до 15 лет.
— И сколько у тебя подельников?
— Пять!
— Ого! Так ты, значит, хотя и шестой, но главарь и заводила?
— Вроде так получается.
— И как это вы умудрились толпой несовершеннолетнюю изнасиловать? Парень ты красивый, нашел бы женщину себе при желании.
— Оно так! Родился я в деревне, приехал в свой районный центр к корешу. Слыхал про такой район — Балвиский?
— Слыхал, говорят, далеко от Риги.
— Да, горпоселок Балвы. Вот приехал я к корешу на праздники погостить. А к нему еще один дружок привалил, из Лудзенского. У меня же в Балвах тетка живет. Ключи от квартиры она мне оставила, а сама поехала к родственникам в деревню. Выпили, посидели, музыку послушали. Вечером на танцы сходили, там бабенок сняли. Девицы ничего, красивые. Кореш их знал. Пригласили с собой, посидеть, маг послушать. Согласились. Нас трое и их трое. А тут еще трое знакомых парней подкатывают. «Привет-привет! Куда лыжи навострили?» — «Домой, металл слушать».— «Так и мы с вами». Пошли на квартиру моей тетки. Двое сбегали за самогоном. Притащили пять банок первака. Врубили маг, выпили. Захо- рошело. А одна из наших подруг — ничего бабенка: фигура, талия, грудь что надо и мордочка смазливая. Я за нее: «Пошли в другую комнату, посидим». Квартира у тетки двухкомнатная. Согласилась. Сели на койку, базарим. Мне и захотелось ее трахнуть. Стал обнимать, целовать. Сопротивляется. Меня злость взяла. Пришла в чужую квартиру, напилась, наелась, а не дает. Я ей по морде, по морде. Заплакала, но разделась. Я еще на ней был, как зашел другой, увидел. Захотелось и ему слазить. Потом вышел и третьему сказал. Так все по очереди и побывали на ней... Другие девицы, как узнали об этом — бегом из квартиры. Даже куртки свои забыли. А эта дура оделась и ревет: «Жаловаться буду». Мы ей еще добавили. И выпроводили. А потом испугались. Беда будет. Да поздно! Она от нас — прямехонько в ментовку и заявление накатала. Нас на квартире накрыли и всех скопом забрали. На следующий день арестовали. Теперь долго мне свободы не видать.
— Да, неприятная история. Девчонку-то вы искалечили. Сколько ей лет?
— Чего? Что с ней стало? Жива и невредима, а здесь пахать за нее и пахать. А она как гуляла, так и будет гулять.
— Сколько же ей лет?
— Шестнадцать тогда исполнилось, а теперь скоро семнадцать будет.
— Зря ты ее еще поносишь. Она только вступила в жизнь, а вы ее тут же изнасиловали. Каково ей? Да и твои родные-знакомые, наверное, теперь ей проходу не дают: просят, угрожают. И родственники твоих подельников не отстают. Не так разве?
— Да. Мои родители ездили к ней. У меня было свидание с ними: плачут, жалеют меня...
— Ну вот! А ей ведь с клеймом в жизнь вступать.
— Да ей-то чего тяжело? — вмешался Сабитов.— Теперь вон шестнадцатилетние проститутки в казармы к солдатам на второй, третий этажи по простыням лазят. За ночь их обхаживает до двадцати человек. Выживают и снова лезут.
— А слышал одна шмакодявка за ночь троих сифилисом наградила,— вставил свое слово Альфонс.
— Да их, проституток, вешать надо. Развелось на каждом углу. Только пальцем помани — побегут,— продолжал Сабитов.— Сколько их я на своем веку пере- имел, перевидел. С шоферами в машинах по городам раскатывают, «дорожными» называются. Дорогу любят, стервы. По гостиницам и кемпингам которые ходят — это «гостиничные», у иностранцев ночуют — «зондер- ши». Есть еще городские, деревенские, полевые, уличные, домашние... Каких только не встретишь!
— Ха-ха-ха! Мне хоть и двадцати нет, а тоже перепробовал. И от триппера дважды лечился. Смотришь — с виду красавица, королева Марго, а внутри — гнилая, течет... Чем на лицо смазливее, тем более гулящая. На красоту все бросаются. А как только один «сломал», так и пошла по рукам. Особенно несовершеннолетние...
— Ну, не все же гулящие и падшие. Вот, твоя, Ингвар, жертва девушкой была? — перебил я.
— Да! Если бы не это, так, может, меньше дали бы. А тут, как назло, еще и прокурор баба. Ее дочку тоже, говорят, изнасиловали. Вот она и срывает зло на таких, как я, потому и 8 лет попросила. Конечно, и в другой раз она своего мнения не изменит. Как ты думаешь?
— Неизвестно, может, и изменит. Да еще кто будет в суде: может, и не она..; А у тебя, Кирилл, жена гулящая?
— Ты что: сбесился? Думай, о чем спрашиваешь! — зло ответил тот.
— Вот я и думаю, отчего всех женщин без разбора считаешь падшими? А твоя жена, оказывается, не из таких... Значит, ты думаешь, тысячи, миллионы других, чьих-то жен, гулящие, а твоя не такая, она особенная?
— А иди ты... Со своими высокими материями. Известно, разные бывают бабы. Но молодежь нынче — распущенная до предела. Посмотри, что в школах, в старших классах делается. Непорочные скоро будут музейной редкостью.
— Не знаю, не проверял. И что-то не верю твоей статистике. Вот у тебя дочь растет, говоришь, почти твой портрет. Так она тоже когда-нибудь в десятом классе будет. Посмотрим, какие песни ты тогда запоешь. Я вот тоже свою жену считаю порядочной женщиной. Дочь постараюсь воспитать такой же. И так каждый старается. А вот такие наглецы, как Ингвар, калечат девочек. За это и суды много дают, а может, мало. Как посмотреть... Да и ты, Кирилл, не лучше: нашел на кого лезть. Папаша, называется,— съязвил я.
— Я с дуру, по пьянке. Но это не твое собачье дело. И мою семью не тронь! Лезешь во все щели. Что ты за человек? — разозлился Кирилл.
— Вишь, и на меня бочки катит: «Искалечил девочку!» Чего ж она перлась в ночь с парнями, самогон хлестала? Чего? Ее никто не тащил. Понимала, с кем и на что идет, не в юбках же мы были... А теперь невинные глазки строит. Дура — она и есть дура! Что с нее возьмешь? И не читай мне морали! — глухим от ярости голосом пригрозил Ингвар.
— А дочь свою я воспитаю честной и чистой. Буду в руках держать. Незачем ей по ночам шляться, а то станет поживой таких, как вот он. Могут изнасиловать в любом месте. Смотреть в оба надо,— тихо и задумчиво, как бы для себя, проговорил Сабитов.
«Такие, как он? А такие как ты, чем лучше? Ему восемнадцати не было. Он на сверстницу полез. А тебе, папаша, за тридцать, а на четырнадцатилетнюю позарился»,— подумал я, а вслух гневно произнес:
— Если бы (не приведи Господь!) с моей дочерью такое несчастье случилось... Тьфу-тьфу-тьфу!.. Я бы такого подонка так отделал, что и суд не понадобился бы. Зачем позор огласке предавать? Но зато виновник всю оставшуюся жизнь работал бы на свои лекарства. И больше он никогда бы не захотел насильничать сам и другим заказал. А то вот этот балбес отсидит, придет, да еще кого-нибудь изнасилует. Тюрьма не лечит, а калечит.
— Это мы б еще посмотрели: кто кого бы отделал! Я что, твою дочь изнасиловал? Чего ерепенишься? Лежи и помалкивай,— задыхаясь от злости, пробормотал Ингвар.
— За дочь и жизни не жалко. А когда ты прав, то вдвойне сильнее становишься, и ничто не остановит человека, отстаивающего свою честь, гордость или защищающего своих детей. Вот в войну отцы и матери детей от пуль собой заслоняли. А ты еще петушиться вздумал! Может, для тебя и хорошо, что в тюрьму посадили, а то еще неизвестно, как ее отец и родственники обошлись бы с тобой. Может, уже трупом где-нибудь лежал бы. Что, нет таких примеров? — возмущался я.— Да таких кастрировать надо! Только варвары и маньяки насилуют женщин. В каждом государстве честь и достоинство женщины охраняется законом.
— Я бы тоже за свою доченьку постоял. Не пожалел бы себя,— подхватил Сабитов.
Ингвар молчал. Спорить с двумя воинственно настроенными отцами он не решился и постарался перевести разговор на другую тему:
— В училище у меня переполох, такое пятно на группу. И еще один парень из нашей группы залетел в тюрьму. Несколько квартир обчистил да грабанул женщину. Теперь где-то здесь сидит. Осудили уже: три года общего режима. Говорят, выездной суд был прямо в училище. Неприятно перед знакомыми и друзьями сидеть и краснеть. Хорошо, что у нас закрытый суд. Дела об изнасиловании всегда на закрытых заседаниях рассматривают. Не хотят огласки...
— А как ты учился? — поинтересовался я.
— Как и все: с тройки на двойку. Училище механизации сельского хозяйства. Чтобы научиться ездить на тракторе, особых знаний не надо...
— А занятия пропускал?
— Еще как — неделями не ходил. И не я один. Многие. Погоняют, покричат, тогда снова идем. А если скажешь, что учиться не хочется, начинают уговаривать, убеждать, что надо стране и прочее. Насильно выдают свидетельства — ив колхоз. Там ребята до армии болтаются. А отслужив, только на выходные приезжают... Ты вот все знаешь, а скажи, откуда берутся пьяные ежи ки? — неожиданно спросил Ингвар.
— У тебя что? С головой не в порядке? — поинтересовался я.
— У меня-то все нормально. А ты все-таки ответь: откуда берутся пьяные ежики?
Я понял, что дальше говорить бесполезно. «Видно, заклинило»,— мелькнула все объясняющая мысль...
Дирванс Ингвар с каждым днем становился все более антипатичным. Держался очень развязно, постоянно, почти через каждое слово, употреблял нецензурные выражения. Довольно часто повторял один и тот же дурацкий вопрос о ежике. Но на крайнее обострение не шел. Спал мало. В свободное время много двигался, иногда чертил что-то карандашом, говорил что-то бессвязное. Несколько раз я замечал, как юноша плакал.
С появлением Дирванса в камере стало жить тяжелее: опять не хватало воздуха, появилось больше резких, неприятных запахов. А мне стало в этих стенах еще постылее и горше. Ингвар был человеком с явно ограниченным интеллектом. Толкового от него ничего нельзя было услышать. Я все больше и больше замыкался в себе: не с кем было поделиться своими проблемами, некому высказать сомнения. Смертельная тоска и душевная боль увеличивались, несомненно, и от того, что сокамерники постоянно говорили между собой на латышском языке. Рядом со мной были люди и в то же время их не было. Я не понимал их, а они меня. Возникла явная психологическая несовместимость. Этого и следовало ожидать. Несколько лет, не жалея себя, я боролся с преступниками. Работа настолько вошла в мою плоть и кровь, что перебороть чувства отвращения и брезгливости к насильникам, убийцам, спекулянтам, ворам и прочей нечисти я не мог. Единственное, на что хватало у меня терпения — это скрывать свои чувства. Иногда получались срывы, а они незамедлительно сказывались на внутрикамерных отношениях. Появились трения, разногласия. Для сокамерников я был чужим, каким-то странным пришельцем не из их мира. Я знал о них многое, они обо мне — почти ничего. Это, естественно, их бесило, но заставить меня рассказать о себе они не могли, как не могли повлиять на мои убеждения, мысли. В спорах я часто загонял их в тупик, ставил в неловкое положение. Но их очень радовало то, что я не знаю латышского языка, и они могут говорить обо мне любые гадости.
Я стал проситься к начальству на прием по личному вопросу. Вскоре меня вызвал к себе оперативный работник, обслуживающий нашу 208-ю камеру. Молодой, приятной внешности старший лейтенант, любезно улыбаясь, пригласил меня сесть. Пытливо и спокойно осмотрев меня, он задал традиционный вопрос:
— Что вас привело ко мне?
— Плохие условия содержания. Камера, где я нахожусь, одна из самых худших: сырость, отсутствие вентиляции, дневного света. Кроме того, весьма пестрый контингент сокамерников подрывает мое пошатнувшееся здоровье и мои нервы. Я чувствую себя больным не только физически, но становлюсь все более несдержанным, психически неуравновешенным. И это естественно: бытие давит на сознание,— начал я, но оперативник перебил меня:
— То, что вы грамотный, умеете хорошо говорить, я уже наслышан. Знаю, кем вы работали. Но здесь хозяева мы, и нам решать, куда и с кем вас помещать. Сожалею, но ничем помочь не могу.
— Скажите тогда, кто у вас ведает вопросами режима содержания? Кто вправе переселить меня из одной камеры в другую?
— Вас? Вы состоите на особом учете и поэтому — только один из замов начальника.
— Спасибо! Тогда зачем нам тратить время попусту? Зачем вы меня принимаете, если бессильны разрешать мои вопросы? Не странно ли? Я записывался на прием к начальнику учреждения, а вместо него принимаете вы, не имея необходимых прав и полномочий!
На это старший лейтенант безапелляционно заметил:
— Незачем вам вообще записываться и отрывать людей от работы. Ваши хождения бесполезны. Никто не пойдет вам навстречу и не улучшит условия. Мой вам совет: сидите и помалкивайте. Ждите своей участи.
— Вот как! А я, наивный, полагал, что начальство на то и существует, чтобы решать наболевшие вопросы, осуществлять прием заключенных, выслушивать их просьбы, жалобы, заявления. Оказывается, я глубоко заблуждался. Ну что ж, попытаюсь добиться истины другим способом. А пока — благодарю за информацию,— я наклонил голову: — Честь имею! — Такой оборот очевидно ошеломил опера. Некоторое время он молча жег меня ненавидящим взглядом. Я же, будто ничего не заметив, потребовал:
— Разрешите идти? Прикажите, чтобы меня увели!
Наконец работник СИЗО не выдержал:
— Подождите. Я доложу о вас руководству,— и, как ошпаренный, выскочил из кабинета. Но скоро возвратился и сообщил, что начальство занято и принять не может.
Меня вернули в камеру. Три пары разных глаз настороженно и подозрительно смотрели на меня.
— О чем это ты говорил с начальством?
— О том, как бы отсюда уйти. Хотя бы немного чистого воздуха.
— Ха-ха-ха. Ишь чего захотел? Да кто тебя будет слушать? Ты что, знаменитый ученый или государственный деятель? Сиди и помалкивай, а то они обозлятся и еще хуже тебе устроят. Могут в «трюм» запереть или в такую камеру сунут, где садисты и психи сидят. Там сполна узнаешь, что такое тюрьма.
— Я и здесь вижу, что такое тюрьма и какие в ней люди,— проворчал я, залезая на свою койку. Повернулся к стене и задумался. «Когда же тьме на смену вернется день и дым растает постепенно»,— вертелись на языке чьи-то слова. «Скорей бы все это кончилось. Только бы дождаться суда. Сколько ж они будут тянуть до назначения дела к слушанию? Когда вышлют обвинительное заключение? Но все равно надо держаться, терпеть, не давать воли страстям. А если будешь конфликтовать, администрации это только на руку, повод, чтобы раздуть пожар, создать о тебе превратное мнение. Но пассивное ожидание тоже ничего не даст. Надо дозволенными методами добиваться приема у высокого начальства, продолжать писать заявления, жалобы». Такие мысли не давали уснуть, и в эту ночь я долго ворочался на жесткой тюремной койке...
Заявления на имя начальника с просьбой принять по личному вопросу с этих пор я стал писать ежедневно. Написал одновременно и заявление надзирающему прокурору с аналогичной просьбой, три жалобы Генерально- му прокурору на условия содержания. Настойчиво добивался законодательных разъяснений о порядке содержания в местах заключения работников правоохранительных органов.
Однажды перед отбоем я лежал на койке и читал книгу, тройка соседей шлепала костяшками домино по- столу. После отбоя доминошники хотя и улеглись на койки, но продолжали возбужденно орать о чем-то по- латышски. Я еще больше часа читал, потом, когда глаза устали до боли, попробовал уснуть. Но ничего из этого не получалось. Сокамерники продолжали галдеть и хохотать во все горло. В конце концов я не выдержал и попросил:
— Мужики, пора спать. Уже давно был отбой, а вы гогочете во всю мощь. Если не спится, то хоть бы потише разговаривали.
— Ты нам не указывай, когда и как разговаривать. Сами разберемся.
— Командир нашелся! Видали мы таких умников. Не нравится — уходи.
— Сопи тихонько в две дырки. Мы здесь хозяева!
Что оставалось делать? Не драться же с наглецами?
Стиснув зубы, я повернулся к стене и стал мысленно считать, внушая себе, что необходимо спать. Но как только я задремал, койка задрожала и заходила ходуном от каких-то мощных ударов. Сон как рукой сняло. Я взглянул вниз и увидел, что Альфонс, лежа на спине, колотит ногой по сетке моей кровати и рычит: «дыр-дыр- дыр...», имитируя звук мотоцикла. Наклонившись, охваченный гневом, я выбросил руку и смазал ладонью по носу этому идиоту. Это его сразу отрезвило. Он затих и испуганно заморгал глазами. Увидев это, второй уголовник, Коротыш, вскочил и подбежал к моей койке:
— Ты что? Совсем обнаглел? Давно получал, что ли? — Маленький, в трусах и майке, он чем-то напомнил мне карикатуру на Наполеона перед битвой.
— Пусть думает, что делает. Хорошо, что я достал только до носа. А то мог бы и «фару» поставить!
— Да мы из тебя котлету сделаем. Делец нашелся! Здесь Латвия, а не Москва. Мы — хозяева. Прибьем и изнасилуем — не пикнешь! Да мы...
— Поцелуй ты меня в одно место,— еще более обозлившись, хрипло посоветовал я.
Коротыш забегал по камере, сел на койку, снова вскочил. Вид у него был жалкий. Он явно ждал поддержки сокамерников, а те настороженно молчали. Не зная, что предпринять, охваченный злостью, он косился на меня.
— Успокойся, карандаш! От горшка три вершка, а прыгаешь больше всех. Ложись спать. Тебя никто не трогает. А он получил за дело: вздумал надо мной издеваться...
Назавтра после обеда меня вызвали к руководству.
На этот раз я попал к заместителю начальника учреждения. В светлом кабинете за большим столом, заваленным бумагами и заставленным телефонными аппаратами, сидел и читал какую-то бумагу майор. На вид ему было лет сорок. Не отрываясь от чтения, он указал мне рукой на стул. Звонили телефоны, на настольном пульте мигали лампочки. Майор прерывал чтение, деловито и кратко отвечал звонившим, время от времени внимательно посматривая на меня. Наконец он подписал письмо, положил его в папку, поднял голову и, глядя мне в глаза, негромко произнес:
— Тяжело сидеть? Понимаю...
Сочувствия я не ожидал и весь сжался, ожидая, какой поворот примет дальнейший разговор. Но майор молчал, ожидая, очевидно, что на этот раз скажу я.
— Спасибо! Да, очень тяжело. Кошмарно устал. Издергался, нервы на пределе. Жду третий месяц суда, а сижу — скоро год будет. Здоровье сдает. Условия кошмарные. С сокамерниками уже стал конфликтовать. Не привык я к такой публике: всю жизнь боролся с преступниками, а теперь нахожусь с ними день и ночь бок о бок, в одинаковой шкуре,— говорил я сбивчиво, волнение перехватывало горло.
Но работник учреждения, не дослушав, перебил:
— Понимаю. Сочувствую. Но что от меня зависит? Я же вас не арестовывал? Вы вот говорите, что невиновны, а следователь доказывает обратное. Я вам не судья. Но как человек, как в некоторой степени коллега, как- никак почти одному Богу служили, не завидую вашему тяжелому положению и даже, может, в некоторой степени солидарен с вами. У нас почему-то так заведено, если свой работник ошибется, попадет под подозрение, так ему уже никакой веры нет, и вешают все, что можно и чего нельзя. Не жалеем друг друга, никакой солидарности. А здесь разбираться надо особенно тщательно. Ведь от ошибок никто не застрахован. И юристы в том числе...
— Спасибо! Вы первый, кто ко мне отнесся сочувственно. Все только орут, утверждая, что я такой же, мол, преступник, как все, и обращаются со мной так же, как со всеми преступниками. А на самом деле, разве я хотел невиновного засадить в тюрьму? Это же было первое дело в моей практике. Старался, как умел. Рядом опытные следственные работники были, но ода тоже не разобрались. А куда уж мне с ними тягаться? Конечно, виноват прежде всего сам: возомнил, что мне все под силу, не всегда вдумчиво и внимательно относился к показаниям арестованного. Но кто мог представить, что молодой крепкий парень будет стучать себя в грудь, убеждая меня, что он убийца? Да не только меня. Десяткам лиц, молодым и старым работникам, твердил, что он убивал. И даже родному отцу при свидании сказал об этом. А теперь нашли крайнего — следователя — и за решетку его. Бандит, унижал человеческое достоинство гражданина, глумился и все в таком духе. А что это за арестованный, что он собой представляет — на это ноль внимания. Исходят из факта, что невиновный привлечен к уголовной ответственности за тяжкое преступление. А разобраться, как это случилось, почему, оказалось никому не под силу. Собрали, казалось бы, мощную, маститую группу на уровне Прокуратуры СССР, работали два года и «накудесничали»: невиновных арестовали и отчитались перед партийными, советскими органами. Справедливость, мол, восторжествовала...
Видя сочувственное отношение заместителя начальника изолятора, я спешил поскорее выплеснуть все наболевшее на душе. Но понимая, что времени у моего слушателя мало, к тому же его постоянно отвлекал телефон, я постарался сократить свой монолог до минимума.
— Не надо отчаиваться! Надо взять себя в руки. Может, суд разберется. Ошибки не исключены на любом уровне. Живите с надеждой на лучшее. И не раскисайте! — стараясь подбодрить меня, сказал майор.
— Железо и то ржавеет. Побывав в моем положении, любой бы, наверное, раскис. Сколько несправедливости, унижений и оскорблений пришлось пережить за этот год! И бесполезно бороться, доказывать. Никто тебя не слушает, не понимает. Вот и сдают нервы!
— В любом случае, надо держать себя в руках. У меня есть две ваши жалобы. Одна — в Президиум Верховного Совета СССР, вторая — Генеральному прокурору, где вы жалуетесь на условия содержания, на незаконность вашего привлечения и так далее. Мы их можем отослать по адресу, но есть ли в этом смысл? Я вам обещаю улучшить условия, перевести в камеру к несовершеннолетним, в большую, светлую. Там есть один инструктор, условия содержания хорошие. Жалобы ваши теряют всякий смысл.
— Одно другому не мешает. Вы меня, пожалуйста, переведите, а жалобы отправьте по адресам,— волнуясь, но настойчиво попросил я.
Заместитель начальника СИЗО нажал кнопку и попросил по селектору, чтобы к нему в кабинет прислали работника, обслуживающего участок несовершеннолетних. Вскоре в дверях показался знакомый мне краснощекий майор. Лицо его, как всегда, было чисто выбрито и лоснилось. Не поздоровавшись со мной, краснощекий важно опустился на стул.
— Чего он хочет? — равнодушно-презрительно кивнул он в мою сторону.
— Жалуется на плохие условия содержания. Надо перевести его в хорошую камеру, к несовершеннолетним, где много воздуха и света, а то он совсем раскис. Лицо позеленело и круги под глазами. Устал, видно, парень совсем.
— Не на курорт попал! Здесь любой позеленеет. Тюрьма! А в его положении? Когда-то он командовал, ему подчинялись... Сам Бог велел ему переживать. Да еще неизвестно, чем дело у него кончится. Как дадут лет шесть-восемь, так вообще зверем завоет. Сидел бы тихонько да помалкивал. Ладить надо, а он нахрапом хочет завоевать себе льготы и свободу. Это ему не дома. Время ушло.
— Ладно, не будем ссориться,— перебил краснощекого моралиста владелец кабинета.— Надо мирно решать наболевшие проблемы. Он тоже человек и не глупее нас с тобой. У него случилось несчастье, и надо ему помочь в пределах закона. К тому же он нам почти коллега. Лучше подумай, в какую камеру его перевести, где бы поспокойнее было.
— Его к несовершеннолетним нежелательно помещать. Начнет и там свои порядки устанавливать. К тому же необходима санкция прокурора, а без нее я отказываюсь его помещать к малолеткам.
— Брось глупости говорить! Спекулянтам, ворам, взяточникам можно сидеть с несовершеннолетними, а бывшему прокурорскому работнику нельзя. В какую камеру его поместим? — настаивал заместитель начальника.
Я не выдержал и, извинившись, вмешался в разговор:
— Не понимаю я вас, гражданин майор. Стараюсь, но не могу. Я сижу не за корыстные преступления, не за бандитизм. Десять лет состоял в партии, четыре года занимался проблемами воспитания несовершеннолетних в районе; в Минске находился с ними восемь месяцев в камере и не имел ни одного замечания; камера была одной из лучших. А вы высказываете недоверие? Меня это очень задевает. Так же нельзя! Воры, взяточники, хулиганы сидят с несовершеннолетними, а бывшему работнику правоохранительных органов, допустившему из-за недостаточного опыта и квалификации юридическую ошибку, находиться с ними нельзя? Абсурд да и только! И какая еще нужна санкция? Ведь я же сидел две недели с несовершеннолетними и здесь. Потом, по вашему указанию, меня перевели, что было сделано без санкции прокурора, между прочим...
— Хватит,— остановил меня заместитель начальника учреждения.— Я же сказал: не надо ссориться. Вы пойдете к несовершеннолетним. Вопрос решен. Только вот в какую камеру вас определить? Куда бы его получше устроить? — обратился он снова к краснощекому.
— Видите, как он разговаривает со мной. Не забывает старого. Он все еще не считает себя арестованным. Может, ему надо напомнить об этом,— с угрозой продолжал лощеный майор. Я молчал, прекрасно понимая, что я арестованный и не мне тягаться в упрямстве с работником учреждения, занимающим должность начальника участка. В кабинете на некоторое время установилась тишина, в которой слышно было, как настойчиво билась о стекло и монотонно жужжала муха, пытаясь улететь на свежий воздух, на свободу. Она скользила по стеклу, взлетала и снова билась о него. Но ее усилия были напрасны и тщетны. Таким было и мое положение.
Наконец лощеный майор слащаво-приторно предложил:
— Думаю, можно поместить его в 139-ю камеру. Там 12 несовершеннолетних, а инстэуктор скоро на суд уезжает.
— А почему нельзя в 140-ю? Эта камера побольше размером, посветлее, солнечная сторона. Есть где размяться, а то сутками без движения.
— Вам виднее. Разрешите идти? — спросил майор, выражая всем видом недовольство.
— Идите! — сухо ответил заместитель начальника.
Когда дверь захлопнулась, я сказал:
— Спасибо вам за человечность. Вижу, тяжело вам бороться с бюрократами. А вы, я слышал, человек новый, хотите навести порядок. А здесь стремятся жить по старинке, ничего не делать, а зарплату сполна получать, быть сытыми и довольными.
— Конечно, нелегко. Вон одной только переписки сколько на столе! Дел невпроворот, с утра до ночи, как заводной. А тут еще на сессию надо ехать, заочно учусь на юридическом. Фактически я к ней не готов. Все время работа отнимает. ЧП за ЧП — только разбирайся,— тяжело вздохнул хозяин кабинета и дружелюбно добавил:
— Пойдете в 140-ю камеру. Там вам будет хорошо. После 208-й санаторием покажется. А как мы решим с вашими жалобами? Может, повременим пока с отправкой?
Я не выдержал:
— Ладно, договорились. Вы мне пошли навстречу. Мой самый больной вопрос разрешен. Не отправляйте пока. А там видно будет.
— На том и порешили. Если какие вопросы будут возникать — сразу записывайтесь ко мне. Фамилия моя Воронцов, я заместитель начальника по оперативной работе. До свидания.
— До свидания.— Я встал, не зная, что делать дальше.
Поняв мою растерянность, майор разъяснил:
— Идите. Там за дверью работница стоит. Скажите, чтобы она отвела вас в бокс, а потом зашла ко мне.
— Еще раз спасибо, что отнеслись ко мне по-человечески,— сказал я взволнованно и вышел из кабинета.
В тот же день в камеру пришел старшина и приказал мне собираться с вещами. Сборы были недолги. Попрощавшись с сокамерниками, я сдал постельные принадлежности на склад и поднялся на третий этаж первого корпуса. В камере № 140 я провел наиболее спокойные, если это можно сказать о тюремном быте, дни в Рижском централе. Но кому-то это показалось излишеством, и вот вновь команда собирать пожитки. Неужели опять к взрослым, к рецидивистам?
НА ОБОЧИНЕ
Когда я очутился в уже знакомом подвале, где получил постельные принадлежности, сомнения рассеялись: меня переводят в камеру ко взрослым. Неясным оставалось только одно: в какую и к каким. Но когда корпусной подвел к знакомой камере № 208, я от растерянности не сообразил, что предпринять и покорно вошле в открывшуюся дверь.
И задохнулся от зловония, оглушенный и парализованный темнотой, серостью и сыростью пещерного помещения. Громким дружным хохотом встретили мое появление сокамерники. Все лица тут хотя и были мне знакомы, но в этот момент показались ехидными, зловредными рожами. Отчаянным усилием воли я поборол в себе острое желание броситься к затворившейся металлической двери и стучать, кричать от негодования и возмущения, требовать справедливости. На душе было гадко и мучительно. Мое тихое приветствие прозвучало мрачно:
— Привет, мужики. Снова засунули в этот проклятый склеп. Воевал, воевал, а все напрасно. Ну что ж, начнем все сначала,— безнадежно закончил я.
Услышал в ответ:
— Ишь ты, пуп земли нашелся! Кто тебя теперь слушать будет? Хорошо, что еще так обошлось, а то в «трюм» могли закинуть. Придется тебе смириться и нашу вонь нюхать. Против власти не попрешь. Ха-ха-ха!
— Не из тех я, кто мирится со скотским положением. Буду продолжать борьбу. Только раки пятятся назад.
— Ну и трать свои нервы и здоровье, борец за права человека. Комик ты,— проговорил Коротыш, хотя сам и ростом, и манерами больше напоминал циркового клоуна.
— Поживем — увидим. Где здесь свободная койка?
— На третий ярус залезай. Сейчас там твое место. Остальные уже заняты,— деловито объяснил Сабитов.
Бегло осмотрев койки, я убедился, что действительно свободен только третий ярус. Забросил туда свои постельные принадлежности, а потом полез и сам.
Наверху воздух был еще более противным, спертым и вонючим, чем внизу. В этой газовой смеси было все, кроме кислорода. До электрической лампочки я теперь при же- чании мог дотронуться рукой, а головой упереться в заплесневелый, мокрый и грязный потолок. Как обычно в камере стояла сплошная завеса табачного дыма. Снова нахлынуло отчаяние и безысходность. «...Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так,— исхода нет»,— вспомнились вдруг строчки Блока. Вновь я почувствовал себя никому не нужным, забытым и заброшенным. К глазам подступали слезы. Тоскливой, серой и никому не нужной казалась жизнь. И не было никакой надежды на просветление.
Когда я уходил, в камере оставалось трое, теперь с этапа вернулся Мужниекс. Он лежал подо мной на втором ярусе и периодически кашлял, харкал, стонал, вздыхал... На прогулке он подошел ко мне и снова стал жаловаться не свою тяжелую судьбу, проклиная грязными ругательствами всех, по его мнению, повинных в его несчастье. Особенно злобно бичевал он свою бывшую любовницу, некую Велгу; с нее-то и начались все неудачи, приведшие его к падению.
— Знаешь, какая это стерва? Из-за нее чуть вторично не разошелся. Скотина, вафлистка проклятая... Красивая на лицо и фигура на 100 баллов, с головой, вроде, все в порядке, но хитрая и жадная — только одно у нее на уме: как бы с кого выкачать побольше денег и развести с женой. Чего она только не делала! Сама боялась к моей жене открыто подкатывать, так подружку подсылала, чтобы та наговорила, что я гулящий, деньги трачу на проституток. Дома скандал за скандалом. Долго не мог разобраться, от кого все это идет. Заставил жену признаться, кто ей такую информацию дает. Не хотела она вначале говорить, но побил по пьянке — рассказала. Поехал для разбора. Раз приехал — дома нет. Брат сказал, что она редко дома ночует, все больше по подружкам, да с мужиками гуляет. Спрашиваю, сколько же ей лет. Да двадцать только, отвечает. Скурвилась баба совсем. Ну, думаю, встречу, отдеру как Сидорову козу. Выловил наконец. Идет домой, песенку под нос мурлычет. Я ей навстречу. Сразу узнал по описанию жены и брата. «Привет! — ласково так молвлю.— Где же ты так долго гуляла? Караулю несколько дней, поговорить надо. Но здесь место неподходящее. Поедем за город». Согласилась, поехали. Баба с виду ничего: молодая, в теле, и морда смазливая.
По дороге бутылку водки захватил, закусочки. Подумал, что под градусом легче разбираться. Приехали, костерчик развели, закурили. Откупорили бутылочку. Она стаканчик, я стаканчик. Мне стаканчик, как рюмку, но голодный был (с работы к ней заехал), так немного развезло. А ее здорово — язык заплетается. Смотрю — потягивается сладко. Решил я сначала ее трахнуть. Пододвинулся к ней, на траву положил. Не сопротивляется. Раздел, куртку подложил... Когда лежал на ней, вижу — в ушах серьги золотые, на пальце — кольцо с камнем. Встали мы. Я давай ей допрос учинять: так, мол, и так, почему моей жене доносишь, кляузничаешь? Поняла она, что дело худо, вскочила и бежать. Да где ей от меня удрать. Догнал, за волосы схватил да об землю. Ногу на горло поставил, говорю: «Рассказывай, зачем сплетничала, а то задавлю». Смотрит на меня испуганными глазенками, плачет. Просит не убивать. Все, мол, отдам, только чтобы не трогал. Говорю: снимай золото. Сняла, отдала. Я в карман положил и за свое: «Зачем в мою семью лезла?» Вот она сквозь слезы, задыхаясь, рассказала, что дружит с моей любовницей Велгой, а та хочет, чтобы я на ней женился, потому и подсылала к жене. Я, наверно, сильно передавил ей горло ногой. Она вдруг захрипела, посинела и вырубилась. Еле откачал. Очухалась. Я еще врезал несколько раз, старался только, чтобы не было синяков, и отпустил. Предупредил, чтобы молчала. Ни ментам, ни подруге, ни друзьям. Даже, мол, если меня посадят, то дружкам накажу — прибьют.
Потом стал думать, что делать с Велгой. Нравится она мне, приятная в постели, но развратница и стерва приличная. Часто брал я ее к себе в кабину и возил в дальние рейсы. Веселей в дороге... Вот и в тот раз в рейс на Одессу ехать надо было. Позвонил ей, предлагаю прокатиться. Поломалась для приличия, но согласилась, когда пообещал «кварт» бросить на колечко. А сам думаю: дорогой я с тобой рассчитаюсь. Век будешь помнить. Договорились, что она подсядет ко мне в кабину в таком месте, чтоб никто не видел. Ну, подобрал я ее... Поехали. Едем, болтаем о том, о сем. Вечереет. Выбрал я у дороги в лесу стоянку. За рулем не пью, но тут не выдержал, стаканчик чернил пропустил. За ночь выветрится. Побродили малость по лесу — стемнело, полезли в кабину. Приемник включил и давай любовью заниматься; она по этой части большой спец. Все соки из меня выжимала; проститутка высшего разряда. Как закрою глаза, так и вижу ее перед собой: полненькая, гладкая, страстная, здоровьем пышущая. Да. Очухался я от любовного угара и говорю: «Пойдем по лесу погуляем». Посоветовал ей все золото с себя снять и в машине оставить вместе с сумочкой, чтобы в лесу не потерялось. Серьги, перстни, цепочку. Она, пьяная дура, согласилась. Не поняла, что я задумал. Видать, ничего не знала про мой разговор с подругой и что мне известны все ее фокусы. Зашли в глубь леса. Ну, говорю, теперь прощайся с жизнью, настала пора подохнуть тебе, как полагается стерве. Она не поняла, смеется. Брось, говорит, Дайнис, дурака валять. Обними меня лучше покрепче, а то что-то прохладно стало... Ну я ей и врезал кулаком по голове со всего размаха. Сразу осунулась, на траву шлепнулась. Через некоторое время очухалась. Плакать начала: «Я из-за тебя всех друзей, знакомых растеряла, езжу вот, грязная, по дорогам в машине, как беспризорная». Я ей еще раз съездил по морде. Кровью залилась. И вдруг вскочила и на меня, стерва, кошкой бросилась. Давай за лицо царапать, кусаться. Чуть глаз не вырвала. За палец укусила; хорошо, что вырвать успел, откусила бы, зараза. Как свою кровь увидел, взбесился. Бил ее куда и как попадет... Опомнился, когда она пластом лежала на земле. Наклонился: дышит, хрипит, бормочет что-то. Под деревом бутылка какая-то валялась. Так очухалась маленько, приказал ей раздеваться. Как только разделась, тут я ей бутылку между ног и загнал. Больше гулять не захочешь. А то со мной в машине ездишь, а других к себе водишь. Орала она, как дикий зверь, так я ей рот платком заткнул. Очухаешься, говорю, езжай домой. И чтобы никому ни слова. Поняла? Мотает в знак согласия головой. Боялась, видимо, чтобы вообще жизни не порешил, знала, что я уже судимый. И кореши мои не подарок. Пришить любого могут. Пошел я к машине, километров 100 отъехал, остановился, выспался и дальше в рейс.— Рассказчик глубоко вздохнул, сплюнул на пол, задумался. Мне показалось, что по его лицу промелькнули отсветы жестокости и страха одновременно.
— Ну, и что же было дальше? — прервал я молчание.
— Дальше... Вылезла она, стерва проклятая, из лесу, добралась до ближней деревни. Там заявила, что на нее напали бандиты, ограбили, избили. Вызвали милицию. Ее увезли в районный центр, положили в больницу. Провалялась она там около месяца. Операцию сделали в...
сшивали что-то. Разорвал я ей бутылкой там все, видно, крепко. Мусора возле нее дежурили. Хотели словить, кто к ней на свиданку придет. А кто из ее знакомых знал, где она обитает? Проститутки, они сутками, неделями где попало болтаются. Покрутили тут ее, покрутили, но не рассказала она обо мне ничего. Тогда давай устанавливать ее знакомых в Риге. Нашли подругу, пару фраеров, но никто ничего не знает. Наконец, через одну дуру вышли на меня. Велга как-то ей рассказывала, что со мной на машине не раз в поездках была. Подняли мои путевые листы, маршрут совпал. Трасса — на Одессу, недалеко от нее и было совершено нападение. Приехали ко мне домой и забрали. Крутили-вертели — не признаюсь. Говорю, совпадение, не ездила она со мной. Уверен был, что никто не видел. В машине следов тоже никаких, тщательно кабину перетряс, вымыл, чтобы ни волосинки, не шерстинки не осталось. На трое суток задержали. Привели в отдел ее и взяли на пушку. Дескать, я во всем сознался, а ее за обман надо арестовывать. Мол, столько средств потрачено на отыскание несуществующих преступников. Ясное дело, баба есть баба. Расплакалась и давай рассказывать все, как было. Показали мне протокол ее допроса. Куда деваться? Сознался. Вот и заперли. А сейчас лет семь, а то и восьмерик отмерят. Дело закрыл. Суд скоро будет. Посоветуй, как выкрутиться. Остается видно одно — закосить, под дурака сыграть. Но как? Научи, парень ты, видать, битый. Все знаешь...
— Пойми правильно: поздно уже. Надо было раньше. У тебя была психиатрическая экспертиза, дали заключение, что ты здоров. И теперь никто тебе не поверит. Да к тому же сейчас такие аппараты, такие средства есть, что сразу определяют, больной ты или дурака валяешь. Бесполезно прикидываться. И не тешь себя иллюзиями. Попробовать можешь, конечно, но это напрасная трата времени. Лучше просись скорей на зону. Там легче жить, чем здесь, в вонище и без нормальной жратвы сидеть. Если год в этом смраде побудешь, то точно можно психически неполноценным стать.
— Да я дни считаю, чтобы быстрее из этого гадюшника вырваться. Все болит, задыхаюсь, воздуха не хватает. В других камерах получше с кислородом, но там — издевательства. Я же вначале в многоместную попал. Так меня там раздели, избили, парашником сделали, на коленках ползал. Еле вырвался.
— Посмотришь на тебя — как бык ты здоровый, а струсил...
— Я же говорил тебе, что толпа набросилась. Что сделаешь против нескольких человек? — с обидой ответил Мужниекс.
— Слушай, а подругу твоей любовницы не вменили тебе?
— «Повесили» и ее. С одной легче было бы справиться, а так две потерпевших. Обе бабы, хотя и проститутки, но женщины, слабый пол...
— А как на вторую вышли?
— Велга, когда меня арестовали, рассказала ей все, та и призналась, что я ее тоже ограбил и избил. Брат ее узнал, что я у нее золото забрал. Пошел в милицию и заявил. Так и раскрыли...— нецензурно ругаясь, пояснил сокамерник.
— Золото нашли? Обыск, наверное, делали?
— Два обыска было: в доме жены и у моей матери, в деревне. Ничего не нашли. Не дурак же я, чтобы золото дома хранить. Сбыл. Башли взял неплохие. А теперь отдавать придется.
— А какие статьи тебе вменяют?
— Вначале вменили грабеж и разбой, направили в суд, а судья вернул на доследование. Написал, что надо вменять грабеж и покушение на убийства. Верховный суд определил, что я совершил грабеж и нанес тяжкие телесные повреждения. Но следователь все равно оставил грабеж и покушение на убийства. Говорит, с большего на меньшее всегда перейти можно. А как будет на самом деле, кто его знает... Ты мне лучше посоветуй, как отвертеться?
— Ты же сам соображаешь, что влип крепко и надолго. И никто сейчас тебе не поможет. Все зафиксировано. Дело уже в суде изучалось. Остается только ждать участи, приговора.
— Да... Влип я надежно. Это точно. Не отвертеться. Места себе не нахожу. Столько лет придется пахать задаром, за здорово живешь. И все за каких-то проституток...— опять последовала отборная нецензурная брань.
— А как жена на все это смотрит?
— Жена? Кто ее знает? Был у следователя сейчас, тоже ничего не сказал о ней. Не пришла даже. Видимо, бросит. Не было бы у меня с ней ребенка, то пошла бы она... А так ребенка жалко.
— У тебя же не один? Второй есть, от первой жены?
— Про того я уже почти забыл. Жалко, но не так.
Не вижу, не знаю и как будто его нет. А этого недавно на руках держал. Помнится...
Предшествующий моему уходу из камеры скандал ее обитатели не забыли и, видимо, обо всем рассказали Мужниексу. А тот был очень огорчен результатом разговора со мной на прогулке. Он ожидал толкового, дельного совета; не получив его, обозлился, думая, очевидно, что я просто не хочу ему помочь. Сложилась ситуация, когда четверо сокамерников были недовольны мной. Но открыто выяснять отношения никто из них не решался, опасаясь потасовки, которая могла окончиться неизвестно чем. Поэтому четверо решили не замечать меня, бойкотировать, общаясь между собой только на латышском языке.
В день я мог услышать несколько русских фраз лишь в том случае, если настойчиво спрашивал о чем-либо. В остальное время я вынужден был слушать непонятные мне беседы сокамерников. Унижаться, кланяться, поддакивать и соглашаться было не в моих жизненных принципах. Но не худа без добра. Я теперь мог много читать, размышлять, составлять наброски жалоб, готовиться к судебному заседанию. С нетерпением ждал, когда же придет обвинительное заключение, когда же окончится этот долгий кошмарный сон. Я был уверен, что рано или поздно, несмотря ни на что, я покину эту ненавистную, удушливую и сырую клетку, потому что я не просто ждал такого часа, но торопил и приближал его. Ежедневно писал заявления и жалобы, добивался приема у начальства, жаловался во все инстанции на нечеловеческие условия содержания. Но пока все было безрезультатно. Никто меня не принимал, ответов на жалобы не поступало. Постепенно истощались силы, терпение, здоровье. Участившиеся боли желудка, сердца, головокружение прибавляли к нравственным страданиям физические. Только за полночь я успокаивался и засыпал тревожным сном. С надеждой, что завтра моя жизнь переменится...
А пока... В камеру из больницы возвратился Томсон. Он чуть посвежел, пополнел. Настроение его, как и самочувствие, улучшились. Его появление обрадовало меня — Юрис интеллектом и развитием выделялся среди остальных сокамерников и охотно вел со мной разговоры. Но появился еще один поглотитель скудного кислорода, к тому же — заядлый курильщик. Он и Мужниекс смолили сигареты-самокрутки одну за другой. Из-за дымовой завесы в камере порой не видно было лиц. Но при всем при • этом возможность общения на родном языке доставляла мне истинное удовольствие. А Томсон говорил по-русски. Из больницы он принес ряд свежих тюремных новостей.
Запомнились две характерных для такого учреждения, где царили беззаконие и беспорядок, истории.
Первая — о неудавшемся побеге с человеческими жертвами. Как-то вечером двое арестованных, выходя на прогулку, силой заставили женщину-контролера, сопровождавшую их, открыть ключом дверь дворика и вывести их к тюремному ограждению. Прихватив ее, они пытались преодолеть бетонное ограждение с колючей проволокой поверху. Их заметил с караульной вышки солдат-охранник и, несмотря на то, что с преступниками была женщина, на которую они делали ставку, наивно полагая, что в нее стрелять не будут, открыл огонь из автомата и убил женщину, а одного преступника ранил. Двух беглецов задержали, но женщину не воскресишь...
Вторая история была менее трагичной. Обитатели одной многоместной камеры, недовольные беспорядками, неоднократно писали жалобы и заявления, требуя встречи с прокурором. Но им в этом постоянно отказывали. Выведенные из терпения арестованные заманили в камеру женщину-контролера и забаррикадировались. На требование открыть дверь и выдать работницу изолятора ответили отказом, выдвинув условие: «Пусть придет прокурор». Администрации пришлось применить оружие, чтобы ворваться в камеру. К счастью, при штурме никто не пострадал. Женщина же была настолько перепугана всем этим, что пролежала несколько дней в больнице. Сейчас шел разбор этих происшествий.
Томсон занял свою прежнюю кровать. Сабитов беспрекословно уступил ему место и молча полез со своей постелью на третий ярус. Теперь в камере был полный комплект — шесть человек, по количеству спальных мест. В камере повернуться было негде. Если все сразу вставали, то можно было стоять, лишь прижавшись друг к другу. Вонь от потных и грязных тел, наглое бесстыдное выделение газов и других нечистот, плесень, сырость, сплошной столб дыма делали условия пребывания невыносимыми. Но, говорят, где ржавеет железо, животное издыхает, насекомое погибает, там человек выживает. Здесь были созданы самые экстремальные условия на выживание. Томсон как-то привел историческую справку:
— Эта тюрьма построена еще при Екатерине II. Здесь содержали как уголовников, так и политических.
Тогда тюрьма была и исполнительной: во дворе расстреливали и вешали приговоренных к «вышке». Вот в таких 4 маленьких хатах тогда содержали по одному заключенному.
— Значит, не хватает мест, раз в эту душегубку стали толпой загонять? — спросил Сабитов.
— Трехъярусные койки установили здесь недавно, то ли в сталинские времена, то ли позже. А из одномесгок сделали шестиместные камеры. Однажды сюда, помню, девять человек заперли. Трое на полу спали, прижавшись друг к другу. А дышать вообще нечем было. Ночь переспали, в дверь ломиться начали. На следующий день увели двоих, позже третьего,— вспоминал Томсом.
— Наверно, если бы на полу уместилось пять человек, то и пять бы вперли,— язвительно заметил Альфонс.—
От этих идиотов чего угодно можно ожидать. Камер свободных хватает, а они в одну битком набивают арестованных. Сидите, мол, задыхайтесь и подыхайте потихоньку, может, место другому быстрее освободится.
— Знаешь, почему это сделано? — тоном учителя спросил Мужниекс.
— Ну?
— Так им легче работать. Баланду раздавать проще, на прогулку меньше камер выводить и прочее.
— Интересно, а как раньше кормили? Такими же гнилыми продуктами или лучше? — спросил Дирванс.
— Смотря когда. В царские времена — кого как. Книги читаешь — богатые в тюрьме все имели. Они могли ежедневно получать передачи. Молоко, белый хлеб, кофе, мясо — все имели. А бедные на зэковском пайке обретались. А какой он — не знаю. Но нигде я не вычитал, чтобы тогда в тюрьме кто-нибудь с голоду умирал. В сталинские времена, говорят, жутко в тюрьме было. Пытали, камеры зимой не отапливали, голодом морили. Но насколько это верно? Говорят, невыносимые условия были.
— А сейчас разве лучше? Вот сидим все потные, без кислорода, задыхаемся. Все желтые и бледные. А пайка? Утром — вода с парой крупинок, да чайную ложку постного масла туда выливают, чтобы сверху круги жирные плавали, для отвода глаз. В обед — гнилая капуста да две гнилых вареных картофелины, мукой посыпанные, а вечером — уха из вонючей гнилой рыбы и то — кости да головы. В ухе этой полкартошки плавает да пять пшеничных круп. Да еще утром тебе отвалят кружку настоя из травы, чай, и граммов 10 сахара. От такой еды к вечеру
живот вздувается, а весь день кишки к спине прилипают. Не знаю как ты, Юрис, здесь год продержался и ноги не протянул,— непривычно долго и мрачно говорил Альфонс.
— Если бы не больничка, может, уже и протянул бы ноги, а так, что ни говори, два раза в год — на витаминных уколах, да доброй пайкой поддерживают здоровье. Вот за пятнадцать дней почти десять килограмм веса прибавил,— довольно похлопал себя по животу Томсон.— Отъелся.
— А что там из жратвы дают? — заинтересовался Дирванс.
— Утром — масло, белый хлеб с чаем, жирную кашу. В обед — суп гороховый с мясом или молочный, кашу с мясом, в основном, с тушенкой, стакан компота. Вечером — снова чай, белый хлеб, каша,— с удовольствием перечислял Томсон.
— Да, неплохо было бы попасть туда хоть на месяц, после нашей тощей кормежки,— размечтался Дирванс.
На следующий день Томсона вызвали к начальству. Вернувшись, он показал пять новых лезвий «Невы». На вопросы, где умудрился достать, загадочно ответил: «Крутиться надо». Он же сообщил, что мое заявление на имя заместителя начальника учреждения по оперативной работе Воронцова находится у старшего лейтенанта Кронберга. Он закреплен за нашей камерой. А майор Воронцов на экзаменационной сессии и вернется только на следующей неделе. Так что пока бессмысленно писать. Но несмотря на предупреждение сокамерника, я продолжал ежедневно писать заявления (просил принять по личному вопросу). И меня, в конце концов, был вынужден принять Кронберг. Не'приглашая сесть, он раздраженно спросил:
— Что вам еще надо? Постоянно пишете и пишете. Не надоело еще?
— Нет. Буду писать до тех пор, пока не создадите нормальные условия.
— У нас нет возможности переселить вас в другую камеру.
— Почему?
— Вы что, не знаете, что в них делается?
— Не все же камеры одинаковые. В одних — беспредел, издевательства, бардак, в других же — тишь и благодать. Многое зависит от арестованных, но главным образом от вас. Вы должны пресекать безобразия.
— Мы много чего должны. Но не вам указывать. Не забывайте, что вы — заключенный.
— Хотел бы забыть, да не могу. Скажите, а зачем меня из 140-й убрали? Там мне было хорошо. Тем более майор Воронцов пообещал мне улучшить условия и выполнил обещание. Но вдруг меня обратно кинули в склеп. Что он, не хозяин своего слова?
— Прокурор не дал санкции на содержание вас вместе с несовершеннолетними. А Воронцова сейчас нет, он на сессии. Когда приедет, идите к нему и разбирайтесь.
— А когда приедет?
— На следующей неделе. В понедельник должен выйти на работу.
— Так что же мне делать? Заживо закапываете меня в землю...
— Ничем не могу помочь, я человек маленький. Мне приказывают, исполняю. Сказали вас принять, я принял.
— Такое я уже слышал от вашего предшественника. Не пойму только одного: зачем вы меня принимаете, если ничего не можете разрешить? Ни прав у вас, ни полномочий.
— Прошу не вмешиваться в нашу работу.
— А я и не вмешиваюсь, просто высказываю свое мнение. Оно есть у каждого, и вы не в силах запретить его высказывать.
— Много будете болтать — в карцер попадете! У нас это запросто делается. Там вы на досуге и отшлифуете свое мнение. Натощак хорошо думается.
Сдерживая изо всех сил раздражение, я тихо и спокойно спросил:
— Откуда вам знать, как думается натощак. Вы же не голодали. И такую баланду, как я, не хлебаете.
— Хватит дискуссии здесь разводить! Надо было раньше свой ум показывать,— заорал ответственный за камеру, схватил трубку телефона и визгливо приказал: «Уведите арестованного!»
Камера встретила меня настороженными угрюмыми взглядами. Поинтересовавшись, кто меня принимал. Томсон положительно отозвался о Кронберге. Это меня не удивило. У разных людей мнения об одном и том же человеке могут не совпадать, а тем более мнения о начальстве. Оно тоже по-разному относится к разным людям.
На следующий день Сабитову на утренней поверке объявили, что может собираться с вещами. Радости его не было предела:
— Мужики, суд! Отмучился! Дома сегодня буду! — забыв, что он латыш, на чистом русском кричал он, бегая по камере в ожидании вызова.— Как надоело ждать! Часы, дни считал, календарь завел. Могу подарить кому на память, он мне больше не понадобится. Наконец-то свершилось, братцы! — Он радовался шумно и беспечно, как ребенок, не скрывая нахлынувших чувств. Сокамерники притворно улыбались, но их улыбки были печальными, вымученными. Каждый завидовал счастливчику, который уходил из этого ада. Каждый в этот миг беспокойно думал: когда же придет мой счастливый день?
Обменявшись на прощание рукопожатиями, Сабитов с высоко задранной головой, отчего, кажется, стал выше ростом, покинул камеру.
Когда за ним захлопнулась дверь и загремели засовы, Томсон произнес:
— Ну и слава Богу! На один рот меньше и кислорода в хате будет больше.— И стал готовить самокрутку, высыпая табак из бычков на разостланную газету.
И правда, отсутствие даже одного человека делало камеру просторнее, даже воздух светлел. Мне показалось, что стал таять ледок в моих взаимоотношениях с латышами. Теперь чаще слышалась русская речь, ко мне стали обращаться с вопросами и предложениями, как к равному. Впятером мы пробыли недолго. Через два дня в камеру вселили шестого — очередную жертву правосудия. Это был мужчина лет тридцати, наголо остриженный, с казацкого типа, давно небритым лицом, чуть ниже среднего роста, коренастый. Судя по большим полуобнаженным мускулистым рукам, мужик был сильный, привыкший к тяжелому физическому труду. Новосел сдержанно поздоровался со всеми. Держа матрац с постельными принадлежностями, он застыл посреди камеры, как изваяние.
Томсон небрежно показал рукой на третий ярус койки, недавно покинутой Сабитовым, и по-русски спросил:
— Кто по национальности?
Я обратил внимание, как насторожились остальные сокамерники, и облегченно вздохнул, когда услышал:
— Русский. Но не чистый: мать украинка, отец русский.
— Хохол значит. Его-то нам как раз и не хватало! — язвительно произнес Мужниекс.— Где хохол пройдет, там другим делать нечего,— добавил он, усиленно коверкая русское произношение, очевидно, чтобы выразить тем самым свое пренебрежение к другим нациям.
— Скоро из латышской хаты сделают интернациональную бригаду,— не скрывая раздражения, поддержал его Альфонс и вопросительно посмотрел на Томсона. Но тот воздержался от комментариев.
— Я тоже русский. Значит, земляком будешь,— не скрывая радости отозвался я.— Будет с кем поговорить, а то мужики общаются между собой по-латышски, я среди них как глухонемой.— Но спохватившись, задал уточняющий вопрос: — А ты знаешь латышский?
— Знаю. Родился в Латвии. Жена — латышка.
— Тогда другое дело. Почти свой,— обрадовался Мужниекс и что-то сказал по-латышски, видимо, желая убедиться, что новичок не врет. Тот ответил ему. Опять камеру заполнили непонятные мне слова. Грустные мысли снова овладели мной...
Я предложил Томсону сыграть партию в шахматы. Тот согласился. Игра улучшила настроение, захватила внимание. Обдумывая ходы, мы шутили друг над другом, подначивали, стараясь выиграть. Томсон играл явно слабее меня, но упорно не хотел уступать, но как не сопротивлялся, проиграл четыре партии подряд. После этого стал наивно объяснять причины своих проигрышей:
-— Зеваю я, плохо обдумываю ходы, а ты этим пользуешься. Если бы я повнимательнее играл, ты у меня не выиграл.
— Я у тебя на халяву не взял ни одной фигуры. А вообще, на мое разумение, вся шахматная игра и построена на зевках. Не обдумал свою позицию на несколько ходов вперед, не разгадал замысла противника — вот и прозевал партию. Ошибки допускают мастера международного класса, а что говорить о нас,— поучал я сокамерника.
— Зовут тебя Даниил, значит, а фамилия как? — вдруг обратился Дирванс к новичку по-русски.
— Фамилия — Солодко.
— Солодко? Ничего у нас сладкого нет. Тебе бы где-нибудь на ликеро-водочном или на конфетной фабрике сидеть с такой фамилией. А ты в тюрьму загремел,— шутил Альфонс.
— Не сам пришел, привезли под охраной. Мне-то сюда не очень хотелось.
— А чего это у тебя фамилия украинская? Отец ведь русский? Ты взял фамилию матери? — допытывался я.
— Да. Отец с матерью жил без росписи. У него раньше была семья. Ушел он от той жены, а она несколько лет не давала ему развода. Я родился, когда брак матери с отцом еще не был зарегистрирован. Они зарегистрировались, когда мне было уже два года.
— А за что в тюрьму закинули? — спросил Мужниекс.
— За что? А тебя за что? — вопросом на вопрос ответил новичок. В интонации прозвучала некоторая настороженность.
— Я-то за разбой и грабеж. Мне скрывать нечего,— поняв новичка, ответил Мужниекс.— Тут все по разным статьям сидят. Он,— Мужниекс указал на Альфонса,— хулиганил, грабил; вон тот, Ингвар,— за изнасилование; а этот (он указал на меня) — «темный лес, тайга густая», что-то непонятное. Ясно только, что он всех нас перещеголял. Видно, «крупняк» какой-то за ним. Говорит, контрабанда, валюта... Одним словом — миллионер. Птицу по полету можно определить. Может, и «мокруха» за ним есть, но не говорит. Затаенный, маститый ворюга... Мы, по сравнению с ним, мелюзга. А все дурачком прикидывается... Это вот Юрис. Ни за что сидит: состряпали дело об изнасиловании, а мужик не виновен... Ну, теперь расскажешь, за что тебя упекли? Говори, не бойся. Здесь все равны.
Лицо Солодко несколько прояснилось. Видно было, что какая-то тяжесть спала с его сердца, и он со вздохом ответил:
— Да рассказывать-то особо нечего. Тоже за изнасилование упекли. Хотя и не виновен. Да разве докажешь? Надо ждать, может, разберутся по справедливости...
— Под лежачий камень вода не течет,— наставительно заметил Томсон.— У меня на этот счет опыт большой. Надо не ждать милостыни, а самому добиваться истины. Кругом крючкотворы и бюрократы, с места трудно их сдвинуть, никто не хочет вникать в чужое горе. Но находятся среди них и люди, которые с понятием относятся к чужой беде. Их надо искать, жалобы и заявления постоянно писать, о себе напоминать. Только так можно счастье найти.
— Я, признаться, не очень грамотный. Родился и жил в деревне. Писать вообще не люблю. Да и что толку? Захотят — посадят, захотят — выпустят. От меня мало что зависит. А во всем виновата теща...
— Вот так на! Теща, что ли, зятя посадила? Как в том анекдоте? Неужели она своей дочери зла желает? — не удержался я от реплики.
— Тещи разные бывают. Одни готовы зятя убить, другие души в нем не чают, помогают, да еще дочку ругают. А другие, чуть дочка приуныла, значит, зять виноват, давай его ругать. Лезут в каждую щелку (по себе сужу). Вот я когда сел, то жена стала подгуливать. Так ее мать и отец, мои тести, очень ее ругали. Они простые крестьяне — белорусы, на Гродненщине живут. Даже когда я после развода у них был, они и тогда ко мне хорошо относились, с пониманием и сочувствием,— высказался Томсон.
— А у меня теща — зверь, не давала ни минуты покоя. Дочь все наставляла: «Бросай его, прибьет еще. Не будет счастья у тебя с ним». Накаркала ворона — сел в тюрьму,— зло сплюнул на пол Мужниекс.
— А моя теща неплохая, но деревенская дура. Хотела, чтобы все по ее было, чтобы она в семье главной была. С ней лучше не ссориться. В то же время помогала нам. Вначале мы вместе с ней жили. Я проходил армейскую службу рядом, в Лимбажском районе. Тут и познакомился с Люцией, своей будущей «половиной». Подружились, слюбились, поженились. Остался я жить у них. Но теща постоянно вмешивалась в нашу жизнь, а сама любила и выпить и гульнуть. Появился у нас ребенок. Вместе с тещей жить стало совсем невозможно. Работал я в строительной бригаде совхоза. Подошел к директору (как раз сдавали несколько домиков), поговорил с ним о жилье, тот пообещал помочь. На собрании он внес предложение выделить мне квартиру. Поддержали. Я работал хорошо, залетов не было, выпивал нечасто, в меру. Вскоре переехали на новое место. В той же деревне, только на окраине. Три комнаты — предел моих мечтаний. Отношения с женой были хорошие. Баба она что надо; трудолюбивая, чистоплотная, в доме всегда порядок. Потихоньку стали хозяйством обзаводиться. Пристройки подсобные сделал. Кур, гусей, поросенка приобрели, кроликов развели. К теще ходили только в выходные и на праздники. С ней осталась жить младшая дочь, Иманта. С лица красивая, но в голове пусто. Ей сейчас шестнадцать лет. Она, как и мать, могла и выпить, и с парнями подгулять. Через год родила мне Люция второго сына. Забот прибавилось. Но я работы не боялся. Любил ходить по грибы, увлекался рыбалкой. Как свободное время выдавалось, так я за удочки — и на речку. Всегда на уху домой принесу. Или утречком в сезон сбегаю в лес и кошель грибов домой притащу. Посадил в саду яблони. Все у нас было. Молоко на ферме брали — теща дояркой работала. Всегда отольет дочери с полведра. Никто не ругал, все понимали — двое маленьких детей. Жили на радость себе и другим...
Солодко вдруг замолчал, закурил, задумался. Лицо его помрачнело. Вдруг он зло и грязно выругался, а затем продолжил свое жизнеописание:
— Не дала, стерва, жить. Придет, бывало, наговорит, наговорит жене, что, мол, парень твой молодой, сильный, с девками гуляет и прочее. Вернешься домой вечером, жена скандал устраивает. Потом, когда прекратится ее крик, выясняю, что недавно у нас теща побывала и наговорила, наплела ей всякого бреда. В деревне, сами знаете, какие бабы. Любят посплетничать. Одна что-то скажет, другая добавит, третья перемножит... Одним словом, местное радио: одна одной сказала, и молва растет снежным комом. Но до поры терпимо было. Раза два, правда, не избежал крупных скандалов. По пьянке кулаки распустил, побил Люцию, к матери она убежала. С неделю пожила у нее и вернулась. Чего не бывает в семейной жизни? Молодые, глупые — порой из-за пустяка сыр-бор разгорается. Жена моя отходчивая, я же долго не могу простить, если меня обидели. Но, в общем, жили все равно, как люди — делили и радость, и горе. Послали как-то меня на ферму подремонтировать пол. Надо было для коров специальные настилы сделать. Пришел, значит, я утром, еще один рабочий со мной; начали доски подгонять. В обеденное время товарищ пошел домой перекусить, а я решил работать без обеда, чтоб пораньше уйти; погода стояла теплая, на рыбалку тянуло. Пилю, тешу, строгаю, глядь — моя теща идет. Розовая, веселая — сразу усек, что поддавшая. Увидела меня, халат распахнула, груди свои огромные, как арбузы, вывалила и ко мне: пошли, зятек, полежим на соломе (в хлеву была солома для подстилки коровам). Посмотрел на нее, и мне стало так гадко и противно, что не передать. Сплюнул и говорю: «Видишь, вон там бык в стойле стоит, с ним и поваляйся, а меня не соблазняй». Ну тут она и понесла на меня двадцатиэтажным матом... Ах ты, такой-сякой, я тебе припомню: тещей побрезговал, а полдеревни уже перепортил... И давай перечислять с кем я, будто бы, спал. Вижу, что в разнос пошла, не удержать, может глупостей натворить. Я за инструмент и ходу. Дома жене ничего не сказал. Схватил удочки — и на речку. Карасей лонлкь Время шло, вроде забылся этот случай. Я опять стал бывать у тещи. Она любезничала, часто самогонкой угощала. В августе мы пришли к ней на день рождения. Чужих никого не было. Только свои: она, муж — дохляк, худющий, маленький (этот уж точно под каблуком у нее был), моя жена, ее сестра и дети. Сели за стол, выпили- закусили, поговорили, снова выпили. Жена пошла детей укладывать. Тесть тоже быстро опьянел и отправился спать. Остались за столом теща, ее дочь и я. Сидим, болтаем. А теща мне все подливает, да подливает: пей да пей, зятек... Я потянуть могу, никогда не отказываюсь. А тут еще ее не хотел злить. Потихоньку, полегоньку и набрался доверху. Рядом Иманта сидит, крепкая, молодая, кровь с молоком. Сама плотная, грудь большая; вся в мать, на все двадцать выглядит. Заметила ведьма, как я на младшую дочь пялюсь, давай еще подливать и мне, и ей. Совсем развезло меня. Увидев, что я в кондиции, теща засуетилась, потянулась и говорит: «Вы, деточки, посидите еще, может, Люция придет. А я что-то устала — спать пойду». И ушла. Остались мы вдвоем с Имантой. Музыку включили, пошли танцевать. Прижалась она ко мне, упругая, ядреная... Меня дурная сила и подхватила, закружила. Не помню, как мы оказались на улице, а потом — на сеновале. Она хоть и несовершеннолетняя, а уже с парнями не раз спала. Одним словом я ее... Утром рано просыпаюсь один на сене, в пуне. Поднялся, голова раскалывается. Не заходя к теще, чтоб не будить, поплелся к себе домой. Прихожу. Жена недовольство высказала: чего, мол, там остался ночевать, домой не пришел. Объяснил, что сильно пьяный был, на сене уснул. Через некоторое время с криком влетает к нам теща: «Подлец! Дочку изнасиловал!» И давай меня поливать... Соседи сбежались на крик. Жена — в плач, не знает, что и делать. Я собрался, телогрейку накинул и в лес. Походил, побродил, остыл малость, а голова шумит и мысли разные лезут. Не дай Бог, стерва заявит в милицию, посадить могут. Сама же споила, дочь подсунула, а та проститутка со мной на сеновал полезла. Теперь выкручивайся! Вот попался, так попался... Что делать? К обеду возвращаюсь домой, а там уже милиция меня поджидает. От И манты заявление поступило, что я насильственно вступил с ней в половую связь. С тех пор никого из них не видел. Очную ставку только делали с проституткой. Как мать научила, так и говорит: «Изнасиловал, пьяная была, беспомощная». Я говорю: «А до сих пор тоже тебя насиловали»? Молчит. А следователь не дает мне все высказать. Дескать, говори только об обстоятельствах этого случая. Вот так я оказался преступником, и клеют мне тяжкую статью — изнасилование несовершеннолетней. Могут лет пять сунуть. Что делать, ума не приложу...
Окончив рассказ, он снова глубоко вздохнул, отрешенно скользнул взглядом по сокамерникам. Чувствовалось, что парень глубоко потрясен случившимся.
— Вот тебе, молодой, урок, как с тещей не ладить. Столько всего на пути встречается! Одним везет, другим нет,— обращаясь к Дирвансу, сказал Томсон.
— Как женюсь, сразу буду держаться от тещи подальше. Много разного слышал от мужиков о них. В основном плохое говорят. Отчего так? — вступил в разговор Альфонс.
— От недостатка ума тех, кто плохое о тещах говорит,— явно не в тон возникшему настроению заявил я.— Считаю случай с Даниилом нетипичным. Как было на самом деле, кто его знает. Если так, как он рассказывает, то все равно это — единичный случай. Большинство же семей живут нормально, с родителями жен ладят. Наоборот благодарят, что те оказывают материальную поддержку, помогают советами.
— Все-таки лучше без тещи жить. Сам себе хозяин, чуть что — жену к ногтю. Не пищи, зараза! — высказался Дирванс, не отрывая взгляда от двери, чтобы не проморгать, когда в ней появится рука баландера.
— Там мне было невыносимо жить от унижений. Здесь — тяжелый воздух и теснота. Как бы поскорей дотянуть до суда, да пойти в осужденку. А тут через месяц- два загнешься,— морщась, бледный и потный, говорил Солодко. Он слез с третьего яруса и пошел к умывальнику споласкивать лицо холодной водой. Разделся до пояса, обмыл не только лицо, но и весь торс.— Вот и посвежело, а то рубашка к телу прилипать стала. И как вы тут живете, понятия не имею. Тут и задохнуться недолго.
— Человек, словно жаба: и в воде, и на суше жить может. Я уже много месяцев здесь. Надоело, а что сделаешь? — проговорил Томсон.— Давай лучше распишем партию, чтоб веселей жилось...
— Давай,— первым потянулся к столу Мужниекс.— Скоро ужин. Быстрей бы уж спать завалиться.
— Ты и так, как сурок, весь день спишь. Удивляюсь, как только не опухнешь от сна? Говоришь, голова болит, а храпака даешь — дай Бог здоровому. И жрешь, что попало. Больной, больной, а аппетит тройной. Все подчистую убираешь,— заметил Томсон.
— А что остается делать? Чтобы машина двигалась, надо ее заправлять. А сон сохраняет нервные клетки,— шутливо ответил Мужниекс.
— Как бы это забрать вещи из той камеры? У меня джинсы хорошие сдербанили, куртку болоньевую. А мне всучили вот эти старые тесные штаны, да вот свитер — рваные, разве что на тряпки сгодится,— заговорил о своей беде Солодко.
— Запишись завтра на прием к оперу. Пойдешь с ним в ту хату и заберешь, если найдешь, свое барахло,— посоветовал Томсон.
— Так и сделаем. Заявление писать надо?
— Да.
— Поможешь?
— Хорошо, что подаришь?
— Найдем что-нибудь. А может, что там прихвачу...
— Если будешь один, когда хата на прогулке, то стащи мне получше кусок мыла или носки — это моя слабость. Коллекционер я в крови. Идет?
— Идет.
Действительно, на следующий день Солодко записался на прием к оперработнику и его, к моему удивлению, тут же вызвали. Я же писал заявления с просьбой принять по личному вопросу почти ежедневно, но меня не вызывали.
Вернулся Солодко примерно через полчаса. Он принес огромную полотняную сумку, из которой вытащил куртку, несколько рубашек, туфли. Внешний вид его преобразился: довольно новые и модные импортные джинсы, белые («крик моды») кроссовки. Он с удовольствием рассказывал о своей вылазке за пределы нашего склепа:
— Заводят меня к оперу. Говорю, что раздербанили в камере. Прошу вернуть вещи, а то прокурору буду жаловаться. А он: «Жалуйся теперь хоть черту. Надо было не зевать». Но когда осмотрел меня внимательно с ног до головы, видно, жалко стало. «Ладно, пойдем посмотрим твои вещи». Пришли в камеру, когда хозяев на прогулку повели. Повезло, думаю. Зашли. Опер мне: «Ищи свои вещи». Я знал, где первостольники держат свои запасы. Приоделся. Да еще прихватил туфли вот и спортивную майку. Они себе еще надербанят, а мне пригодятся; может, поменяю на что...
159
— Молодец. 3-най наших. Но мог бы и еще что-нибудь прихватить, торба у тебя большая,— заметил Муж- ниекс.
— Я бы взял еще, да опер все смотрел. Неудобняк. Он и так спрашивал, не прихватил ли чего чужого.
— Перебьются. А майку я у тебя забираю, за добрый совет,— безапелляционно заявил Томсон.
— Бери. Мне чужого не жалко.
— А мыла или пасты не было?
— Забыл посмотреть, спешил — подгонял опер.
— Раззява. Другого такого случая не будет,— укоризненно покачал головой Томсон.
Альфонс стал примерять туфли, своих у него не было. Туфли ему заменяли обрезки резиновых сапог — подобие калош.
— Смотри ты — 43-й размер! Как раз мой. Как влитые сидят. Даришь?
— А твои-то где? — недовольно спросил Солодко.
— Там же, где и твои были. Сдербанили, когда был в многоместке. Потом их сплавили через окно на сало. А это сало сожрали первостольники. Подари, будь другом! У тебя же есть нормальная обувка.
Солодко колебался. Ему не хотелось за здорово живешь уступать добытые туфли, но и ссориться, обострять отношения в камере он не хотел. Поэтому, поколебавшись, он уступил:
— Ладно, бери. Может, и ты дашь при случае.
— Давно бы так! Парень ты, вижу, свой в доску. А то в резине ноги спарились, да и сваливаются калошки при ходьбе. Теперь на прогулке можно будет побегать!
Теперь уж Дирванс и Мужниекс тоже стали присматриваться, что бы им прихватить из трофеев Солодко. Стали по очереди примерять рубашку. Мужниексу она оказалась мала, а Дирвансу подошла, и он, не спрашивая разрешения владельца, натянул ее.
— Рубашку-то отдай,— обиделся Солодко.
— Перебьешься. У тебя есть. А мою ты видел? Досталась из отбросов. Когда раздели, бросили мне ее, как собаке. Носи, мол, не забывай нашу доброту. А эта мне нравится и в самый раз,— убеждал сокамерника Дирванс.
Солодко огорченно посмотрел на нахала, но спорить не стал. Молча забрался на третий ярус койки и долго лежал, уставясь в одну точку на потолке.
У меня было много личных вещей. Я их сдал на склад, упаковав в два целлофановых, но уже рваных, пакета.
Для упаковки не помешала бы сумка или авоська. Когда сумку Солодко опустошили, и он повесил ее на ручку оконной рамы, меня осенило:
— Даниил, тебе теперь эта сумка не нужна? Вижу, у тебя нет трусов, а у меня есть лишняя пара, спортивные. Давай махнем. А?
— Давай! Теперь еще рано в нижнем белье валяться, не зима,— быстро согласился тот. Обмен состоялся. Оба остались довольны.
В дальнейшем у меня с Солодко сложились хорошие отношения. Только мы с ним делали физзарядку на прогулках, которые мы не пропускали, невзирая на любые погодные условия. А остальные сокамерники не только не занимались физзарядкой, но в плохую погоду вообще не выходили на воздух, лениво валяясь на койках в грязи и вони. Вместе с тем я заметил, что когда новичок находился в обществе латышей, он подстраивался под них, делая вид, что игнорирует меня. Но как только мы оставались наедине, рассказывал, что говорят сокамерники по- латышски, как они меня не любят и поносят. Он объяснял, что он вынужден с ними ладить, так как неизвестно, сколько с ними придется жить, и не исключено, что с некоторыми из них может попасть в колонию. Он как бы извинялся передо мною за свою двойственную позицию. Надежды на него я не питал и опоры в нем не видел, но в то же время не брезговал его информацией.
Сентябрь выдался без дождей. Стояли теплые осенние дни. На прогулках я не мог надышаться терпким, вкусным осенним воздухом. Старался размять мышцы, разогнать кровь, казалось, пропитанную зловонным воздухом камеры.
Вшестером в камере жить было архисложно и тяжело. И как нарочно, чтобы усилить наши страдания, к нам подселили седьмого заключенного. Он вошел твердой, быстрой походкой. Это был мужчина лет шестидесяти, среднего роста, очень худой, сгорбленный. Лицо синюшно-серое, испитое, морщинистое. Светло-голубые глаза слезились. На плечах — плащ, на голове — кепка. Рот его был заполнен сверкающей сталью вставных зубов. При разговоре он причмокивал, словно сосал карамельку. Сняв плащ и кепку, он предстал перед нами совершенно лысым, в черном костюме и зимних ботинках. Новичок осмотрелся, недоуменно пожал плечами и удивленно спросил:
— Так вас тут уже шестеро? А где же мне размещаться? Что они, совсем сдурели?
— На полу спать будешь,— деловито посоветовал Томсон, с любопытством разглядывая новичка.
— Мне на полу? — растерянно переспросил вошедший.
— Можешь на потолке, если сумеешь,— съехидничал Мужниекс.
— Вот так дела: с корабля на бал. Ну и засобачили, гады! Тут повернуться негде. А вонь какая! Хотят меня угробить, точно. Ну я им покажу! — Он бросил принесенную постель на пол и замолотил по двери руками и ногами. Вскоре в форточке кормушки появилось перепуганное лицо женщины-контролера. Новичок заорал:
— Место давай! Куда засунули? Спать негде! Зови командира постарше. Что разинула пасть и зенки вылупила? Шевелись!
Сокамерники не ожидали от старика такого буйства и прыти; молча смеясь, наблюдали за разыгравшейся сценой.
— Чего орешь, как резаный? На полу спать будешь. Нет свободных мест. Не барин,— командным голосом отчеканила контролерша и с силой захлопнула кормушку.
Лицо старика покрылось испариной:
— Жарко, словно в бане,— уже тихо буркнул он и стал снимать пиджак. Повесив его на вешалку, снова осмотрел камеру:
— Жуть! Как свиней в сарае держат. Такого бардака я еще не видел. И это Прибалтика! Правду говорят: «Хочешь сесть, приезжай в Прибалтику, хочешь сразу — поезжай в Ригу». Вот приехал, дурак, на свою голову в чужой край и сел. Ну, животные, ну, подлецы! Они у меня еще сполна получат! — Кому были адресованы проклятья, можно было только догадываться. Томсон не выдержал:
— Не ори, а то за пять минут уже голова от твоего крика разболелась. Разошелся, как в лесу...
Новенький внимательно и зло посмотрел на него:
— Давай не будем! Мне вот так все надоело,— провел он ребром ладони по шее.— Из-за проклятых латышей места себе не нахожу. Я вам прямо скажу. Человек я мирный, но если меня завести, тогда держись. Да, я «выломился» из камеры, а по-нашему — сам ушел. Невозможно было сидеть и сутками слышать: «гыр, гыр, гыр». О чем сокамерники говорят, что они обо мне думают, не знал. Я им и так, и сяк: давайте, мол, по-русски говорить. А они смеются и опять по-своему... И так нервы на пределе, что незаконно арестовали, а тут еще эти латыши под боком... Вот и стал я с ними драться. А они меня в эту грязную, вонючую хату заперли,— сидя на матраце и сворачивая самокрутку, рассказывал новосел.
— Здесь тоже все латыши. Так что катись отсюда, пока не поздно! — угрожающе предупредил Дирванс.
— Молодой ты, как я погляжу, а наглый. Как танк, прешь. Не спеши, деточка, в рай еще попадешь! — отпарировал новенький. Ингвар смутился. Он, видимо, раскаивался, что задел сердитого мужика.
— Откуда ты родом, такой шустрый? — решил сбавить напряженность Альфонс.
— Из Новосибирска. Слышал? Коренной сибиряк.— И не ожидая дальнейших вопросов, закурил самокрутку, с наслаждением затянулся и стал рассказывать:
— Откинулся я, приехал домой. Старуха умерла уже. На кладбище сходил, помянул ее душу, как положено по нашему обычаю, рюмкой водочки. Поплакал. Встал, оглянулся: куда пойти? Ни кола, ни двора, пять лет на «хозяина» отпахал. Деньжат немного в кармане оставалось. К брату податься — жена у него дура, не любит меня. Пошел на вокзал и думаю: надо куда-нибудь в сельскую местность подаваться, в городе не устроюсь. Иду по скверику по направлению к кассам. На скамейке заметил девицу лет под тридцать, не первой свежести. Ногу за ногу закинула, покуривает и заманчиво так носком покачивает. А мне всего пятьдесят. Это я за последний год здорово сдал. Выпрямился, значит, грудь колесом, кепку надвинул на правый глаз, под блатного прикинулся. В этом я спец, прошел хорошую школу. Руки в карманах, подплываю. Разрешите, говорю, прикурить, мадам? Она на меня взглянула, поморщилась маленько. Видно, не ее поля ягода, но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Прикурил. Мерси, говорю. И сразу в атаку: «Деньги у меня есть,— небрежно вынимаю пачку из кармана (а глазки у нее сразу сузились, забегали, лицо напряглось).— Да вот не с кем посидеть. Недавно с хороших заработков. Может, составите мне компанию?» Она снова окинула меня оценивающим взглядом и этак небрежно, словно рублем подарила: «Годится». Куда пойдем, спрашиваю как можно мягче. Все-таки по возрасту мне в дочери подходит. Найдем, отвечает. Идем по городу, базарим о том, о сем, подходим к одному дому.
Она мне: «Давай, Антон, (так меня зовут, забыл вам представиться, а ее Варькой звали), дуй в магазин. Возьми, что требуется для веселости, а я тебя здесь подожду. Прихватил я в магазине пару бутылок «Столичной» и обратно лечу. Издали заметил: стоит, с ноги на ногу переминается. На вид женщина на все 100 баллов: в теле, ляжки толстые и на лицо не крокодил. Перевел дыхание, чтобы не запыхтеть, чинно подхожу: «Ваше приказание выполнено». Увидев головки бутылок, она мне: «Годится». Поднимаемся на третий этаж, звонит. Открывает дверь похожая на нее девушка, лет двадцати пяти. «Зоя»,— представилась она. В домашнем халатике, приятными духами пахнет. В квартире — две комнаты, обстановка не шикарная, но и не плохая. От домашнего уюта и мне на душе теплее стало. Тоску мою, как морской волной, смыло. Сели за стол, тяпнули по стаканчику. «Гулять так гулять,— кричу.— Иди, молодица, еще парочку притащи, пока магазин не закрыли». Я перед Зоей два чирика на стол — бац! Она только плащ на халатик набросила и понеслась. Остался я с Варькой. Ну и сразу к ней — соскучился я за пять лет по женскому телу, что не рассказать. Она, как полагается, посопротивлялась для виду и разделась. Но какой из меня после долгой голодовки самец? За минуту все было кончено. Стыдно мне стало. Но она кое-что поняла, успокоила: «Ничего, старик, не расстраивайся. У нас все еще впереди: понравился ты мне. Откинулся, небось, недавно»? Точно так, говорю. Вскоре прибежала Зоя, как оказалось, ее младшая сестра, принесла еще заправки. С голодухи я быстро захмелел, женщины — тоже. Зойка и говорит: «Поеду к матери, дочь посмотрю, на ночь не приеду. Не ждите...» Дала тонкий намек на толстые обстоятельства. Тут и понеслась душа в рай. Три дня прожил я у Варьки. Денег у меня заметно поубавилось. Думаю: пора кончать. Куда я без них? Воровать придется, к хозяину в кабалу попаду. Надо удочки сматывать. Варька оказалась разведенной, ребенка в детдом сдала, пока не работает, но думает устраиваться. Сестра ее хороша, но очень уж молода для меня. Красивая баба, фигура — хоть в салон красоты. Я ей под балдой как-то, когда Варька в магазин ушла, предложил: «Пойдешь за меня замуж? Ты — с ребенком. У меня никого нет. Уедем в какой-нибудь совхоз, дадут нам дом, и будем жить». А она в ответ: «Я не против». Знаете, даже остатки волос на моей голове зашевелились. «Ну и дела! — думаю.— Ну и девка! Отчаянная». Я ей: «Завтра беру билеты и уезжаем». Пришли Варька, выпили мы, я ей все и выложил. Полагал, что скандалить начнет. Ан нет, как ни в чем не бывало: «Желаю счастья молодоженам». Еще по одной пропустили. И уж теперь она собирается к матери ехать. А Зойка со мной остается. Ну я ей показал в эту ночь, чего стоит мужчина в моем возрасте. Без ума от меня была... На следующий день собрали вещи, подались в один колхоз, где у Зойки знакомый агроном работал. Приехали. Километров шестьсот от Новосибирска. Приняли нас неплохо. Домик дали. Моя вскоре забеременела и родила сына. Жили нормально, как все... Я выпивал чаще, а она — когда перепадет. Сын уже стал ходить, как я заметил, что за ней приударяет один тракторист. Здоровый, краснощекий детина, под потолок ростом. Как-то мне донесли, будто видели, как моя жена, когда я на работе, к нему в дом заходила. А жил он через два двора от нас. Пришел я домой, с горя немного за воротник залил, и давай расспрашивать, так это или нет. Отрицала. Избил я ее, как Сидорову козу... Решил, что надо отсюда когти рвать. Покумекал, посмотрел и решил перебраться в Прибалтику. Объявление в газете было, что в один латвийский колхоз требуются строители. Сам я и плотничать, и столярничать могу. Долго не думая, на аэродром и — в Ригу. Прилетели и заявились по газетному адресу. Приняли нас не очень-то приветливо. Но ничего, дали одну комнату, без удобств... Стали мы обживаться. Только куда я ни сунусь, всюду «гыр-гыр-гыр» по-латышски. А я не понимаю. Бесить меня это начало. Снова запил. Работал в стройбригаде, котельню строили. Деревня небольшая, лес рядом. Когда у меня появились прогулы, заместитель директора вызвал к себе и начал песочить, а мне это не по нутру пришлось. Огрызнулся пару раз, но стерпел. Потом однажды в подпитии на работу вышел. Увидел меня он и снова мораль читать, как мальчику какому. Я за топор. Убью, гад, говорю. Он видит, что дело пахнет керосином, и дал деру. Я за ним. Мужики меня догнали, топор отняли. На следующий день меня в милицию вызвали, предупредили, штраф дали за мелкое хулиганство. Теперь уж я злобу затаил. Подожди, думаю, лабус, попадешься ты мне в темном уголочке. Жена моя не работала, с детьми дома сидела. Только стал я замечать, что она стала куда-то втихомолку исчезать из дома. Один раз поддавшая вернулась. Я ее давай за волосы таскать: говори, сука, где шляешься? Она и призналась, что у лесника была. Там отмечали годовщину по умершему родителю соседки и ее пригласили. А мужики там собрались крепкие. Говорит, один полез ее лапать, не дала. Я потом встретил эту скотину, за бороду малость потягал. Прожил я там полгода, нервы все истрепал. Не понимаю я латышей, и они меня знать не хотят. Жил, как волк, сам себе. Тут одна кабета шепнула, что моя снова стала к леснику похаживать. Надрался с горя, как собака, прихожу домой, а ее нет. Дети плачут одни. «Где матка?» — спрашиваю. «Ушла, не сказала, куда». «Давно?» — «Часа два уже». Ну, думаю, харя! Придет, крышку сделаю. Настроился, жду. Приходит. Увидела меня, смекнула, что будет... Догнал, за волосы на колени поставил, проволокой к койке привязал и давай лупить, бить ногами, куда попало. Дети ревут. Девочка выскочила, к соседям побежала. Прибежали мужики, меня связали и ментов вызвали. Приехала вначале скорая, забрали Зойку в больницу, а за мной легавые прикатили. Забрали. Продержали неделю в райотделе. Потом сюда забросили. Уже третий месяц. Дело закрыли. Жду вот суда,— закончил свой рассказ новенький и стал сворачивать новую козью ножку.
В камере уже темно было от табачного дыма. У меня кружилась голова, дышать было нечем. Не выдержав этих мук, я попросил наконец:
— Мужики, прекращайте так часто дымить. Посмотрите, что в хате делается: словно на пожаре каком, ничего не видно.
— Ив самом деле,— поддержал Томсон,-— давайте пореже, а то и меня стал кашель одолевать.— Он часто чахоточно кашлял, сплевывая в унитаз. С его мнением согласились остальные.
— Ас жинкой что? — спросил Солодко.
— А что с ней сделается? Бабы, как кошки, живучие. Через две недели уже дома была.
— Ас детьми как же: двое маленьких, она в больнице, ты в тюрьме? Надо было хотя бы немного о них подумать. И как можно издеваться над женой: привязывать проволокой, да еще в присутствии малолетних детей бить? Ты, наверно, психически ненормальный? — не в силах сдержать отвращения к рассказчику, заметил я.
— Сам ты больной. Детей, конечно, жалко, а ее что жалеть? Баба любит кнут, не будешь бить — от рук быстро отобьется. Раз в месяц надо дубасить обязательно, чтобы чувствовала, что в доме мужик есть. Вон у цыган по сей день у каждого на гвозде либо ремень, либо кнут висит. Как заходит баба в дом или выходит из него, всегда видит гостинец. Поэтому и слушается его беспрекословно. Он — голова в доме, а баба — служанка. Если что не так, сразу в дело идет приготовленное орудие укрощения. Помогает, да еще как. У цыган нет такого борделя и проституции, как у других. О детях же я думаю часто. Один — не мой, мне до него дела нет, а второй ребенок — моя кровь. Правда, болезненные какие-то оба. Испуганные растут...
— Еще бы, при таком папаше можно дураками стать,— снова перебил я его.
— Живы будут, вырастут. Может, скоро увидимся. Суд не должен меня посадить. Моя жена, что хочу, то и делаю. За что арестовали, понятия не имею. Не должны к хозяину послать, домой пойду. Жена простит, скажет, что ничего не было. Пусть только попробует что на меня сказать. Приду — прирежу, как овечку. Она понимает. Один раз хотел полоснуть. Уж лезвие к горлу приставил. Ну, говорю, сука, молись, последнюю минуту живешь. Просит, прости, говорит, ноги целовать стану. Пожалел, а как хотелось воткнуть ей пику и повернуть, повернуть, чтобы побольше хрипела...— Тощее лицо рассказчика еще больше заострилось, глаза засверкали, в углах губ появилась пена.
— Сколько ходок сделал? — спросил Солодко, вос- пользоавшись паузой.
— Эта пятая будет. Первый раз сел молодым, тебя еще на свете не было. Пошли мы с кентом на станцию... Монтировки взяли, вдруг, что вскрыть потребуется. Залезли на одну платформу и давай машины потрошить. Охранник заметил и к нам. Пистолет на меня наставил и кричит: «Руки вверх, стрелять буду!» Посмотрел я на него: старик лет под шестьдесят, мухомор. Думаю, пришить его или пожалеть? Монтировка-то в руках у меня. А что мне его пушка? Руку перехвачу да сверху ломиком по башке и — готово. «Отойди, старик,— кричу,— от греха подальше». Толкнул я его, пистолет забрал, но не прикончил. И зря. Нашли нас быстро, он опознал. Осудили, дали по четыре года. Подоспела амнистия. Только год отсидел. Второй раз сел за грабеж. Бухой был, выпить еще захотелось, увидел одну кралю в парке с серьгами, кольцами. Вечерело. Лезвие приставил. Давай, снимай, мадам, да побыстрей. Сняла, бледная, как смерть. Гуляй, живую отпускаю, сказал я ей. Побежала, как зайчишка...
— Э, подожди, подожди, бреши да сплевывай. Как это с ножичком да грабеж? Это, дорогой, разбоем называется. Ты нам, дед, лапшу не вешай,— перебил Томсон.
— Ну да, разбой. Но ножичек-то был перочинный, суд мне грабеж и дал. Не посчитали его холодным оружием. Они там долго спорили. Да и я кричал во все горло, что не вынимал я перышко. В кармане, дескать, нож лежал. Не дали мне разбоя, хотя следователь и совал.— Старик замолчал, подошел к унитазу и стал отхаркиваться...
— А третья за что? — не вытерпел теперь уже Альфонс.
— Третья — за хулиганство. Пили втроем в одном заведении, под названием «Мо» и «Жо», а потом начали драться. Всех троих менты забрали и посадили. «Нарушили общественный порядок, не давали гражданам спокойно отправлять естественные надобности,— ехидно цитировал он приговор,— сломали две кабины, разбили окно...»
— И сколько? — снова поинтересовался Альфонс.
— Три года.
— А за грабеж?
— Четыре.
— Все отсидел, полностью?
— От звонка до звонка. Тяжело было после отсидки. Лес валили. Ни обсушиться, ни согреться. По пояс в снегу весь день пахать приходилось. Не потому, что хозяина боялся. Нет. Холодно, не постоишь. Только работа и спасала. Пар над нами стоял. Зато вечером, как зачифирим... Балдеж... Там я надумал палец себе оттяпать, чтобы на больничном с месяц отдохнуть. Тяпнул топором, да неудачно, по руке попал. Хорошо, что не сильно, так бы отрубил.— Дед показал большой шрам на ладони левой руки.— Один кент себе ногу топором повредил. Пришлось отнять. Другой умышленно руку топором оттяпал, чтобы не работать. Тогда многие членовредительством занимались. Мороз — градусов под сорок. Холод насквозь прошибает, не постоишь — сразу окоченеешь. А костерчик развести разрешали только в обед. Разными способами каждый старался отвертеться от такой паршивой работы.
— А четвертая — за какие грехи?
— Кража машины. Вдвоем с корешом. Он только откинулся. Решили хорошо подзаработать. Машину мы угнали удачно. У меня права были. Заехали на юг, там, в Одессе, нас и накрыли. Не успели продать. Пятак суд отсчитал. Тоже — от звонка до звонка. Ну вот, так жизнь и пролетела. Выйду, погуляю маленько, опять сажусь.
— Это сколько же всего лет ты по зонам отпахал? — спросил Дирванс, пытаясь сосчитать.— Первый раз сколько?
— Год.
— Второй?
— Четыре.
— Пять. Третий?
— Три.
— Это будет — восемь. Четвертый — пять? Это будет...
— Да не считай, я так скажу. Всего отпахал, за здорово живешь, чертову дюжину — тринадцать лет. Думал, все, хватит. Нет, теперь еще залетел.
— Фамилия-то твоя какая? — спросил Томсон, доставая тетрадь, в которой он вел учет сокамерников.
— Варламов.
— А отчество?
— Тимофеем батьку величали.
— По какой статье идешь?
— Пока хулиганку дали, шьют 206-ю. А как будет, не знаю.
— Светит два,— ответил Томсон.— Знать надо, по какой привлекают.— Кончив записывать, он посмотрел в список и добавил.— Итак, со мной в этой хате успели перебывать 35 человек.
— Не хата, а перевалочная база, всякую шваль сюда прут,— недовольно проворчал, переворачиваясь со спины на бок, Мужниекс.
— Можно подумать, ты здесь лучше всех, ангел залетел,— не сдержался я. Меня раздражал этот наглый и ленивый сокамерник, который больше всех вонял, портя своими газами и без того вонючий воздух.
— Чем ты недоволен? — огрызнулся он.— Никто не держит. Ломись в дверь и — скатертью дорога.
Я не посчитал нужным отвечать ему.
Латыши заговорили на родном языке, к ним периодически подключался и Солодко.
Варламов сидел на свернутом матраце и тупо смотрел в угол. Я попытался читать книгу, но смысл ее не доходил до сознания. Отложив книгу, задумался. «Вот и еще один псих появился. Какой ужас быть в логове таких зверей! Всю жизнь боролся против такой нечисти, хамства, ханжества и вот теперь я среди них. Почему такая бестолковая жестокая жизнь? Как медленно тянутся дни и ночи...»
— А ты что с ними не балаганишь? — вдруг обратился Варламов ко мне, заметив, что я не вступаю в разговор.
— Я, как и ты, среди них — иностранец. Языка их не понимаю.
— Откуда прибыл?
— Не прибыл, а доставили этапом из Москвы.
— Вот как, почти мой земляк. Откуда родом?
— Оттуда же,— не желая откровенничать, соврал я.
— Москва — это еще не Россия. Вот Сибирь — это чисто русский простор, а в Москве — разный сброд.
— А в Сибири что, мало сброду? Там своих национальностей полно, а остальные — приезжие. Староверы в основном. Не так, что ли?
— Что есть, то есть. Но Русь! Всегда «в ризах и образах»... А за что попал?
— Как все, за «мани, мани», которых нет сейчас в кармане,— приблатняясь, пропел я.
— Вижу, не из простых будешь. Занимаюсь хиромантией, могу погадать.
— Завтра будет день, будет и пища. А сегодня давай отдыхать, а то у меня от твоих речей да от вони голова раскалывается. Хочу спать.— Я повернулся лицом к стене, стараясь забыться и заснуть. Долго мне это не удавалось, но постепенно усталость победила... Проснулся, когда раздавали ужин. Быстро опорожнив миски, сокамерники уселись играть в покер. Присоединился к остальным и я. Играли долго.
Во время вечерней поверки, около 21 часа, дежурный отрапортавал вошедшему старшине:
— В камере семь человек.
Тот удивленно взметнул брови, но ничего не сказав, вышел в коридор.
— Ну и напихали, ну и насовали, как огурцов в кадушку! — проворчал Томсон.
— О, чего вспомнил! Сейчас бы я с удовольствием умял огурчик солененький с картошечкой жареной, да с подливой, да с курятинкой... Эх, как недавно все это было, И как давно! — горестно вздохнул Альфонс.
— А к огурчику положено сто граммов, по нашему, российскому, обычаю. Знаешь, как у одного легендарного героя гражданской войны спрашивали: «Ты бочку спирта выпил бы?» А он отвечал: «Выпил бы, если бы нашелся такой же огурец, чтобы закусить». Понял, сынок, для чего дары природы служат? — с усмешкой прошамкал Варламов.
— Понял, от чего дедушка помер,— дурашливо пошутил Мужниекс, уставившись на новичка.
А тот как ни в чем не бывало отпарировал:
— Сын божий, все мы на том свете будем. Не лезь раньше батьки в пекло и не пугай пуганых.
Все замолчали, покер продолжался. Лишь изредка партнеры перебрасывались малозначащими словечками. Команда «Отбой!» прервала затянувшуюся игру. Все разбрелись по своим местам. Когда улеглись и хождения по камере прекратились, Варламов расстелил постель на полу, недовольно бурча себе под нос, надо полагать, нелестные молитвы в адрес местных властей. Его ложе заняло проход между койками, и теперь, чтобы пройти к раковине умывальника, унитазу или вешалке, приходилось непременно ступать на тюфяк, что сильно раздражало Варламова.
Я в эту ночь спал беспокойно и каждый раз, просыпаясь, видел, как новичок ворочается с боку на бок, быстро говорит сам с собой, проклинает кого-то во сне. Раза два он закуривал.
На следующий день во время прогулки Варламов увлек своим рассказом о несложившейся жизни Альфонса и Ингвара. Те, разинув рты, с удовольствием слушали байки старого зэка о его похождениях, о жизни в колониях, о существующих там традициях и порядках.
После прогулки он уже настолько сблизился с сокамерниками, что усаживался то на койку Томсона, то Альфонса, вычерчивая им графики жизни.
— Хиромантия, ворожба, астрология — науки древние. Они возникли до того, как появилась письменность,— убеждал он молодежь.— Раньше не было докторов; лечили разные знахари, волшебники, колдуны. Они могли по звездам предсказать судьбу человека, по извилинам ладони предсказать его жизненный путь, по глазам читать его мысли. Это могучее средство, и кто им умеет пользоваться, тот богат и велик. Я тоже кое-что перенял у бабушки по отцу. Он рано умер, а вот бабушка дожила до ста лет и умела лечить язву, одышку, так называемую астму, и многие другие болезни. Собирала травы, коренья, цветы, сушила, делала настои. Умела шептать. Гадала на картах, по рукам определяла век человека и все тонкости его судьбы,— говорил он, пуская пыль в глаза слушателей.
— Ты хиромант, корифей, зачем врешь? Детей здесь нашел, что ли? — не выдержал Томсон.
— Тебе неинтересно — не слушай,— ответил Варламов и продолжал.— Многие мне вначале не верят, а потом, как убедятся в точности предсказаний, ходят за мной: погадай да погадай. Вот в той хате, где я был, одному вашему, латышу, по ладони предсказал, что жена его подала на развод. Обиделся он на меня, а потом, через неделю, вызвали его к следователю. Точно, так и есть. Вот, видите...
— Подожди,— прервал я его.— А за что тот сидит?
— За изнасилование. Двоих женщин тронул.
— Ну и предсказатель! Любая порядочная жена, узнав, что ее муж — насильник, подаст на развод. Не специалист ты, а надувальщик.
— Что ты понимаешь? Ко мне может вся деревня гадать приходила. Сколько я им судеб предсказал! Сколько сбылось моих пророчеств.
— А сколько не сбылось? Ты подсчитал, сколько в твоих словах правды, а сколько лжи? — разошелся я.— Вот, держи мою ладонь. Если ты великий знаток, то скажи: сколько раз я был женат и сколько у меня детей? Кто они: мальчики или девочки, и какого возраста? — Варламову деваться было некуда и он взял мою ладонь в свою руку, потом, приподняв ее ближе к свету, стал поворачивать, пытаясь разглядеть линии на ней:
— Так, братан, у тебя двое детей: девочка и мальчик. Ты был два раза женат. От одной ребенок и от другой. Так? — он вопросительно и боязливо посмотрел на меня.
Я не стал его разоблачать и ответил:
— Верно! Ну, ну, давай дальше!
Довольная улыбка заиграла на сморщенном лице:
— Дальше. Жена, вторая, у тебя молодая, блондинка, подгуливает с мужиками. Видишь, вот линия ее, и сколько ветвей к ней незаметно подходит — это все ее любовники. Но хитрющая, голыми руками не возьмешь...
— Хватить врать! — не выдержал я.— Чтобы изрекать такие оскорбительные вещи, надо думать, стоит ли это вслух говорить или нет. А то можно и схлопотать!
— Чего ты ерепенишься? Так на твоей ладони написано. Я что, от себя, что ли, говорю? Не меня, а судьбу свою вини,— обиженно ворчал хиромант.
Я не стал с ним больше спорить. А предсказатель, ничуть не смутившись, взялся вычерчивать схему жизни Солодко:
— Год твоего рождения 1957? Жена с какого года? С 1959?.. Детей потом запишем. Месяц и день рождения, твой и жены?
— Мой — февраль, жены — октябрь. Даты рождения — 13 и 21.
— Есть, записал. Теперь вот только дочерчу... А потом посмотрим, что будет.— Старательно водил он ручкой по клеточкам. Работал где-то с полчаса. Наконец, когда всем уже надоело ждать, он окончил. Поднял от стола голову, победоносно обвел всех прищуренным взглядом и громко позвал Солодко: — Садись сюда ближе и смотри на график. Вот твоя линия жизни. Эта — твоей дорожайшей супруги, а вот та — детей. Я ее потом доведу. Так? Что можно сказать? Проживешь ты 68 лет, устраивает?
— Многовато что-то...
— Ну, извини: так выпадает по судьбе. Жена проживет 75 лет. Видишь, у нее линия длиннее твоей. Что было? Разное — и подъемы, и падения. Но, в основном, жизнь ровная, без больших колебаний и срывов. Дальше твоя судьба пересеклась с линией жизни жены. Вот в этом месте. Это произошло в 1977 году. Правильно? В этом году ты женился...
— Точно! А как ты это узнал? — удивился Солодко. Он весь подался вперед, к столу, упираясь взглядом в палец Варламова, указывающий в точку пересечения линий.
— Тут так сказано. Умные люди веками по этой точке жизнь сверяли...
— А что тут узнавать? Ты же сам вчера вечером рассказывал, что женился сразу после службы. Тут и рассчитать несложно. В армию идут, как правило, в 18 лет. Плюс два года — двадцать. Ты с какого года? С 1957? 1957 плюс 20 будет 1977. Хиромант! Мозги компостирует! — пренебрежительно вставил я.
— Что ты понимаешь? Не лезь, когда тебя не спрашивают. Пойдем от него. Не дает спокойно поговорить,— обозлившийся Варламов собрал со стола бумаги и полез на третий ярус, на кровать Солодко, который кротко бросил мне: — Не мешай. Пусть предсказывает. Интересно
узнать, что ждет впереди...— И сам ловко полез наверх.
Оттуда вскоре послышалось:
— Вот сейчас у тебя по линии жизни идет падение. Видишь, как она резко вниз пошла, и будет это падение два года продолжаться, вот до какой точки дойдет, до трех баллов по десятибалльной системе. Многовато. Значит, очень больно тебе; чувствительно падаешь. Через два года начнется медленный подъем. Это будет 1989 год. И только в 91-м достигнешь уровня, какой был до падения. Семь баллов...
— Что бы это значило? — задумчиво переспросил Солодко.— A-а! Видно, арест и зона... Значит, до 89-го два года быть мне на зоне, а там, может, на химию вырвусь, а дома только в 91-м буду. Значит, больше четырех лет болтаться мне, как бродяге? Да...
— Так по графику выпадает! Я же не обманываю.
— Давай дальше...
— Потом твоя житуха идет ровно, семь баллов, и только через пять лет поднимается еще на балл выше.
— А это что значит?
— Теща «Жигули» купит. Лучше заживешь,— издевательски поддел Дирванс.
— А что? Всякое может быть. Другой раз женится или с этой помирится. Деньги у твоей тещи есть? — спросил Мужниекс.
— Должны быть, в колхозе на ферме неплохо зарабатывают. Только пошла она...— выругался Солодко.— Не нужна мне ни она, ни ее деньги...
— Чего ты, дурак, не полез на тещу? Здесь не сидел бы, да и на собственной машине уже раскатывал бы. Такой момент упустил! — съязвил Мужниекс.— Знаю одного, живет с женой и тещей. Так две бабы за ним ухаживают. Как сыр в масле катается. И машину купили. Все имеет, что хочет.
— Не нужно мне ни ее машины, ни ее поганой рожи. Убил бы, если бы возможность была. Из-за нее сейчас мучения принимаю. Подлюга! Ничего, даст Бог, отплачу! Продолжай, Антон. Что дальше? Жена простит? Будет ждать?
— Сколько у тебя детей? Двое?
— Двое.
Предсказатель продолжал:
— Вот видишь, линия твоя рядом с женой идет. Значит, будете жить вместе, бок о бок. Не разведетесь. Будет ждать.
— О, это хорошо! Баба она ничего, нравится мне. Дети хорошие растут. Такие славные. Не знаю, как без них жить. Хорошо, что ждать будет. Продолжай, - нетерпеливо и радостно требовал Солодко.
— Потом на семи баллах будешь жить долго и счастливо. Но выше не поднимешься. Не быть тебе ученым или героем каким. Серединки золотой продержишься до 60 лет, а потом начнешь спускаться. Видно, болезни станут появляться... Сойдешь на ноль в 2025 году. Умрешь...
— Говоришь, в 60 лет он станет спускаться? — переспросил Томсон.— Конечно, мужчина умирает как мужчина в 60 лет... Не вечно же на бабе качаться? Всему свое время. И так молодец до шестидесяти дотянет. Некоторые раньше сдаются.
— Я читал в газете, что от девяностолетнего старика ребенок родился,— сообщил Дирванс.
— А жене его сколько было?
— Не помню. Кажется, под пятьдесят. Он третий раз женат.
— А в тюрьме он был?
— Не написано.
— Если бы посидел годика два в этой хате, то до 60 лет, может, и дожил бы, а потом не то что к бабе, хотя бы до стола дотащился. А так, наверное, где-нибудь в горах Кавказа, на свежем воздухе, без забот и печалей всю жизнь овец пас и питался мясом, сыром и вином... А посмотрел бы я, чего стоил бы этот мужик, поживи он годика два в наших условиях. Небось, на Томсона стал бы похожим,— заверил Альфонс.
— Да, не сладко здесь! Я-то уже не одну тюрьму сменил, а в таких скотских условиях впервые. Зверей содержат лучше, чем здесь людей. Вот где издеваются! Ответственного работника из кабинета да в эту вонь определить на недельку, сразу бы издал инструкцию о нарушениях санитарных норм. Обнаглели, никому дела до зэка нет. Лишь бы посадить... Скотобаза, а не тюрьма тут.-— Варламов, брызгая слюной, разразился двадцатиэтажным матом.— Уберите меня отсюда, нехристи! Чего кровь сосете? — истерично заорал он.
— Ты чего орешь? Перепонки у всех полопаются...
Но, видно, им уже овладел приступ эпилептической
ярости. Он соскочил с кровати на стол, со стола — на пол, подбежал к двери и стал яростно стучать, крича:
— Убийцы, кровососы!.. Скоты!.. Уберите меня отсюда, я задыхаюсь! — Он разорвал на себе рубашку и продолжал истерично орать, мотая головой и брызгая слюной. Наконец резко открылась дверца кормушки, и испуганный женский голос спросил: — Что случилось? Чего орешь, как бешеный?
— А он такой и есть,— громко выкрикнул Альфонс и спрятался за мою спину, опасаясь нападения Варламова. Но тот даже не обернулся, а стал на колени перед дверью и теперь уже жалобно стал просить:
— Милая красавица, поговори с корпусняком, пусть меня уберет из этой душной хаты. Подыхаю. У меня астма. Я тебе погадаю, хочешь? Только поговори!
— Он эти вопросы не решает. Записывайся на прием к начальству,— холодно ответила контролер.— И не ори больше. А то рапорт напишу, в карцер пойдешь. Старый, а дурной. Раскричался, будто его режут,— недовольно добавила женщина и сильно стукнула дверцей кормушки перед самым носом Варламова. Тот вскочил, искривил физиономию и начал бесстыдно двигать рукой на уровне пояса, злобно хрипя: — На... выкуси... Стерва!.. Дура! Ходит ноги растопырив...— Грязная брань полилась нескончаемым потоком...
— Забрало, забрало! — Презрительно проговорил Томсон.— К врачу надо его, а то ночью еще задавит кого! Неврастеник вольтанутый,— еле слышно добавил он, опасаясь задеть за живое разбушевавшегося сожителя.
Нескончаемая грязная брань, истеричные вопли, брызги слюны вызвали во мне волну отвращения, которая на мгновение затуманила сознание:
— Может, хватит дурака разыгрывать? И без тебя тошно. Перестань! А то придется силу применить,— не выдержав, зло предупредил я.
— Чего? Чего? — Варламов выпрямился и пошел на меня. Глядя в безумные глаза сокамерника, горящие ненавистью, я, конечно, струхнул, но овладев собой, вскочил и приготовился отразить удар. Но соперник остановился и стал грязно ругать меня.
— А ну, перестань! — поддавшись вновь нахлынувшей горячей волне ярости, я схватил сокамерника за грудь и прижал к стене.— Замолчи, а то придушу, как паршивого щенка!
Тот мгновенно понял, что тут не шутят и унизительно улыбаясь, стал просить:
— Не надо! Чего ты ершишься? Я же пошутил.
Пусти, а то и в самом деле задавишь старика. Ты вон какой крепкий, молодой... Куда мне с тобой без перышка тягаться? Не надо...
Я с трудом разжал занемевшие пальцы и молча сел на койку Томсона. Сразу почувствовал во всем теле усталость, тут же устроил себе внутренний самосуд: «Да, нервы сдали до предела. Скоро на стенку бросаться начну. Если еще так протянется с месяц, хана будет: или с собой что сотворю, или с кем с другим. Все опротивело, все ненавистно. Но это не оправдание. Надо брать себя в руки. Как? Что предпринять? «Вось попався, дык попався», как говорил один старик, осужденный лишь потому, что не имел алиби.»
Мой инцидент с Варламовым быстро растворился в массе повседневных забот, тревог и переживаний. Тем более, что хироманта скоро отправили на этап. Он распрощался с каждым, объявив, что его везут в суд, и что там он покажет всем, где раки зимуют, и его оправдают. Как только он исчез, в камере стало спокойнее и легче дышать. Варламов говорил без умолку с раннего утра до позднего вечера, забивая латышскую речь. Но администрация не оставляла нашу камеру в покое. Не успели еще сокамерники отдохнуть от круглосуточных громких речей Варламова, как в тот же день, вечером, в камеру ввели нового жильца. Это был маленького роста, щупленький, хилый пожилой мужчина. Бледный, истрепанный и изможденный, он был облачен в грязные, рваные, такие же истрепанные, как и лицо, одежды. Во всем его облике и фигуре сквозила усталость загнанной лошади. Лицо было настолько худое, белое, с большими фиолетовыми от бессонницы кругами под глазами, что невольно подумалось: как это он еще остается живым человеком? Томсон опытным взглядом сразу оценил, что это за тип заключенного и, не дожидаясь его представления, презрительно спросил:
— Петух? Клади постель на пол и дальше этой черты,— он провел линию,— не заходи. Понял?
— Понял.
— Так ты петух? — негодующе переспросил Дир- ванс, видимо, еще сомневаясь.
— Да,— подавленно ответил вошедший.
— Есть будешь на параше. На унитазе, видишь, крышка. На ней ставь миску и кружку, там же и сиди.
— Хорошо,— боязливо оглядываясь по сторонам, покорно ответил пожилой мужик.
Мне было многое непонятно в этой сцене. Но я увидел, как низко может опуститься человек, слабый и безвольный. Было жаль этого истерзанного, измученного мужчину, но я ничем не мог ему помочь, во-первых, потому, что не знал, что представляет собой этот несчастный, а, во-вторых, я был одинок в этой камере, и с моим мнением здесь не особенно считались. Тем не менее я решил разобраться, что за человек новичок и, если он заслуживает, облегчить его страдания и избавить от лишних унижений. Дождавшись, когда вошедший расположился на свернутом матраце в той же позе, как недавно Варламов, я спросил:
— Как зовут?
— Гуннарс. А фамилия Бурыньш.
— Латыш, значит?
— Наполовину, отец — латыш, мать — русская.
— Латышским свободно владеешь?
— Нет. Знаю, но не очень.
— Какой же ты латыш, если языка, паскуда, не знаешь? — злорадно воскликнул Мужниекс.— Ну, паршивый петушарник! Не зря тебя опустили.
— Родился в Вологодской области. Там и вырос. Сюда приехал с отцом, стариком. На родину его потянуло, вот и переехал с семьей. Уже пять лет, как здесь живем. Не успел язык полностью освоить.
— А работал кем? — продолжал допытываться я.
— Шофером на «скорой помощи».
— Ты не из Риги?
— Нет, из Вентспилса.
— Семья есть?
— Да. Жена, два сына.
— А сколько тебе лет? — вступил в разговор Альфонс.
— Тридцать девять.
— А выглядишь на все пятьдесят. Не сладко, видно, быть петухом?
— Ни дня, ни ночи покоя не давали? Днем ты парашу драил, а ночью — драли. Так?
— Так. Не давали житья: камера большая, дураков много. Но я только троих обслуживал.
— Какая хата?
— Двадцать шестая...
— Что, и в рот брал и в задний проход совали? — цинично полюбопытствовал Дирванс.
— А куда денешься? Как вломят, падаю на постель.
Сейчас еще не могу повернуться,— новичок сделал медленное движение туловищем, но сразу сморщился и взялся руками за бока.— Болит. Отбили, наверно, все почки, гады! Дубасили, как неживого.
— Так скольких ты обслуживал? — переспросил Руткус.
— Троих. Здоровые бугаи, не отвертеться. Совали члены во все дырки...
— А здесь будешь четырех,— снова цинично перебил его Мужниекс.— Так что лучше пошел бы ты обратно... в доску...— Бурыньш промолчал, пугливо взглянув на говорящего.
— Ладно. Не пугайте зря мужика. Скажи лучше, за что сидишь? — снова вмешался я.
Новичок смутился, заерзал на месте, уставился в пол и молчал, явно не зная, как и что ответить...
— Эй, старый черт? Тебя спрашивают, отвечай! — нагло встрял в разговор Дирванс.— А то не только задница да бока болеть будут, но и голову не поднимешь!
— Хулиганство это...— робко пробормотал Бурыньш.
— Не надо стрелять по углам, говори правду,— сурово потребовал Томсон.
— Я не виноват, я ничего не делал,— вдруг испуганно забормотал старик, наклонился к стене, вытянул вперед руки и закатил глаза. Он явно приготовился к избиению и издевательствам.
— Говори, скотина, правду! — заорал Дирванс. Его налитое кровью лицо переполняли злоба и презрение к беззащитному. В любую минуту он мог броситься на него. «Вишь, как разошелся, подонок,— подумал я, глядя на озлобленного Дирванса.— Только 18 лет, а наглости и жестокости на десятерых хватит. Но если кто сильнее и может дать сдачи, тогда он молчит, поджав хвост. А встретится послабее, сразу большим псом становится: и лает, и кусается...»
— Я же говорю: ничего к ней не имел, а мне всунули «развратные действия в отношении малолетней...»
— Все ясно. Скот есть скот. Сразу видно — шакал еще тот! — заключил Томсон.— А дело закрыли?
— Да...
— Обвинительные есть?
— Есть.
— Дай сюда. Посмотрим твои похождения,— потребовал Томсон. Бурыньш полез в карман рваного пиджака, руки его так сильно тряслись, что только после нескольких попыток он вытащил несколько скомканных листов бумаги и протянул Томсону. Тот стал молча читать. Окончив, поднял глаза на меня и сказал: — Тут написано, что он совратил двух девочек, пяти и семи лет. Водил их к себе в подъезд и в подвал, там снимал у них трусики и тыкал пальцами в их половые органы...
У меня мороз пошел по коже, будто онемели темя и виски.
— Мерзкое животное! — невольно процедил я сквозь скованные спазмой отвращения зубы.
— Не то слово! Да таких надо публично вешать, чтобы никому не повадно было над детьми издеваться. До такого идиотства нормальному человеку не додуматься! — возмущенно заговорил молчавший до сих пор Солодко.
— Вот отчего тебя сразу сделали петухом в хате! Будешь знать, как чужих девочек развращать. Теперь долго будешь мужиков удовлетворять. Вместо бабы... Сам выбрал себе такую жизнь,— заключил Томсон.
— Да поверьте, парни. Неправда в обвинительном написана. Такого не было,— старался оправдаться Бу- рыныи. Он зачастил жалобным, тонким голоском:
— У меня два мальчика, а мне хотелось, чтобы и дочь была. Так хотелось девочку. Я к соседской девочке часто подходил: то конфетку ей дам, то печенье. Иногда у нее трусики сползут, я их поправлю. Может, когда и дотрагивался рукой между ножек. Но не специально. Иногда к себе приглашал, но не развращал. Там неправда написана. Это все мамы девочек по злобе на меня наговаривают. А что дети? Они не понимают ничего,— вид у него был настолько подавленный, убитый, что если бы не знал, кто он на самом деле, каждый обязательно посочувствовал бы ему и постарался помочь. После услышанного я осуждал себя за возникшее в начале чувство сострадания к этому человеку. Сейчас я с отвращением смотрел на сидящего на полу мерзкого полуживот- ного-получеловека. Невольно со страхом подумал о своей дочери и, охваченный гневом, пригрозил этому отродью:
— Если бы ты, не дай Бог, подошел к моей дочери, не сидеть бы тебе здесь. Я бы не жаловался в милицию, не просил защиты, а просто переломал бы тебе руки, ноги. Пусть бы отвечать пришлось. Но зато такого гада, как ты, проучил бы навек. А так отсидишь и снова начнешь калечить чьих-то детей. Ты выродок, если не больше! Как таких земля только держит?..
Опустив голову, новичок срывающимся голосом торопливо оправдывался:
— Находило на меня что-то... И сам не знаю. Хотелось прижать к себе девочку. Своих не было. Я не понимал, что делаю. Бывают такие наваждения. Болезни, они разные...
— Здесь написано: «вменяем и давал отчет своим действиям». Тебе проводили сексопатологическую и психиатрическую экспертизы, признали тебя вполне здоровым. Поэтому несешь полную ответственность за свои поступки. Если бы тебя признали больным, в тюрьме не держали бы, а перевели бы в больничку. Не надо нас водить за нос, подонок ты еще тот! Ладно, живи, мразь, мы трогать тебя не будем,— заверил Томсон.— Но будь моя воля, я бы над тобой поиздевался, ты бы меня запомнил надолго... А на зоне тебе трудновато придется... Там не трех, а больше будешь обслуживать, наглотаешься «болтов» вволю. И жрать не надо будет!
Бурыньш молчал, боязливо поглядывая на сокамерников.
— А как жена относится к этому твоему «увлечению»? — поинтересовался я.
— А кто ж ее знает? Как арестовали, больше ее не видел. Может, на суде будет. Жена что? Она может и другого найти. Детей жалко, два пацана растет. Один в школу ходит, другой в следующем году пойдет,— говорил он печальным голосом.
— Раньше надо было сыновей жалеть и думать, что делаешь. А теперь поздно вздыхать. Тебе остается только повеситься,— посоветовал Солодко.
— Думал я и об этом, да жить еще хочется. Но если мне и на зоне придется переносить такие муки, как в той камере, то не выдержу — повешусь, точно...
— Такая гнида, как ты, не покончит с собой! — отозвался Мужниекс.— До последнего вздоха за свою поганую жизнь цепляться будет. Знаю вас, петухов!
— Всякой букашке жить охота... А я все-таки человек,— невесело проговорил новичок.
Жизнь в камере для меня стала еще более тягостной и противной. Бурыньш ел на унитазе, к столу никогда не подходил. Отведенный ему угол, вроде собачьей конуры, был постоянным местом его обитания. Часами он спал полулежа, полусидя, так как ноги нельзя было выпрямить. С одной стороны — стена, с другой — кровать. На ночь он стелил матрац в проходе между койками и только тогда вытягивался во весь рост. Сокамерники говорили про него: «собаке собачья жизнь». Обращались к нему редко и только по прозвищу петух. Пайку он брал последним. Он никогда и ни к кому не был в претензии, почти все время молчал и довольствовался тем, что ему выделяли, радуясь, что его никто не трогал, не подвергал физическим мучениям. У меня чувство отвращения к этому недочеловеку постепенно притупилось, но не исчезло совсем. Несмотря на это, к своему удивлению, я стал замечать, что у меня в душе начинало шевелиться некое подобие сострадания к этому человекообразному. «Он все-таки человек, хотя и не заслуживает такого звания. Но тем не менее мыслит, переживает, страдает и чувствует как человек, а, значит, нельзя совсем не сочувствовать его ужасному положению». Сожители относились к нему с презрением и постоянно напоминали о его скотском, унизительном положении. Я теперь в таких случаях стал отмалчиваться, не называл сокамерника петухом. Мне было жаль опустившегося, обросшего, грязного мужика. Когда в камере появилась передача (получил Альфонс), то ее поделили на всех. Только Бу- рыньшу ничего не дали. Видя, как тот постоянно жадным взглядом смотрит на поедаемые сокамерниками сало или колбасу, я выделял часть из своей порции и отдавал ему. Он тут же с жадностью, почти не пережевывая, проглатывал все и благодарно поглядывал на меня. Вообще он ел все подряд, что доставалось. Видно, голодная жизнь в предыдущей камере многому его научила. Судя по тому, как он отощал, можно предположить, что там ему не всегда давали есть даже баланду. Из-за сильного истощения он был очень слаб и часто страдал расстройством желудка. Тогда он подолгу сидел на унитазе, прося прощения у сокамерников. В такие моменты дышать в камере было совершенно нечем. Все затыкали носы. Возмущению и негодованию не было предела, но кулаки в ход никто не пускал. Может, мое присутствие и отношение к самому слабому из нас или другие чувства сдерживали недовольных, озлобленных жителей камеры. Правда, Томсон, да и другие, не раз просили меня не жалеть Бурыныпа. Такой человек, говорили они, не достоин никакого уважения и сострадания. Я же имел свое мнение на этот счет, поэтому не спорил с ними. «Каждое существо,— думал я,— заслуживает, при определенных условиях, сострадания».
Пробыл Бурыньш у нас ровно неделю, и его забрали на этап — в суд. Все облегченно вздохнули. Его уход не только избавил камеру от присутствия в ней вонючего, грязного человека, но и от страха перед соседними камерами, которые узнав, что в камере № 208 благополучно и непорушно жил петух, станут и к нам относиться неуважительно, как к лицам, общавшимся с опущенным. Меня такие предрассудки волновали мало.
Взволновало меня другое. После ухода Бурыныпа я обнаружил пропажу двух шариковых авторучек и пары новых носков. Когда я заявил об этом, каждый из сокамерников предъявил мне содержимое своих сеток и сумок. Когда пропажа не обнаружилась, все стали смеяться надо мной:
— Предупреждали тебя не якшаться с ним, а ты не посчитался с нашим мнением. Вот петух скрысятничал и увез твои вещи. На добрую память о тебе. Вот тебе впредь наука, как опущенным добро делать...
«Действительно,— подумал я,— горбатого могила исправит. Такой душевный калека уже не может различить, где и от кого исходит добро, а где и от кого нужно ждать удара... Упавший и раздавленный, он уже не сможет подняться самостоятельно». Почему-то мне показалось, что его пребывание на этом свете будет недолгим...
СТАРЫЙ МУЖ - ГРОЗНЫЙ МУЖ
Неожиданно вернулся Варламов. Едва переступив порог камеры, швырнул постель на грязный пол, сел на нее и, обхватив голову руками, громко зарыдал. Он сморкался, растирал слезы и сопли по щекам. Дряблое синюшно-серое лицо его сделалось жалким и еще более морщинистым. Такая сцена удивила сокамерников, но никто не полез к нему с распросами, зная, что Варламов сам скоро начнет рассказывать. Вскоре плач его стал перемежаться отдельными нечленораздельными выкриками, многоэтажным матом:
— Загубили, гады... загубили... убили... Такую молодую, хорошую душу... Скоты, звери!.. Я им дам... Будут они помнить зэка Варламова... Спалю все дома... Козлы! Всех зарежу! Всех!..
Продолжалось это около получаса. Всем уж изрядно надоело его слушать. Наконец, он достал из кармана грязный платок, высморкался, отер мокрое лицо, провел рукой по лысине и, шамкая беззубым ртом, заговорил: «Привезли меня в капэзуху райотдела. Я уже был там, как только арестовали. Сижу, жду суда. Шурики попались в хате неплохие. Чайку сварганили, почифири- ли. День проходит, другой — не вызывают в суд. Я давай стучать и кричать: в чем дело? Все равно, как душа чувствовала. Тут приходит начальник изолятора и говорит: «Я-то при чем? Как дадут команду, так и повезем на суд». Еще три дня прождал, выходные прошли, новая неделя началась. Поменялись соседи, а я, как дурак, все сижу, мучаюсь. Опять скандал устроил. Пришел начальник и говорит: «Суда не будет, повезем тебя обратно, как этап подойдет ». Ну, я — в истерику... Как так не будет? Я уже совсем настроился. Что случилось? Но так и не добился ни привета, ни ответа... А тут новичка подбросили к нам. Он меня и спрашивает: «Как твоя фамилия?» Я ему назвался. Это ты, говорит, на суд приехал? Да... Знаешь, почему суда нет? Откуда, кричу, мне знать! Ты что, не видишь, как я с ума схожу? А он: «Возьми себя в руки, новость неприятная для тебя есть...» И выдал: «Твоя жена повесилась». Не верите? Я чуть в обморок не упал. Лежу на полу ни живой, ни мертвый. Г де-то с час в себя приходил. Потом охватила меня злоба: чуть дверь не вышиб. Жалко мне: такая молодая! Спрашиваю у пушкарей: слыхали что-нибудь? Нет, отвечают, не слыхали. Видимо, боялись, чтоб я сам с собой чего не сделал. Думал я, думал, почему она это сделала? И догадался: это они своих скрывают. Не сама она повесилась, а ее, скорей всего, повесили. Лесник и его банда. Пришли к ней ночью. Вызвали. Пошли, мол, с нами на сеновал. Она — ни в какую. Вот они ее и повесили. Тут разбираться да разбираться надо. А кто без меня начнет вникать? Никто. Надо мне отсюда быстрей уходить. Я там наведу порядок. Я им дам!..
— Может, брехня все это? Никто же тебе официально не сообщил, что жена умерла? — перебил его Томсон.
— Обязательно бы объявили, чего тут скрывать. Над тобой тот арестованный пошутил, наверное...
— Да нет! Думал я и об этом. Уже здесь, в этапной хате. Там было человек двадцать. И услышал я такой же разговор, что, мол, повесилась одна, и суд не состоялся. А вообще я ночи не спал, так переживаю. А в той хате такой бордель! Хлеб один у другого отбирают, друг друга толкут. Всю ночь кричат, плачут, стонут — спать не дают! Кошмар! Голова гудит, трещит...— Он снова обхватил голову руками, замолчал. Потом быстро расстелил койку на грязном бетоне и лег спать.
— Эй, хиромант, погадай! — прокричал со своей койки Дирванс.
— Отстань, я спать хочу: всю ночь не давали спать...— И вскоре захрапел. Такой финал всех очень удивил. Альфонс обратился к Томсону:
— Юрис, как ты считаешь: врет он, что жена его повесилась?
— Конечно. Ему бы там и объявили. Зачем скрывать? У него не все дома. Над ним кто-то посмеялся, а он себе внушил.
— Он не очень то и переживает. Просто по натуре истерик, поэтому так бурно негодует. А может, и с отклонениями... Вообще что-то есть...
— Ас женой ясное дело: туфта,— высказался и я.
— Брешет, собака,— поддержал меня Мужниекс.— По нему видно — на публику играет.
— А зачем ему играть? Что он от этого иметь будет? — спросил Солодко. И сам высказал догадку: — Может, просто, чтобы посочувствовали, не обижали? Да он и не из обидчивых. Странно как-то все это. А чего тогда суд не состоялся?
— Чего? По разным причинам могут отложить. Судья, скажем, заболел, вызвали куда. Может, кто из нужных свидетелей в отпуск уехал. Да мало ли что бывает...— рассуждал Томсон.
— А почему не объявили тогда? — опять высказал недоверие Солодко.
— А кто арестованного за человека считает? Пусть мучается, ждеть. Время придет — осудят,— за Томсона ответил Альфонс.
Варламов проснулся где-то через час. Потянулся, равнодушно оглядел камеру и проговорил: «Малость кимарнул. Полегчало, а то так устал, так измотался, с ног валился. С кем же теперь мои деточки? Как они без мамки маются? Загубили, гады, молодую дивчину...» — Полилась, нарастая, знакомая мелодия. Пытаясь как-то остановить истерику сокамерника, я спросил:
— Слушай, а что показывают твои линии на ладони? Ты же умеешь читать чужие судьбы. Скажи теперь нам, куда твоя судьба правит? — Варламов опешил, он не ожидал такого каверзного вопроса. Но после недолгого раздумья, очевидно найдя убедительный ответ, изрек облегченно:
— У себя нельзя читать: сглазить можно.
— Давай я у тебя прочту. Я кое-что тоже волоку в этом,— произнес Томсон.
— На! — неуверенно Варламов положил свою ладонь на стол. Томсон начал читать:
— Так,— медленно, вдумчиво начал он.— Вот твоя линия жизни — долгая. Проживешь, старый корч, больше меня. А вот еще две линии. Ты что, два раза был женат?
— Первый раз — по молодости. Баловство, а не семейная жизнь это была.
— Вот видишь, так и написано: два раза. Первая линия _ короткая. Недолго жили, значит, с первой-то? А вот — вторая. О-о-о, какая длинная! Живет твоя дражайшая супруга, здравствует и поныне... Еще одного киндера тебе подарит. Видишь это ответвление впереди? Значит, будет ребенок...
— Только чей? — усмехаясь, перебил Мужниекс.— Пока он сидит, она ему и пятерню может нарожать. Бабы плодовиты! Может родить и двойню, и тройню...
— Пусть рожает сразу четырех,— добавил Дир- ванс.— Вот будет потеха: откинешься ты, к ней прямой наводкой, а тебя семеро встречают, и только один, самый худой и тощий, твой. А она: «Муженек ты мой, родной, любимый. Как я тебя ждать устала, как устала! Как одной такую ораву прокормить? Как хорошо, что ты вернулся. Дети, это ваш папа приехал! Он вам гостинцы привез!» И бросятся они толпой к тебе на шею. Вот крутиться будешь, вот морщиться... А что поделаешь? Состоишь в законном браке. Неважно, что ты на хозяина пахал, а она от воздуха беременела, главное — штамп в паспорте.
— Пошел ты...— выругался Варламов.— Еще неизвестно: жива ли она? А если, не дай Бог, от него забеременеет, я ей такую родильню устрою, век помнить будет. Ноги выдерну, моргалки выколю, пасть порву. Я ей...— гневно затряс он кулаками в воздухе. Но вдруг спохватился и уже другим голосом обратился к Томсону: — Говоришь, жива и долго мне с ней кантоваться? Тебе я верю. Это моя рука, моя ладонь, а значит и моя судьба. Как там написано, так и должно быть. Значит, козлы разыграли меня. Пусть только мне попадутся под горячую руку! Нашли, чем шутить. Чуть до инфаркта не довели. А как бы все-таки узнать поточнее: жива иль, может, уже в земельке-матушке лежит?
— Запишись на прием к оперу. Если что случилось, он знать будет. Поговори с ним, он тебе и расскажет,— посоветовал Томсон.
— Так и сделаю. У кого есть лист чистой бумаги? Заявление накромсаю.— Ему дали ручку и бумагу. Почесывая лысину и облизывая сухие губы, он стал писать. Потом подал Томсону написанное и спросил: — Разберут? Почерк у меня паршивый. Сколько ни стараюсь, никак выправить не удается.
— Сойдет. Положи на полку. Завтра утром на обходе отдадим. Ты, может, чего-нибудь вкусненького принес?
— Где там! Сам голодный, как волк. Вначале в капэ- зухе неплохо было. Один с мешком провианта приполз. Так все сожрали за три дня. Аж животы болели, как дорвались до сала, колбасы. Ух, с каким аппетитом мы все это уплетали! — На губах Варламова появились слюнки.— И чая сварганили. Но такой пир был только один раз. Потом началась голодуха. Один раз в обед дадут пожрать — и все. А потом весь день в животе кишки марш играют. Да еще напихали нас в этапку — не продохнуть, ни повернуться. Один возле одного впритык лежали. Окно разбили, чтоб воздух был, а ночью холодно. Друг с друга стали стягивать куртки, свитера, кто что мог. Шум, крик все ночи напролет. Одному зуб выбили, одного догола раздели, хотели это самое сделать... Я не встревал, лежал себе тихонько. Там лупят просто так, за здорово живешь. Рожа твоя не понравилась кому-то и — хана. Беспредел. Нет порядка среди нашего брата...
— Сплоченности нет. Это факт. Поэтому и трудно живется,— поддержал Солодко.— Брат брата разденет, отнимает кровняк. Как будто так и надо. Беспредел.
— Так было, есть и будет,— заметил Томсон.
— Не скажи, на некоторых зонах зэки сплоченные. Администрация справиться не может. Чуть что — забастовка, а то и погромы устраивают. Видел я разное на своем веку. Хозяин старается разлад посеять среди нас. Вербует в доносчики. Таким, когда их выявляют, несладко приходится. А иногда им и крышку делают. И концы в воду. Был человек — и нет его,— рассказывал Варламов.— Особенно важна сплоченность в Сибири. Климат там суровый, условия жесткие, вот наш брат друг к другу и жмется. Вместе беду легче переносить.
— Слушай, а ты не «полосатик»? — прервал Варламова Альфонс.
— Нет. Теперь могут признать. Но я им так просто не дамся, судимость у меня еще не снята.
— А почему тогда, если у тебя уже пятая ходка, не числишься в рецидивистах? Я слышал, уже со второго раза признают? Странно как-то у тебя получается...
— Тут своя наука. Ежели за тяжкие преступления, одинаковые или похожие, то и со второго раза могут признать. Если разные, неоднородные, да еще с перерывами, то — шишки. Главное, чтобы была погашена судимость. Вот у меня первая ходка — один год. Вторая, через год, не пошла в зачет. Третья и четвертая — пошли, но преступления разные, и суд не признал меня рецидивистом.
— Тут все зависит от суда. Как захочет, так и сделает, особенно если на зоне побывал,— добавил Томсон.
— Зона, зона, будь она трижды проклята! Что-то она из меня сделает? Хорошо, если рядом будут хорошие мужики. А если проходимцы, сам таким станешь,— печально произнес Солодко.
— Не горюй заранее. На зоне в десятки раз лучше, чем здесь. Я там, как рыба в воде. И балдеж постоянно имел, и питался неплохо. Крутиться надо и знать, к кому подкатиться, с кем побазарить. Живут там не один год, свыкаются. С головой нигде не пропадешь,— заметил Варламов.
— Ты же раньше говорил, что тяжело было на зоне: по пояс в снегу стоял, на хозяина пахал? А теперь хвалить стал. Не пойму я тебя, семь пятниц на неделе,— поддел Альфонс.
— Базарил. Раз на раз не приходится, зоны разные бывают, как и люди. Много зависит от хозяина и от того, что на зоне делают. Лесоповал — каторжный труд, литейка — тоже. А вот швейное дело — куда ни шло... Мало ли какое производство? А зон только в маленькой Латвии около десяти, а в Союзе — тысячи. И на каждой — своя работа! Вот, видите, телогрейка — зоновская, без воротничка. Узнаю родную. Ботинки стоят — опять же зоновские, а кровати, на которых вы спите,— оттуда же, унитазы тоже зэки делают. Куда ни кинь. Прибыль стране даем большую. А получаем по мизерным расценкам, да еще половину того, что начисляют, хозяин забирает.
— Труд на зоне тяжелый от того, что им хотят воспитать человека. Считают: повкалывает, как вол, больше не захочет попадаться,— заметил Томсон.
— Где там?! Кто работает, а кто и нет, но не хуже трудяг живет. По принципу: кто не работает — тот ест. Сейчас таких немного зажимать стали, перестройка,— добавил Варламов.
— Я читал в газете доклад министра внутренних дел СССР. Он говорит, что низка эффективность воспитательного процесса в исправительно-трудовых учреждениях: каждый третий, отбывший наказание, возвращается на зону с новым преступлением. Вот вам и тяжелый труд. Обратно лезут, не боятся. И наш шаман уже пятую заявку подал,— высказался и я.
— Ха! Как будто я сам, добровольно, пришел и сказал: «Возьмите меня, я такой и сякой». Приехали сами, сволочи, без приглашения. Забрали, куда денешься,— возмущенно ответил Варламов.
— Тут еще сами власти виноваты: откинется здоровый мужик, ему бы работать, а никто его не берет. Ни исполком, ни милиция не могут устроить. Направят в одну контору — от ворот поворот, в другую — то же самое; под различными предлогами не хотят брать, боятся, может, опять чего натворит. Ненадежный наш брат. Вот мой знакомый Модрис почти месяц так шлялся, а жрать нечего. Он в райотдел к начальнику: «Дай рубль на обед». Тот и дает. А потом начал на стульях в приемной спать. «Негде,— базарит,— начальник, работу давай, жилье давай». Вот тогда мент покрутился. С трудоустройством не получилось, так он его определил на два года в ЛТП как алкоголика, лишь бы с рук сбыть,— рассказал Томсон.
— Вот видите, молодежь, как с ними поступают? Мотайте на ус: в вытрезвитель, в ЛТП, в психбольницу... Прошел я все эти учреждения, знаю. Наелся государственного хлеба, спасибо,— сильно шепелявя, говорил Варламов. Когда он волновался, то периодически засовывал пальцы в рот, поправляя вставные зубы. Видимо, искусственная челюсть плохо держалась. Вдруг он завел старую пластинку:
— Как же там моя женушка? Жива ли, нет ли? Неужели, гады, повесили? Такая молодая, и жизни не узнала! — запричитал, заохал он, перемежая стоны нецензурной бранью.— А и где же ты, моя красавица? Как же я без тебя жить буду? На кого детей оставила, как они, сиротинушки, поживают? — Так оплакивают покойников. В камере все замолкли. Чтобы не дать истерике Варламова разрастись до предела, я крикнул ему:
— Эй, шаман! Тебе уже ворожил Томсон по ладони? Значит, не поверил? Теперь погадай себе на своем графике. Ты же заверял нас всех, что линии твоего графика правду говорят? Вот и посмотрим, как у тебя дома дела...
Варламов остановился на полуслове и с раскрытым ртом и вытаращенными светлыми глазами уставился на меня:
— А что? Это идея! Графики-мафики, надо попробовать. Это не на живой руке гадать? Дай-ка лист бумаги в клеточку. Сейчас мы ее, судьбу нашу, распишем. Тут вся правда и вылезет. Это греки и японцы придумали. Они умный народ. Даже в журнале о том писали. Не будут же они всякую ерунду писать, чертить. Есть же какие-то великие силы, что вертят нашей жизнью,— усаживаясь за стол, приговаривал он.— Смотрят там инопланетяне за нами и решают: кого в больницу надо, а если ногу кому оттяпать — под поезд его ведут. Надоест наблюдать ночами за кем — того в тюрьму запрем. И толкают на убийства, на преступления. Мы все каждую минуту под колпаком. За каждым нашим шагом следят.
Чуть что не по-ихнему, быстро на тот свет отправят или заставят помучиться. И не спорьте. И во мне есть могучие неземные силы. Линейки у вас нет? Дайте футляр от зубной щетки. Все мы под Богом ходим, от него все и зависим. Мы — букашки, ползаем, копошимся, бессилие свое перед природой показываем. У каждого еще задолго до рождения судьба предначертана, и после смерти у каждого своя дорога будет. Вы, может, мне не верите? Зря... Пожил я на свете, многое видал и испытал. Иду когда-нибудь по улице, вдруг в голову что-то — бац! Поворачиваю в закоулок, а там винно-водочный. Трешку достал, чернильца засосал и не успел докончить, как тут — легавые: «Здравствуйте! Вы артист, вне сомнения, пройдемте с нами в отделение и заплатите штрафчик за распитие спиртных напитков в общественном месте». Я их — на три буквы. А они вежливо приглашают к себе и протокольчик по форме пишут. Вскоре подъезжает машина, и меня определяют на 10 суток в КПЗ. Будьте добры, сюда, пожалуйста. Нет, говорю, покорно благодарю, любезнейшие. Шел я по улице с другой целью — купить ребенку ботинки, а оттуда, с небес, кто-то меня дернул и направил в другую сторону. Нагрешил я чем-то, прогневил Владыку Всевышнего, вот он мне и мстит. Вот и готова моя судьба. Теперь посмотрим судьбу жены и проследим, где же наши линии пересекутся, и где жизнь моей ненаглядной оборвется. Что ни говорите, а есть, есть сверхъестественный разум, обладающий такой силой, что может вмиг стереть наш шарик. Ведь кто-то же его создал, раскрутил, и он вращается монотонно, ровно 24 часа, день в день. Природа — она туманна и неизвестна. И чем глубже люди копаются в ней, тем сильнее себя наказывают, тем больше бед на земле. Не хотят там, наверху, чтобы человек запретные тайны разгадывал. Вот и мстят ему за это инопланетяне, Бог. А летающие тарелки? Слышали о них? Эти неопознанные объекты и есть агенты, разведчики высших существ. Они их сюда присылают, чтобы за нами легче следить было...— Сокамерники слушали всю эту бредовую чушь «галактического» лектора внимательно, не перебивая. Делать все равно было нечего, а эта сумасбродная лекция развлекала, отгоняла надоедливые тоскливые мысли.
Вычертив полностью график, наш астролог стал пальцем водить по листу бумаги, что-то тихо бубня себе под нос. Потом глаза его стали все беспокойнее и беспокойнее подергиваться и бегать по сторонам. Лицо перекосилось, сморщилось, нервно задергались веки и он, дико вскрикнув, выскочил из-за стола:
— А-а-а! Я так и знал, чувствовала моя душа, чувствовала! Хана ей! Убили, козлы. Без ножа зарезали. Во- во! — он схватил свой график и, бегая по камере, тыкал каждому под нос: — Обрывается ее линия в расцвете сил. Значит, не обманул меня кучерявый. Правду я слышал. Ы-ы,— рыдал он, бегая по проходу.
— ...Нет ее в живых. Конец! А с кем же там мои дети? Сволочи! Отпустите меня отсюда! Я им покажу! Я рассчитаюсь за тебя, моя женушка. Только бы мне вырваться к тебе. Где твоя могилка, мне покажут... Я с тобой еще поговорю... Выпустите отсюда! — неистово забарабанил он в дверь. По щекам ручьями текли слезы, на губах показалась пена.
В кормушке показалось лицо мужчины-контролера. Он спокойно посмотрел на кричавшего и спросил:
— Что, психбригаду вызывать или сам успокоишься, артист?
— Выпустите меня отсюда. Прошу тебя, командир,— переходя на шепот, взмолился Варламов.
— Еще чего! Может, пирожное принести или леденцов? Успокоишься или бригаду вызывать?
— Не надо,— еле слышно, устало произнес старик и бессильно опустился на пол, на свою постель. Кормушка захлопнулась. Безумным взглядом обвел он камеру и опустил голову на грудь, все еще сотрясаемую редкими всхлипываниями.
— Колдун, слышишь? Нам надоели твои концерты. Придется тебе катиться отсюда,— предупредил Томсон.— Нам больные не нужны. И без тебя противно.
— Завтра, Юрис, запишись к оперу и попроси, чтобы убрали от нас этого дурака, а то еще натворит чего. А его не трогай, он же сумасшедший,— посоветовал Альфонс.
— Точно, Юрис, его обязательно надо убрать отсюда. Задушит еще кого ночью. Больной, что с него взять? — поддержал Дирванс.
— А что он бешеный, я уверен. Видел такого в припадке. Лицо было, как у нашего, и пена изо рта шла,— подтвердил Мужниекс.— От него лучше подальше держаться.
— Хорошо, что я на третьем ярусе, до меня не дотянется. Вас первых начнет душить,— глупо пошутил Солодко.
Я молчал, мне казалось, что Варламов косит под психического больного. Повод у него для этого был весомый. Опытный зэк предвидел, что на этот раз суд может признать его рецидивистом и за истязание жены определить наказание в виде тюрьмы или крытки — зоны для особо опасных, с камерным режимом содержания. А этого Варламов боялся. Там не развернешься, не покрутишься и не почифиришь. Камера есть камера. Общение ограничено, доступа к другим заключенным нет.
Ночью Варламов устроил душераздирающую сцену с воплями, проклятиями и стонами. Бушевал около часа, пока контролер угрозами вызвать бригаду не успокоил его. Утром Томсон записался на прием к оперу. А уже перед обедом Варламова увели в другую камеру. Мне показалось, что его тощее лицо выражало теперь едва скрываемые удовлетворение и радость. Чего, мол, хотел — того добился. И я даже позавидовал, как относительно легко и быстро Варламов избавился от невыносимых, нечеловеческих условий камерного существования. А я вот воюю второй месяц — и все безрезультатно.
Я сшил себе сумку из обрезков плащевой ткани, валявшихся в камере, испросив разрешения у соседей. Сумка мне нужна была для хранения конспектов моего выступления на предстоящем судебном заседании. Я с все большим нетерпением ждал получения обвинительного заключения, а его все не было. Еще в июле я получил сообщение, что дело направлено в Верховный суд Латвийской ССР. А на календаре уже октябрь. Значит, дело в суде изучается больше двух месяцев. В связи с ожидавшимся большим объемом обвинительного заключения я неоднократно просил выслать его заранее, чтобы обстоятельно изучить. Но на мои заявления никто не давал ответов. Я стал прикидывать: если заключение вышлют мне теперь, в октябре, то дело назначат к слушанию не раньше ноября. А там — праздники. Получается, что числа девятого-десятого ноября начнется суд. Значит, ждать еще почти 6 недель. Что они там, все с ума посходили? Четыре месяца изучать дело? Ну издеваются, душегубы!
«Святое место» на полу не долго оставалось пустым. Администрация не давала ему остыть. Не успел далеко уйти буйный Варламов, как в камеру вселили новенького. Это был стройный, высокий, с приятным лицом, обрамленным копной вьющихся черных волос, юноша лет девятнадцати. Его небольшие глаза по-кошачьи настороженно оглядывали камеру. Одет он был в короткую телогрейку, из под которой виднелся штроксовый коричневый пиджак, серые брюки, на ногах — модные штиблеты. Томсон указал ему место в углу и новосел, бросив на пол постельные принадлежности, остановился в нерешительности, не зная что делать дальше.
— Чего стал, как сирота? Иди, садись ко мне на койку,— предложил Альфонс. Новичок, не ожидая повторения, примостился на указанное место.
— Как зовут? — начал разговор Дирванс.
— Енис.
— Имя у тебя не латышское,— заметил Томсон.
— А я литовец.
— Ха! Только литовца нам еще здесь не хватало. Всякой твари по паре,— разошелся Мужниекс.— Одного чужака только что выпроводили — другой появился.
— Я ненадолго. Завтра на этап должен уйти.
— Куда? — поинтересовался Солодко.
— В Горький.
— Фью! — удивленно свистнул Альфонс.— Чего это так далеко?
— На раскрутку. Там за мной числится пара квартирных краж. Вот и везут. Там и суд будет,— ответил он приятным тенором.
— Непонятно. А как ты здесь, в Риге, оказался? — удивился Дирванс, и не дожидаясь ответа, добавил: — Всех сюда несет нелегкая...
— Родился в Литве. Слышал про город Шауляй? Мать там живет. А ее родители в Горьком. Она — русская, отец — литовец. Правда, они развелись. У него другая семья. Я на лето ездил в Горький к дедушке. И там маленько «пошалил». Вернулся домой и решил в Рижскую мореходку поступить. Удалось. Неделю прозанимался. Потом черт дернул в паре с однокурсником обчистить квартиру. Тут мы сразу и зашились. Взяли с меня подписку. А потом в Горьком моего прежнего подельника накрыли. Он меня и выдал. Меня здесь арестовали, следствие закончили, а теперь туда, в Горький, повезут. Завтра должен быть этап. Так мужики говорили.
— Так ты уже давно здесь сидишь? В какой хате был? — спросил Солодко.
— Почти две недели. В 22-й кантовался.
— А чего тебя на одни сутки к нам перекинули? Не мог дотянуть до этапа?
— А кто его знает, точно ли он будет завтра, а может, через неделю. А в той хате невмоготу стало: били, пол заставляли три раза в день мыть. Я не выдержал, ломанулся на кормушку. Повели к оперу, объяснил, что и почему. Сказал, что вещи у меня сдербанили. Пошли с ним туда, я свои нашел, а лохмотья бросил первостольникам: нате, жрите. Опер меня к вам и определил.
— Обиженный, значит. Не петух случайно?
— Нет. И даже не парашник. Отказался наотрез убирать. Настукали по шее и отстали. Пол в хате убирал. Наглые там. Вещи отобрали, передачу. Мать, как узнала, что арестовали, сразу прилетела. Передала колбасу, яблоки, конфеты. Так я ничего даже не попробовал. Только расписался в получении, и 1ут же все отобрали. Первостольники все разделили и сожрали. Не люди — звери,— вздохнул новичок.
— Ничего. Главное, чтобы сам цел остался,— подбодрил Солодко.— Я рядом с твоей хатой был, тоже еле ноги унес. Бока долго еще болели. Да и они,— указал он на Мужниекса, Альфонса и Дирванса,— тоже выломились. Не выдержали. Не ты первый, не ты последний.
— А по делу во всем признаешься?
— Куда ж денешься? Вещи при обыске нашли. В Горьком кент меня сдал. Не отвертеться. Так бы я им шиш что сказал про себя.
— Большой иск?
— Нет. На 500 рублей. Вещи все нашли, только успел перстень сбагрить, да куртку японскую. Остальное валялось, ждало своего часа.
— Сколько тебе лет?
— Восемнадцать с половиной.
— Мой ровесник,— обрадовался Дирванс.
— А что еще водится за твоей душонкой?
— Больше ничего. Все, что было, рассказал,— немного смутившись, ответил Енис. При этом у него покраснели уши, что вызвало недоверие у окружающих.
— Не финти. Мы не козлим. Нам можешь все смело рассказывать. Может, какая помощь нужна? Мы можем и на свободу письмецо перебросить,— многозначительно намекнул Томсон.— Только шепни, так и капусту добудут.
— Больше ни в чем не погрешил. И за это как бы срок не схлопотать. Как-никак, второй раз судим,— высказал свои сомнения новичок.
— Вот как! А первый раз за что?
— Хулиганка, поскандалил в парке. Тогда еще несовершеннолетним был. Суд определил два года условно.
— Прошло?
— В том-то и дело, что нет. Вот потому могут и на зону запереть.
— Запросто! В одну калитку.
— Не думаю. Это в Латвии суды жестокие. А в России проще. Там за такое дело в основном химию дают.
Исчерпав как будто все необходимые для первого знакомства вопросы, сокамерники стали что-то оживленно обсуждать по-латышски, искоса поглядывая на новичка. Как я понял потом, их заинтересовали его вещи. Потому что вскоре Мужниекс и Дирванс подошли к новичку и попросили примерить его новый пиджак и телогрейку. Потом примерили туфли. Но все вернули владельцу. Вскоре Дирванс спросил:
— А что у тебя в сумке?
— Ничего. Только рубашка и домашние тапочки. Мать передала в посылке вместе с продуктами.
— А ну-ка, покажи, посмотрим,— вкрадчиво попросил он. Енис услужливо достал вещи. Мужниекс и Дирванс примерили и это. Вернув, предложили:
— Неплохие. Может махнем?
Но новичок отрицательно замотал головой. Глаза его сузились, он весь напрягся. Я понял, что паренек побаивается алчных сокамерников, поэтому поспешил заверить его:
— Не бойся! Здесь дербанщины нет. У нас в основном пострадавшие собрались.
— А тебе какое дело? С тобой не разговаривают! — сердито заявил Мужниекс. Затем пригрозил: — Скажи спасибо, что у тебя ничего не отобрали. А потому сиди и помалкивай!
Я тоже разозлился:
— Ожил немного? Спал, спал и проснулся? Запахло поживой? Ничего не получится. Напрасно чужие вещи не примеряй. Как говорится: на чужой каравай рот не разевай.
— Помалкивай, пока мы добрые! Ты из моего плаща сумку сшил? Надо будет забрать. Обнаглел совсем. Королем себя здесь считаешь! — разошелся Мужниекс. Его поддержал Дирванс:
— Точно! Князем заделался, и кликуха, я слышал, у него — «Князь». Но мы с тобой быстро разделаемся. Только сунь нос, сразу получишь! Все ум свой показываешь?
— Чего, чего?! — взорвался я. Гнев и возмущение переполняли грудь:
— А вот этого вы не видали? — Ия показал им фигу.
— Мы и не такое видали! И тебе еще покажем. Не спеши,— пригрозил Мужниекс и замолчал. Смолчал и я. Снова послышалась латышская речь. Пятеро оживленно спорили о чем-то между собой. Енис спросил меня:
— А ты, я понял, не латыш?
— Нет,— ответил я.
— Откуда?
— Из Москвы.
— Бывал я там. Красивый город, но очень шумный, многолюдный. Устаешь быстро там: куда ни сунься, везде люди, и все спешат куда-то. И куда, спрашивается? Тяжело дышится. Суета одна. А я люблю спокойную, размеренную жизнь.
— Оно и видно, какую ты себе избрал спокойную жизнь. Куда уж лучше?
— Поздно уже горевать. Молодой, глупый. Рос без отца. Некому было меня придержать. А одна мать что сделает? А нас у нее двое. Брат на два года младше меня. Отец ушел от матери, когда мне и девяти не было. Вот так беспризорно и рос, пока вором не стал. Пятно себе приобрел на всю жизнь,— искренне осуждал себя Енис. Ему явно хотелось исповедаться перед кем-то, излить наболевшее.— Мать у меня очень добрая, хорошая. Из последних сил билась, чтобы нас досмотреть. Мы не хуже других были и одеты, и накормлены. Да я вот бестолковым вырос. Сколько горя ей причинил! Ничего, постараюсь в старости ее хорошо досматривать. Такую мать поискать надо! Сюда приехала, добилась свидания со мной. Плачет: «Что же ты, сыночек, наделал? Чего тебе не хватало? У меня же платья нормального нет. Все для вас старалась, а ты мне такой «подарок».. За что?» Я не выдержал, разревелся: «Прости, мама! Бес попутал, не подумал, что делаю. Вернусь, жить хорошо будем. Увидишь, что я еще не совсем пропащий. Буду тебе помогать. Если посадят, из зоны деньги слать буду». Она мне: «Дурачок, разве мне твои деньги нужны? Ты сам мне нужен, хороший, добрый мой! Нужно, чтобы соседи, родные не упрекали, что я тебя не доглядела, не вырастила. А сейчас как мне быть, как объяснить, что ты не бандит, а просто бестолковый еще, не понимал, что делал? Как, сын? Мне же рядом с ними жить?» Так больно и тяжко было ее слушать. Но она права,— на глазах у паренька заблестели слезы. Но он не дал им воли и, овладев собой, спокойно и по-взрослому рассудительно добавил:
— Быстрее бы суд, да работать начать. Стараться стану, чтобы домой скорее попасть. Надо мать поберечь.
— А чего тебя в армию не забрали?
— Да как раз в это время суд шел по хулиганке, отсрочку сделали. Лучше бы пошел. В тюрьму не сел бы. Не повезло.
— Не отчаивайся. Ты еще молод, в жизни всякое бывает. Только за ум берись и больше глупостей не делай. А то видишь, как горько расплачиваться приходится. Тяжело, брат, понимаю. Мне не легче. Дочь маленькая, мать больная, старенькая, жена молодая — все ждут. А я вот здесь на нарах качаюсь. Тоже устал, замаялся, да жаловаться некому. Держаться надо, такая наша мужская доля...
Поступила команда собираться на прогулку. Но латыши от прогулки отказались. Глядя на них, отказался и Енис. Он явно боялся оставлять свои вещи без присмотра, чтобы их не украли в его отсутствие. Получилось, что из нашей камеры на прогулку отправились только я и Солодко. Как только мы оказались во дворике, Солодко заговорил:
— Валерий, зря ты с ними заедаешься. Мужик ты хороший, видать, честный, принципиальный, а они — дрянь. Ты латышского не знаешь. Так вот, они договариваются, как бы тебе отомстить. Не даешь ты им развернуться. Не могут они никого раздербанить. Ты им поперек дороги встал. Побаиваются они тебя малость. Вот меня с тобой выпроводили, а сами сейчас обсуждают, как бы раздеть Ениса. Им его вещи очень понравились. Смотри, осторожней будь. Как бы драться не полезли. Народ они ненадежный. А ты смелый. Но пойми и меня: мне тебя защищать нет никакого резона. Ты уйдешь из камеры, а я с ними останусь. Они меня затюкают. Ты физически здоровый, любого из них можешь уложить. И за словом в карман не полезешь. А их это бесит. Особенно твоя независимость. Не простят они тебе. Ох, не простят! Скандал назревает,— еще долго наушничал мне сокамерник. Я не презирал его. Понимал, что меня действительно могут забрать из камеры в любой момент, и Солодко отомстят за поддержку ненавистного сокамерника. Но я любил людей смелых и решительных:
— Слушай! Если они начнут меня бить вчетвером, ты не заступишься?
— Нет, прости, но я говорю правду.
— А вдруг они прикажут тебе вместе с ними избивать, держать меня, ты подчинишься?
— Не знаю, точно не могу сказать. Мне же с ними постоянно быть. Постараюсь отвертеться, уйти в сторону. Ну а там, как получится,— неопределенно отвечал он. Я понял, что в случае беды на помощь Солодко рассчитывать не приходится.
— Спасибо и на этом. Молодец, что предупредил. В общем, я тебя понимаю, хотя не одобряю. Но тебе видней, каждый своим разумом живет. А я за себя постою, никогда никому себя в обиду не давал. И унижаться ни перед кем не стану. Умирать, так стоя!
— Я вижу, что ты стойкий мужчина и голыми руками тебя не возьмешь. Поэтому и предупредил. Но моя хата с краю, я ничего не знаю. А ты смотри. Не зевай.
Наступило время обеда. Как только открылась кормушка, к ней с миской первым, как всегда, устремился Дирванс. Самый молодой, он был самым ненасытным. При всяком удобном случае старался первым ухватить лучший кусок. Он боялся только Томсона, которому угодливо уступал место, не забывая несколько раз напомнить об этом. И теперь, взяв миску с «клейстером», он услужливо поставил ее перед Томсоном, а вторую — возле себя. Потом стал подавать остальным. Мне подал в последнюю очередь, предварительно выбрав из расставленных на столе мисок ту, в которой, на его взгляд, была самая маленькая порция. Это меня задело, но не очень. «Клейстер» я никогда не мог съесть до конца. Остатки доедали сокамерники. Я и теперь не смог доесть надоевшую баланду и предложил остатки Енису, тот с удовольствием, быстро все доел и коркой хлеба вычистил обе миски. Все сокамерники, кроме меня, были не привередливы к пище и ели подряд все, что дают. Правда, Томсон иногда отказывался от ужина, но взамен вылавливал из мисок четверых латышей кусочки рыбы. Только ко мне в миску он боялся лезть со своей ложкой.
Во время ужина Дирванс опять подал мне миску, где, по его мнению, лежал самый маленький кусок рыбы. Предварительно он внимательно осмотрел содержимое всех мисок.
— Ты, помойный кот, что по мискам лазишь? В другой раз, как начнешь выбирать, кому какую подать, переверну содержимое тебе за шиворот,— сердито проговорил я.
— Не сдохнешь, если меньше нас съешь. Вон какую харю наел! — грубо вмешался Мужниекс.
— Кто бы говорил, да не ты. Твоя харя в два раза толще моей. Если не веришь, попроси у Томсона зеркало и посмотрись внимательно,— я не остался в долгу. Зеркала в камере не было. Но и здесь Томсон первенствовал. Маленький, величиной с пятикопеечную монетку, кусок зеркальца имел только он. Хранил вожак свою драгоценность в коробке с зубным порошком. И сокамерники пользовались им с разрешения владельца при подпольном бритье.
— Помолчи, лысый хрен! Все чем-то недоволен. Может, отделиться желаешь? Тогда сам становись у кормушки и забирай свою порцию,— недовольно бросил Альфонс.
— Мне не трудно и самому. Договорились,—успокоившись, ответил я. Уже давно я заметил, что и кусок хлеба мне выделяли поменьше. Но молчал, потому что и этого мне хватало. За длительное время «камерного» существования я приучил свой желудок к небольшому количеству пищи. И как ни странно, успешно поддерживал жизнедеятельность, хотя иногда случались головокружения, а вес уменьшился на 20 килограммов.
Время до отбоя пролетело незаметно. Умывшись, я забрался под одеяло и приготовился спать. Енис расположился на полу, расстелив матрац в проходе на грязном цементном полу. Но хождение по камере и разговоры не прекращались. Прокуренный воздух и разговоры не позволяли уснуть. Где-то около полуночи я услышал, что Дирванс негромко стал требовать у Ениса, чтобы тот отдал ему свои вещи. Остальные латыши тоже не спали и поддерживали его. Енис отнекивался, но тон сокамерников становился все жестче и требовательнее. Новичок явно был в растерянности. Тогда на помощь ему пришел я. Оторвав от подушки тяжелую голову, я громко и зло спросил Дирванса:
— Чего ты не спишь и другим не даешь? Иди, ложись. Что стоишь, как истукан, и бубнишь над ухом?
Тот от неожиданности вздрогнул, но, посмотрев на сокамерников и поняв, что они за него, истерично завопил:
— Тебе какое дело?! Спи давай! Без тебя разберемся. Воспитатель еще нашелся...
Эти слова еще больше разозлили меня:
— Енис, покажи-ка ты им всем фигу! Чего пристали к парню? Приключений захотелось? Давно сами пришли из других хат? Там были ниже травы, тише воды, ходили на четвереньках, головы выше стола не поднимали. А здесь осмелели, выпрямились и сами начинаете заниматься дербанщиной? Наглецы! Вам было приятно, когда отбирали ваши вещи? Молчите? А чего к парню пристали? Ему завтра в дорогу. Отдохнуть надо. И мне спать не даете. Неужто надо другие меры принимать?
— Молчи, образина нечесанная, пока дышишь! А то мы тебя враз порешим. Поборник прав человека нашелся! Живешь с нами на равных правах и еще не доволен! Заложить хочешь? Козел, что ли? Только попробуй, увидишь, что от тебя останется! — грозно рычал с третьего яруса Мужниекс.
— Я никогда не козлил и никого закладывать не собираюсь. У меня хватит сил за себя постоять. И его в обиду не дам,— как можно спокойнее ответил я и положил голову на подушку. В душе у меня все кипело от негодования. Но я сдерживал себя, не желая идти на обострение. Сдерживала меня и боязнь получить взыскание в личном деле, что могло отрицательно повлиять на характеристику и, в конечном счете, на срок наказания.
— Успокоился, струхнул, значит. Против силы не устоишь. Один в поле не воин,— ехидно заметил Альфонс с нижнего яруса. На этом разговор на русском языке прекратился. Земляки-сокамерники горячо и возбужденно о чем-то спорили по-латышски. Под этот гам я все-таки умудрился заснуть. Но вдруг проснулся от сильных толчков, сотрясавших кровать. Охваченный яростью я сел и взглянул вниз. Там, подо мной, на койке Альфонса лежал Дирванс и изо всей силы колотил ногами по металлической сетке моей кровати. Такой наглости я не ожидал. Не помня себя, я спустил ноги на живот хулигана и стал топтать его. Никто не ожидал такой быстрой реакции, все латыши растерянно смотрели, как я топтал их кореша. Считая, что отомстил обидчику, я поднялся на свою кровать и в этот момент заметил, как мелькнула мимо моей головы огромная рука Мужниекса. Он, вероятно, хотел схватить меня за горло, но промахнулся. Еще мгновение — и я бы сдернул его вниз, но что-то удержало меня. Молча лег я на свою койку и укрылся одеялом. Тело сотрясала нервная дрожь, в висках стучало, голова кружилась. И тут Мужниекс злобно закричал по- русски:
— Твое счастье, что моя рука сорвалась, а то бы я тебе перекрыл горлянку. Покрутился бы ты у меня, скотина безрогая.
— Посмотри лучше вниз. Если бы я тебя сдернул с койки, представляешь, что с тобой было бы? С двухметровой высоты стукнуться головой об цементный пол очень приятно? Как ты считаешь, подонок?
— Замолчи, скот, а то сейчас пришьем! — все еще угрожал Мужниекс.
— Нет, ты все-таки ответь: если бы слетел с третьего яруса, понадобились бы тебе врачи? — издевался я, оглядывая остальных сожителей. Альфонс, бледный, угрюмый, молча стоял у двери. Другие лежали на своих койках и с ненавистью смотрели на меня. «Караулит у двери,— подумал я.— Наверно, сокамерники поставили его там на случай, если я со страху рванусь за помощью к администрации. Дураки!..» А вслух посоветовал ему:
— Стража, скоро утро. Отдохни немного.
Альфонс, не ответив, лег на свою, теперь уже освободившуюся, койку. Молчал и Дирванс. Он укрылся одеялом с головой и повернулся лицом к стене. Енис по-прежнему лежал на своем матраце в проходе, опасливо поглядывая наверх. Постепенно физическая усталость и нервное потрясение взяли верх, и я погрузился в тревожный сон.
Проснулся, как обычно, от раздавшейся за дверью команды: «Подъем!» Немного полежал в постели, анализируя ночное происшествие. Голова была тяжелая, не отдохнувшая, но не болела. В камере было тихо. Хмурые сокамерники молча заправляли постели. А Енис уже свернул свой матрац и, сидя на нем, курил. Все вещи его были при нем. «Значит, испугались. То-то! Воры, грабители и бандиты, прокурор рядом, не развернетесь»,— мелькнула злорадная мыслишка и тут же исчезла. Начинался новый день и неизвестно, что он нес с собой. А если Томсон запишется на прием к оперу, да на меня накатает заявление, а его поддержат другие сокамерники, начнутся новые неприятности. Енис, конечно, скажет правду, но кому больше веры: двоим или пятерым?
Но все обошлось. Никто не закозлил. Наверное, потому, что утром корпусной сообщил о скорой отправке Ениса и Дирванса на этап. Как только он вышел из камеры, Дирванс запрыгал от радости:
— Братцы, суд! Наконец-то! Как все здесь опротивело. Проклятая тюремная жизнь! Все нутро выела. Дождался наконец-то!
— Сегодня 2 октября. Почему тебя дернули на праздники? Ведь 5, 6 и 7 — праздничные дни, день Конституции. Тогда у тебя суд будет только после седьмого. Неделю в КПЗ на голых досках спать придется,— подсчитал Альфонс.
— Почему суд после праздника? Третьего и четвертого рабочие дни, и его могут осудить в это время. После праздника он уже будет в осужденке,— сделал вывод Томсон. С ним никто не спорил.
— А все-таки хорошо, что суд! Все надоело... А тут еще сокамерники попадаются скотские, не люди,— он выразительно посмотрел на меня.
— Чтобы рядом с тобой оказались люди и относились к тебе по-человечески, надо самому, прежде всего, быть человеком. А то не успел опериться, а уже вон сколько натворил! Думай, Ингвар, думай. Ты только начинаешь жить. У тебя впереди много лет колонии, а там трясина может быстро засосать, а потом и жизнь не мила будет,— доброжелательно, не приняв вызова, предостерег я сокамерника. Но тот не принял, не оценил товарищеское наставление и грубо ответил:
— Не твоя забота! Как хочу, так и ворочу. Будет еще каждый встречный указывать, как мне жить. Я сам себе хозяин.
— Хозяин себе, конечно, ты сам,— занудливо продолжал я.— Но ты еще молод и зелен. Все будет зависеть от того, в чьи руки попадешь, в какое общество. Дело твое, конечно. Но мне жалко, когда гибнут такие молодые, как ты, калечат душу, становятся садистами, жестокими, безжалостными людьми. Вот в чем дело. Я тебе добра желаю. А ерепениться не нужно.
— Добра желаешь, а вчера ногами месил. Говоришь одно, делаешь другое. Пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву,— возразил юноша.
— Что посеешь, то и пожнешь. Не трогал бы ты меня, и я бы тебя не тронул. Ты сам виноват,— ответил я. Сокамерник опять хотел что-то возразить, но Мужниекс упредил его:
— Не говори с ним. Не трепи зря язык. Он еще свое получит. Обнаглел, дальше некуда. Дай ему волю, начнет свои порядки устанавливать. Здесь тюрьма, а не воля. Свои законы и по ним мы живем, понял, рыжий? — И хлынул поток грязной зэковской брани...
— Я слишком стар, чтобы слушать такие речи. Менять свои взгляды и приспосабливаться ко всякому дерьму тоже не желаю. А законы людьми устанавливаются. Большинство, конечно, и тут берет верх. Но не всем же мириться с тем, что не нравится. Кто молчит, а кто и сопротивляется. Это уже от характера, от человека зависит. Если законы во вред человеку, то рано или поздно они отмирают, на смену им приходят другие, человеколюбивые. Ты же хочешь сохранить волчьи законы. Я против. Поэтому конфликты у нас неизбежны. И не известно еще, чья возьмет в этой борьбе,— обстоятельно ответил я и стал умываться. Мне показалось, что такая речь произвела сильное впечатление на сокамерников. Больше никто не стал со мной спорить. Во время завтрака я взял из кормушки свою порцию хлеба и баланды, тем самым бросая вызов сложившимся в камере порядкам.
«Вот,— скажет иной читатель,— рассказчик любуется тем, насколько он сам мелок, тщеславен, капризен и неуживчив...» Нет, я не настолько глуп, хотя никогда не был очень высокого мнения ни о своих интеллектуальных, ни о душевных качествах и свойствах. Анализируя свое тогдашнее поведение, я хочу лишь на личном примере показать, как в бесчеловечных условиях заточения деградирует личность, истощаются ее физические и психические возможности, и во что развивается терпимая в обычной жизни психологическая несовместимость людей. Да, я вел себя нередко, как собака на сене, по принципу — ни себе, ни людям, тем более, что многих из наглецов — сожителей по камере — я за настоящих людей не считал.
Как говорили древние римляне: умному — достаточно. Хотя об уме других и своем каждый судит по своим меркам, и даже законченный дурак не считает себя таковым. Под умом, в данном случае, я разумею понятливость. Надеюсь, вы поняли, что я хотел сказать в этом рассуждении? Тогда — достаточно.
День тянулся медленно и скучно. Дирванс, готовясь к этапу, несколько раз перекладывал свои немногочисленные вещи: пару носков, мыло, носовой платок, зубную щетку. Читал обвинительное заключение, готовил свою речь на суде. Писать последнее слово ему помогал Томсон. Енис часто курил, посматривал на дверь: чувствовалось, что он нервничал. Чтобы отвлечь его, я не раз заговаривал с ним, и он охотно отвечал на мои вопросы, рассказывал о себе. Другие сокамерники лежали, спали, говорили по-латышски, играли в шахматы, в домино. В камере было жарко, сыро и удушливо. Угнетал, давил на психику зловонный запах, к которому я никак не мог привыкнуть. Мрачное, замкнутое пространство изолятора угнетало психику. Я читал «Дон Кихота» и очень обрадовался такой фразе:*«Свобода — одно из самых драгоценных достояний человека, и счастлив тот, кому небо даровало кусок хлеба, кому не нужно быть за него обязанным другому!» Я же был лишен этого самого драгоценного достояния человека.
Как только двое сожителей покинули камеру, сразу почувствовался приток свежего воздуха. Пять человек — не семь. В эту ночь я хорошо отдохнул и утром почувствовал, что тело стало крепче и голова не кружится. Но за день воздух в камере опять становится спертым, вонючим, и в теле свинцовым грузом нарастает усталость...
Постоянная тревога о доме, о том, что вдруг отменят судебное заседание, полнейшая изоляция от жизни изматывали духовно и физически. Не видя выхода, я чувствовал себя на грани срыва. На следующий день после ухода Ениса и Дирванса в камеру поселели нового арестованного. Это был высокого роста, худощавый, стройный мужчина лет пятидесяти. Его седые волосы были острижены коротко, под «ежика». Красивое бледное лицо. Светло-серые глаза смотрели задумчиво и печально. Как только он вошел, Томсон, окинув его оценивающим взглядом, шепнул мне по-русски:
— Петух из зоны.
Я не знал, по каким признакам он определял это. Сам же Томсон на неоднократные любопытные вопросы сокамерников не отвечал. Новичок забрался на третий ярус. Я узнал, что он латыш и зовут его Анвар. Он уже отсидел два года из 14 за убийство, а теперь его возвратили из «пятерки» в связи с новым расследованием. Впечатление новичок производил неплохое. Молчаливый, подтянутый, аккуратный... С собой он принес немного вещей, тетради, продукты. Все это он открыто разложил, пересмотрел и снова сложил в сумку. Потом достал очки, взял ручку и, сидя на койке, стал что-то писать. Подолгу обдумывая какие-то свои формулировки или слова, он поднимал голову, и его отрешенный взгляд безучастно блуждал по камере, останавливался то на одном, то на другом сожителе. Потом он опускал голову и что-то записывал. Со старожилами камеры он разговаривал по- латышски, поэтому смысла их разговоров я не понимал. Но когда пришло время обеда, Айвар за стол не сел, остался на койке, а ел то, что принес с собой, отказавшись от казенной баланды. В камере для дележа дополнительных продуктов существовал общий котел и все, за исключением петухов, входили в него. Новосел ни с кем не поделился продуктами, за стол его не пригласили и в общий котел не приняли, несмотря на то, что у сокамерников слюнки текли при виде сала и колбасы, демонстративно поедаемых новичком. Это меня окончательно убедило в том, что в камере снова появился петух, с которым никто не хотел иметь ничего общего, а тем более есть вместе и делиться продуктами. Это нерушимый тюремный запрет. И тот, кто его нарушал, сам автоматически переходил в разряд опущенных. Такое клеймо никому не хотелось иметь. Мне было наплевать на все эти тонкости тюремного этикета, но я был один, и с моим мнением не особенно считались. Ужин свой новичок съел возле унитаза. Мне было жалко смотреть, как старший по возрасту мужчина жует возле туалета, а молодежь за столом будто не замечает его. Но я решил пока не конфликтовать, посмотреть, что же будет дальше. К тому же ночное происшествие еще было свежо. Не хотелось снова лезть на рожон. Но латыши-сокамерники не очень считались с моими желаниями. После ужина, очевидно, сговорившись, они стали провоцировать меня на конфликт. Все началось с язвительных шуток и подколок, на которые я не особенно реагировал. Тогда Мужниекс грубо потребовал:
— Слушай, держиморда, отдай сумку!
— Какую еще сумку? — не понял я.
— Ту, что сшил из моего плаща.
— Нахал ты, однако. Я же тебя просил: не задевай, не трогай меня. Что ты за человек? Пойми, я никого из вас не боюсь, но очень не хочется пускать в ход кулаки. Могу и покалечить кого... Прошу, Дайнис, не трогай меня: нервы на пределе, могу и сорваться,— старался я убедить наглеца. Но тот, ободренный молчаливой поддержкой сокамерников, слез с третьего яруса и упорно продолжал заводить меня:
— Я тебе говорю, отдай сумку, или я ее сам заберу. Мне твои речи до задницы.
— Слушай, будь умницей. Чего пристал? Хочется иметь приключения? Тебе же скоро в суд ехать. Вот и езжай со спокойной душой,— предпринял я еще одну попытку урезонить нахала. Но Мужниекс не слушая меня, он орал свое:
— Допрыгался, осел безмозглый! Мы тебя научим
Латвию любить! Будешь всю жизнь нас помнить! На кого руку поднял? На латыша? А ну, давай сумку по-хороше му. Не отдашь, сам заберу.
Я не выдержал:
— Ты, болван, лезь в свою берлогу и сопи там в две дырки. Понял, ты...— выругался я. Провокатор подбежал к вешалке, где среди других вещей висела моя сумка, и попытался снять ее. Я бросился к вешалке, оттолкнул от нее Дайниса и срывающимся от бешенства голосом предупредил:
— Не тронь! А то по зубам получишь!
Опомнившись, уже более спокойно попросил его:
— Уймись. Не толкай меня на грех.
Но Мужниекс, оскалив зубы, бросился на меня, схватил за грудь, с треском разорвав рубашку в клочья. Уже не давая отчета своим действиям, я размахнулся и ударил в мясистую, багровую рожу. Массивная фигура пошатнулась, отступила и застыла. Когда пелена гнева спала с глаз, я увидел, что Мужниекс стоит, опираясь руками о козырек кровати. Из носа его обильно капала кровь, расплываясь алым пятном на цементном полу. Когда он приподнял голову, кровь потекла по подбородку и груди на белую тенниску. Он тупо и со страхом смотрел на меня, Ко мне подбежал Солодко и схватил за правую руку. Меня будто кипятком ошпарило, подкатила новая волна бешенства, и я истерически завопил:
— Говорил, что не стоит меня трогать! Никто не подходи! Любого убью! Всем оставаться на местах! К две рям никого не пущу! Только троньтесь с места...
Постепенно волна истерики пошла на убыль. Но все еще горячечным взором я глядел на онемевших, недвижных сокамерников. Ко мне снова подскочил Солодко и попытался схватить за руку, но я оттолкнул его от себя:
— Не подходи, щенок! Уйди! А то смажу!..— яростно прохрипел я. Солодко в испуге отступил и скрылся за спинами сокамерников. Увидев, что белая тенниска Муж- ниекса на груди покраснела от крови, я еще сиплым от нервного потрясения голосом сказал:
— Иди умойся, а то весь в крови, как поросенок!
Я уже боялся, что в любой момент в глазок может
заглянуть работник изолятора, и тогда не избежать разбора. Но Мужниекс продолжал стоять на месте, а кровь из носа все капала на тенниску.
— Слышишь, мумия! Иди умойся! А то сейчас заглянет пушкарь и всем нам будут неприятности,— настойчиво повторил я, обдумывая, как бы этот инцидент замять. Но противник, всхлипывая, заявил:
— Я сам вызову корпусного: пусть разберется с тобой...
— Попробуй только сунуться к двери, получишь снова,— предупредил я. А мысль лихорадочно работала: как удержать сокамерников от жалобы? Ничего путного не придумав, решил пока поиграть на их психике:
— Говорили мне, и больше всех ты, Дайнис, что я козел, что застучу. А сейчас сам собираешься козлить? Ты же первый полез, а сейчас хочешь на меня грязь вылить? Как получил сдачи, так уже готов наушничать? Кишка тонка у тебя оказалась...
— Не уговаривай, все равно сдам. Получишь свое, в трюм пойдешь,— с тупым упорством твердил Муж- ниекс.
— Мужик еще называется... Получил и как тряпка обмяк. А хвалился: я да я. Где же твое самолюбие, где же гордость? Баба ты! — давил я на психику. Но Дайнис продолжал твердить, как заезженная пластинка:
— Все равно сдам. Получишь, в трюм пойдешь.
— Попробуй только подойти к двери,— снова пригрозил я.
Земляки перекинулись несколькими фразами по-латышски. Тогда Мужниекс сел на свою кровать. Из его носа по-прежнему капала кровь.
— Утри сопли. Развесил нюни. Иди умойся. Тебе же в случае чего хана: ты же первый начал. Я же тебя просил, предупреждал?
Но, видимо, сокамерники уже договорились, как действовать, ибо Альфонс вдруг заявил:
— Чем ты докажешь, что он виноват? Мы все подтвердим, что ты беспричинно избил его. Он не один. А у тебя оправдания нет. Нас вон сколько,— он обвел вокруг рукой.
— А мне и доказывать ничего не надо. Рубашка порвана. К тому же только я один по первой ходке иду. Мне больше веры. А он мне еще и рубашку вернет,— ответил я, понимая, что при общем сговоре трудно будет оправдать себя. И поэтому снова стал лихорадочно обдумывать варианты защиты: «Самому заявить — не стоит опускаться так низко. Что предпринять? А если вернуть ему сумку. Может, совесть заговорит. Попробую...»
— Слышишь, Дайнис. Я тебе сумку отдам, только не козли.
Пострадавший молчал, и я расценил это как согласие. Сняв с вешалки свою сумку, я достал из нее тетради и бросил на койку Мужниекса. Тот встал, взял ее, повертел в руках и пересел на койку Томсона. Они о чем-то говорили. Мне надоело дежурить около двери и, ополоснув разгоряченное лицо водой, я пошел к своей койке и лег, полагая, что конфликт исчерпан. Но не тут-то было. Не успел я поправить подушку, как Мужниекс оказался у двери и быстро нажал кнопку сигнализации. Мне ничего не оставалось, как ждать. Снова в голове заметались сумбурные мысли: «Видимо, теперь не отвертеться... Проклятая камера. Нервы все-таки сдали... Расскажу все так, как было... Снова разборы, выяснения... А впереди — суд... Точно, утянут в трюм! Личное дело будет испорчено. До сих пор обходился без наказаний... Осталось 25 дней до суда. Год, как я в душных, вонючих камерах, долгий год серой унылой жизни...» Стукнула дверь. В камеру вошли дежурный по корпусу с контролером. Все встали со своих мест, построились.
— Что у вас тут произошло? Уже спать пора, а вы все шумите. Чего не умоешься? Подумаешь, нос разбили,— обратился корпусной к Мужниексу. Тот смущенно залепетал:
— Вот он меня избил. Не дает здесь никому житья.
— Разберемся. За что ты ему нос раскромсал?
— Он полез ко мне с кулаками, порвал мне рубашку. Вот видите: вся в дырах... Хотел стащить у меня сумку, вещи... Я не хотел его бить.
— Я тут с вами не разберусь: сообщу дежурному по учреждению. А пока обоим с вещами и с постелью — на выход. Да живо, поворачивайтесь! У меня времени немного.
Я бросился сворачивать матрац, собрал вещи. Осмотрелся: как будто все... На прощание взглянув на сокамерников, попросил Томсона:
— Надеюсь на твою порядочность. У вас, конечно, будут брать объяснения. Напиши все, как было на самом деле. Не надо лгать. Я тебя очень прошу.
— Хорошо, иди. Там видно будет. Я же не вмешивался? Мое дело сторона,— ответил он неопределенно.
Собрал свое вещи и Мужниекс.
— Готовы?
— Да!
— Пошли!
— Пока, мужики. Надеюсь на вашу совесть,— снова попросил я всех на прощание.
Корпусной, худощавый старшина, определил меня в этом же коридоре в камеру № 210. Когда закрылись запоры на дверях, я, бросив на голую кровать свои постельные принадлежности, перевел дух и осмотрелся. Это была этапная камера, по размеру примерно такая же, из которой я переселился. Но здесь стояло шесть металлических двухъярусных коек. Окно было забрано металлическими прутьями и решетками; видны были щели, через которые днем, очевидно, проникал свет. Сейчас, ночью, камера освещалась единственной вмонтированной в потолок и закрытой решетчатым кожухом тусклой лампочкой. «Ватт 60, не болше»,— подумал я. Потолок, стены и пол были такие же грязные, как и в моей прежней камере, но в отличие от той — сухие. Разбитый унитаз. Возле него куча мусора. В камере было свежо и прохладно: в оконной раме не хватало одного стекла. Расправив матрац, я устало присел на него и задумался: «Как будет, так и будет... Но зато как здесь легко дышится! Вот что значит свежий воздух после спертого, зловонного! Сейчас, конечно, поволокут писать объяснение. Завтра воскресенье, нерабочий день. Наверняка до праздников не разберутся. Значит, придется провести здесь, как минимум, четыре дня. Отдохну. Приду в себя. Соберусь с мыслями. Постараюсь убедить, объяснить...»
Заскрипела открывающаяся дверь, и меня повели в будку дежурного по корпусу на второй этаж. Оказавшись внутри ее, я обратил внимание, что ее стеклянные стены позволяют хорошо видеть весь коридор изолятора. В ней находились солдаты внутренней службы с повязками дежурных на рукавах. Сидевший за столом капитан внимательно посмотрел на меня и спросил:
— Что у вас произошло? Докладывайте, только кратко.
Я торопливо и сбивчиво объяснил ситуацию.
— Хорошо. Я с вами разбираться не буду; доложу по инстанции. Завтра придет оперативный работник, пускай и разбирается. А вы,— обратился он к старшине,— возьмите с него объяснение и пусть ночует один.
— Понял! — отчеканил тот.
— Все. Будьте здоровы! — капитан удалился. Дежурный по коридору дал мне форменный бланк объяснения. Попросив ручку, я стал быстро писать, что неоднократно письменно обращался к руководству изолятора, прокурору по надзору, а также Генеральному прокурору СССР и в Верховный Совет с просьбой улучшить условия моего содержания: оградить меня от ранее судимых, поместить вместе с бывшими работниками административных органов. Однако мне создали невыносимые бытовые условия, поместив вместе с лицами, привлекаемыми за тяжкие преступления против чести и здоровья граждан, создав тем самым предпосылки для конфликтов. Сокамерники меня постоянно унижали, оскорбляли. А сегодня из хулиганских побуждений сокамерник Муж- ниекс, ранее судимый, набросился на меня, изорвал рубашку, пытался меня избить. Я был вынужден нанести ответный удар, от которого у него из носа потекла кровь. Тем самым я уберег себя от дальнейших оскорблений и издевательств.
В заключение я попросил создать мне нормальные условия содержания под стражей в соответствии с действующими нормативными документами. После этого поставил число и подпись Корпусной внимательно прочел объяснение, любопытно посмотрел на меня и произнес:
— Пишите вы грамотно. А вот они говорят, что вы виноваты. Кому же верить?
— Конечно, там же все латыши, а я белорус. Им легче договориться. Они постоянно на своем родном языке общаются, а я среди них, как белая ворона. Да и мешал я им устанавливать в камере уголовный беспредел. Вот и произошел конфликт. Рано или поздно он должен был случиться.
— Ладно. Я с вами разбираться не буду. Не моя это задача. Соберу все объяснения и отдам в оперчасть. Пусть там разбираются. Ночь вы проведете в камере, куда я вас поместил. Сейчас вас заберут.— Он позвонил контролеру. Пришла женщина и отвела меня в камеру. Я остался один...
Задумчиво посидев некоторое время на койке, я встал и начал ходить по пустой камере. И как-то странно было делать три-четыре шага от двери до койки и обратно, не наталкиваясь ни на кого, свободно размахивая руками. Я даже попробовал маршировать, высоко поднимая ноги, но быстро устал. Дышалось легко, но беспокойные мысли не давали покоя. Опять стал прикидывать и взвешивать, как лучше защититься. Решил еще больше разодрать свою рубашку, чтобы сильнее воздействовать на опера, который будет решать мою судьбу. Как-никак она служила вещественным доказательством нападения. Рубашка рвалась легко, была совсем изношенная. Ее купила мне жена на юге, куда мы совершили свое свадебное путешествие. Тогда мы неплохо провели время. Побывали в нескольких курортных городах. В одном ночном кафе повар за открытой стойкой жарил картошку и выдавал ее в качестве гарнира только своим знакомым. А какой же белорус откажется от бульбы? Но мне усатый грузин не дал желанного блюда. Тогда к нему подошла жена, и тот не устоял перед красивой блондинкой, подал ей целую тарелку, отказавшись даже взять деньги... Сколько лет с тех пор прошло? Инночке нашей уже шесть... Значит, семь лет... А так недавно все это было! Будто вчера... И вот я рву эту рубашку, чтобы спасти свою шкуру от наказания. Рву, значит, память о тех незабываемых счастливых днях... Нет, нет, я рву ее, чтобы сохранить память. Не лишиться ее, избавив себя от голода и истощения в карцере. Там не будет ни постели, ни еды, ни тепла, ни покоя. Нервы натянуты до предела. Конфликт, кажется, еще больше разболтал их... Я решил спать. Было прохладно, но приятно от ощущения свежего воздуха, одиночества и тишины. Хотя нервное напряжение спало, сон не приходил. В голове, перебивая друг друга, мелькали обрывки мыслей, но выработать логически стройную систему защиты никак не удавалось. Далеко за полночь я сдался и уснул.
Кое-как позавтракав, я, стараясь упредить вызов к начальству, достал из сумки тетрадь, вырвал из нее двойной лист и стал писать заявления. Сначала прокурору по надзору за ИТУ, потом Генеральному прокурору СССР. В них я описывал свои скитания по камерам следственного изолятора, отношение администрации, бытовые условия в камерах и состав сокамерников. Требовал создать нормальные условия пребывания под стражей и просил объективно проконтролировать разбор случившегося скандала. Успел написать также и заявление в Верховный суд Латвийской ССР, в котором ставил те же наболевшие вопросы. Посидел, походил и тут пришла еще одна, кажется, толковая мысль: написать заявление в Президиум Верховного Совета СССР об организации встречи с депутатом. Тезисно я изложил причину такой просьбы: необоснованное, незаконное привлечение меня к уголовной ответственности, издевательское отношение администрации учреждения. Я подчеркивал, что мне как бывшему npoKVDODCKOMy работнику специально создают невыносимые условия, провоцируя на скандалы. Свою просьбу о встрече с депутатом я аргументировал тем, что не лишен гражданских прав, а лишь ограничен в них. А поэтому отказ от выполнения такой просьбы равносилен отказу любому другому гражданину СССР. Как потом выяснилось, на составление всех этих бумаг я затратил более шести часов. Но время прошло незаметно быстро. И как только я дописал последнюю строчку, дверь камеры отворилась, и миловидная женщина назвала мою фамилию, приказав следовать за ней. Прихватив исписанные листы, я вышел из камеры. Настроение было приподнятое: я был намерен дать бой начальству, убедить оперативного работника в своей невиновности.
Стоя в положении руки за спину, в которых крепко сжимал бумагу, я молча слушал старшего лейтенанта.
— Вы понимаете, что я обязан собрать на вас материал и отдать его начальству, чтобы на вас за нарушение режима наложили взыскание в виде 15 суток ареста? — начал он спокойным тоном.— Можем даже возбудить уголовное дело. Основания у нас полнейшие. Я уже видел потерпевшего — у него опухший нос, под глазами следы побоев, все лицо разнесло. Сокамерники написали в своих объяснениях, что вы — зачинщик, и, отбирая у него сумку, избили. Что вы мне тут написали в своем объяснении! Пять слов! Вот бумага, пишите все подробно о скандале.— Работник СИЗО сморщился, как от кислого яблока, поднеся вчерашнее объяснение к своему лицу: — Ерунда написана! Переписывайте! — И протянул мне вчерашнее объяснение. Я спокойно отпарировал:
— Объяснение краткое. Но какие нужны подробности? Я же указал, что неоднократно просил вас создать мне условия содержания в соответствии с инструкцией.
— Но это к совершенному вами поступку никакого отношения не имеет,— недовольно перебил меня старший лейтенант.
— Имеет, еще какое! — не сдавался я.— Вы зря так со мной говорите. Я же не мальчик. Уголовное дело против меня, при всем желании, вы никогда не возбудите, ибо в ходе расследования всплывут такие факты вопиющего беззакония, которое творится в изоляторе с вашего молчаливого согласия, что вам не поздоровится. Поэтому, если хотите, чтобы я написал более обширное объяснение, прочтите вот эти мои жалобы и заявления, которые я хотел бы передать в спецчасть для отправки по адресам,— я протянул старшему лейтенанту исписанные листы бумаги.
Он явно не ожидал такого поворота в разговоре и раздраженно заговорил:
— Вы очень грамотный, спору нет. Но вы, к сожалению, все еще забываете, где находитесь! И ваши замечания были уместны, когда вы работали в прокуратуре, а не сейчас. У меня здесь очень много разных персон обретается, но дорожка для всех одна — в камеру, под замок. Мы здесь хозяева, и ключи от замков у нас. Нам и решать, как, куда и кого сажать. Нам решать, кого наказывать, а кого миловать. Вас же, я обещаю, мы непременно накажем по всей строгости советского закона. А пока идите и пишите объяснение. Там, в боксике, куда вас отведут, есть столик.— Он вызвал по телефону контролера, и тот отвел меня в стакан. Я сел за небольшой, вмонтированный в стену столик, глубоко вздохнул и стал писать. Прошло около часа, пока я окончил описывать события. Вскоре меня снова привели в знакомый кабинет. Теперь в нем было двое. За столом горделиво восседал работник учреждения в форме подполковника внутренней службы. Небрежно взглянув на вошедшего, он взял какой-то журнал и сделал вид, что углубился в его чтение. Старший лейтенант сразу спросил:
— Ну как, написали?
— Да... Извините, а вы прочли мои бумаги?
Не ответив на мой вопрос, он протянул руку за объяснением:
— Покажите.
Я отдал объяснение. Прочитав, старший лейтенант передал его подполковнику. Тот мельком пробежал по первым и последним строкам объяснения и, отложив его в сторону, снова сделал вид, что читает журнал.
— Опять вы не то написали! Я же говорил, что надо изложить только сам факт инцидента. Остальное нас не интересует.— В голосе оперработника прозвучало недовольство, которое я понял, как желание оправдаться перед подполковником.
— Вас, конечно, не интересует. Я понимаю. Но зато меня очень. Нельзя же любой факт понять без причин, его породивших. Я упредил удар сокамерника и нанес ему ответный удар. А что это так, подтверждает моя порванная рубашка. Согласитесь, ведь и сам потерпевший написал, что я один раз нанес ему удар. Так? После драки не было. Значит, рубашка была порвана до нанесения удара. Я защищал свою честь и достоинство. Вы же не станете отрицать того, что очевидно и логично,— заявил я и выжидающе посмотрел на подполковника. Тот это понял и пренебрежительно спросил, будто не знал:
— Вы кем работали до ареста?
— Прокурором следственного отдела Белорусской транспортной прокуратуры.
— Мда, мда,— барабаня пальцами по столу, многозначительно произнес он.— Очень вы грамотно все разложили. Спору нет. Но ведь у парня есть следы побоев, а у вас их нет. А рубашку можно и самому порвать. Дурное дело не хитрое...
— Не шутите так. Как только корпусной зашел в камеру, он увидел порванную на мне рубашку и в объяснении это отразил. Да и сокамерники все видели. Конечно, в вашей власти заставить их переписать заявления и написать нужные. В ваших интересах заставить корпусного солгать. Но это для человека, добросовестно дослужившегося до подполковника, будет, мягко говоря, несолидно,— льстиво заявил я и поинтересовался: — Извините, пожалуйста. А вы кем будете по должности?
Подполковник, напустив на лицо маску безразличия, грузно поднялся из-за стола и, коротко бросив старшему лейтенанту: «Разбирайтесь сами!» — вышел из кабинета. После продолжительного молчания старший лейтенант заявил:
— На днях выйдет на работу майор Воронцов. Я подготовлю и отдам ему материал на вас. Но наказания вам все равно не избежать! Мы никому не позволим безнаказанно дебоширить.
— Удивляюсь вашей решительности и оперативности. В камерах процветают разбой, грабеж, физические издевательства и нравственные унижения. Люди ползают по полу на четвереньках, боясь поднять голову выше стола, едят, сидя на параше. У них отбирают одежду, еду, постель. Этого вы не замечаете. А тут, вместо того, чтобы обстоятельно разобраться, сразу безапелляционно заявляете, что будете меня наказывать. Что ж, пожалуйста. Но вам же придется отвечать за незаконный приказ. Лично вам! Его отменит прокуратура. Я завалю ее жалобами на вас. И рубашку вы мне новую дадите и Мужниек- са накажете,— все более распаляясь, говорил я.
— Мне ни к чему ваши беспардонные заявления. И никакой рубашки вы не получите. Не надо наглеть. Пока, до приезда Воронцова, побудете в этой камере.
Потом вас вызовут для ознакомления с распоряжением,— раздраженно заявил старший лейтенант и, давая понять, что разговор окончен, вызвал контролера.
— Не забудьте отдать мои заявления в спецчасть для отправки,— попросил я, уходя.
Придя в камеру, я устало опустился на койку. Каждое посещение начальства не успокаивало, а еще больше раздражало меня. Впереди были три нерабочих дня: 5 и 6 октября — предпраздничные, выходные дни и 7 — День Конституции. В это время никто вызывать меня не будет. Три дня одиночества и скуки, переживаний и раздумий. Хорошо хоть, что условия нормальные, отдохнуть, подумать можно. Ничего иного и не оставалось, как думать, вспоминать, мечтать и ждать, ждать и еще раз ждать...
После отбоя я приготовился спать. Все-таки хорошо дышать свежим воздухом. Но, как и в прошлую ночь, не спалось. Вдруг померещилось, что что-то живое и белое показалось из разбитого унитаза. Я напряженно стал всматриваться. Долго ждать не пришлось. Из раковины осторожно высунулась мокрая голова, а потом вся огромная черно-серая крыса с длинными усами. Я незаметно протянул руку к лежащей рядом с кроватью тапочке, но крыса заметила это движение и шустро нырнула в горловину унитаза. «Ну вот и гости пожаловали. А думал, что один буду здесь жить». Вставать не хотелось, сон не приходил, и я с нетерпением ждал нового появления гостьи.
Крыс я не боялся. В деревне в детстве приходилось часто видеть их в подсобных помещениях, подвалах. На них мы ставили капканы, крысоловки. Наша старая, большая кошка шустро ловила крыс, но никто не замечал, чтобы она их ела. Просто душила и бросала. Кошка любила спать на одеяле у меня в ногах; просыпаясь, я часто ощущал ее теплую тяжесть...
На этот раз пришлось долго ждать. Наконец, решив, очевидно, что я уснул, крыса неспеша выбралась наружу и стала шарить в куче мусора возле унитаза. Я прицелился и изо всей силы швырнул в нее тапочкой, но промахнулся, и крыса мгновенно скрылась в унитазе. Я вскочил и заглянул туда. Никого и ничего. От унитаза отходила толстая труба, в нее, значит, крыса и нырнула. Не зная, что предпринять, я осмотрел камеру, но так ничего и не придумав, в конце концов решил спать. Сквозь сон я несколько раз ощущал будто по мне кто-то пробегал. Но может мне просто показалось, почудилось?
ПРАВО ТОПОРА
Утром меня вывели на прогулку. Погода изменилась — набежали тучи, но пока было сухо и тепло. Знакомая женщина-контролер, увидев меня, удивленно спросила:
— А чего это вы один?
— Одному лучше. Я, как мама, люблю одиночество. Сами понимаете: День Конституции. Надо его без помех отпраздновать...— Женщина была молодая, красивая, мило улыбалась. Чем-то отдаленно она напомнила мою красавицу жену, и у меня защемило в груди.
Придя в камеру, размягченный воспоминаниями о доме и жене, я тяжело вздохнул, посидел и снова принялся писать жалобы.
Днем крыса не появлялась, но чтобы исключить появление неприятной гостьи ночью, я придумал поставить «баян» на горловину унитаза. Полностью закрыл отверстие, выщербленную дыру заткнул сбоку тряпкой.
Где-то около полуночи меня разбудил скрип открывающейся двери. В камеру вошли двое мужчин Один, лет пятидесяти, высокий и толстый, с большим животом, другой — помоложе, приятный, стройный. Измерив их полусонным взглядом, я полюбопытствовал:
— С этапа, что ли?
— Да-
— Располагайтесь. Будьте, как дома, не забывайте, что в гостях,— сострил я.
— Да... Тюрьма наш дом. Это теперь надолго,— наигранно огорченно сказал толстяк.
— Вижу, вы с котомками. Может, пожрать что есть? — по-зэковски, бесцеремонно поинтересовался я и пояснил: — Голодный, на одной баланде около месяца живу. Очень бы неплохо перехватить чего-нибудь домаш- ненького, вкусненького...
— Отчего же? Найдем, что поесть. Сами тоже с удовольствием перекусим,— говорил толстяк, вынимая из сумки полпалки колбасы и бумажный кулек. Неспеша стал его разворачивать. У меня от нетерпения заурчало в животе, рот заполнила слюна...
— Вот, видишь, сало домашнее топленое. Мать на скорую руку собрала,— объяснял владелец, жестом приглашая к столу.— Хлопцы, не стесняйтесь, жуйте! — и сам первый отломил кусок хлеба и стал им черпать желтоватый жир. За ним последовали и мы...
— Цивильный хлеб, сразу чувствуется. Не спутаешь с тюремным. Вон у меня еще кусок остался, можете попробовать. Мякина и вода. А до завтра превратится в камень, крепкий и тяжелый, убить человека можно.
— А как же магазинный? Мне-то пару булок старуха передала. Теперь вот меньше пол буханки осталось,— в русском говоре толстяка чувствовался сильный акцент. Он аппетитно уплетал бутерброд, обильно смазанный жиром.
— А как про убийство заговоришь, сразу аппетит пропадет...
— Не напоминай. И так тяжко. Я сел за убийство жены. Отомстил подлюге. Так ей и надо: больше гулять не будет,— Мне трудно было понять, говорит новичок правду или сочиняет. Я недоверчиво относился к таким случайным знакомствам. Часто заключенные пускают пыль в глаза, стараясь приписать себе тяжкие преступления (убийство, разбой), чтобы возвыситься в глазах зэков и тем самым обезопасить себя.
— Как тебя зовут? — вдруг спросил он.
Я назвал себя.
— А меня — Харис. Латыш, значит, 51 год.— В душе защемило — я вспомнил недавнего сокамерника-психа Хариса...
— А тебя как? — спросил теперь я молчаливого второго, который жадно ел, насмешливо посматривая на толстяка.
— Анатолий,— и тут же добавил: — Я — русский. Закончив еду, стали укладываться спать. В отличие от меня, у вновь прибывших не было постельных принадлежностей. Но у каждого была верхняя одежда: у Хариса — куртка, у Анатолия — телогрейка. Постелив их вместо матрацев на сетки кроватей, улеглись. Но никто не спал. Мне тоже не спалось, сон перебили, да и переполненный желудок мешал. Хариса потянуло на исповедь — рассказ. Анатолий лишь изредка перебивал его, вставляя свои замечания...
— Учились мы с ней в одной школе. Уже с 8 класса потянуло меня к ней. Красивая, стерва, и не глупая. Умных баб среди красивых редко встретишь. Эта казалась исключением. Втрескался по уши. Я тоже был привлекательный. А она бегала за другим. Меня это бесило и дергало. С соперником у меня доходило до скандалов...— рассказчик задумался, закурил.
— И чем же кончилось ухаживание? — спросил Анатолий и, не дожидаясь ответа, вставил: — Бабы — народ нестойкий. Ежели за ней долго ухлестывать, сдастся. Особенно если комплименты говорить и подарки преподносить. Да постоянно говорить ей, что она лучшая на свете: всех милее, румяней и белее. Тогда уступит...— он тоже потянулся за сигаретой.— Дай прикурить...
— Ну, окончили мы школу. Она на год младше меня. А через два года, точно как ты говорил, когда вернулся я из армии, сдалась и вышла за меня замуж. Но предупредила, когда делал ей предложение, что меня не любит. Мне было глубоко наплевать на ее любовь: затмило голову чувство к ней. Я был без ума от нее, ради нее готов был на край света. Мать-то меня предупреждала: «Не будешь ты с ней счастлив, сынок. Крутилась она тут, пока ты в армии был, с одним женатым мужиком, командированным. Он приезжал к нам в совхоз из какого- то научно-исследовательского института. С полгода все что-то искал, но, видно, так ничего и не нашел, уехал. Вот с ним-то она и снюхалась». Да, дурак был, что матери не послушался. А теперь за локоть себя не укусишь. Поженились, стали у моей матери жить. Я ее всегда ревновал, а после свадьбы вообще места себе не находил, все сомнения одолевали. Потому старался постоянно быть рядом, за каждым шагом ее следить. Тяжелая ноша — ревность...— Он, тяжко вздохнув, надолго замолчал.
— Ревность — предрассудок,— вставил Анатолий.— Ее надо убивать в зачатии, иначе до греха довести может. Я-то знаю.
— Что, и тебя баба обидела? — спросил Харис.
— Нет...— ответил он задумчиво.— А, впрочем... меня тоже одна обидела.
— Что за она?
— Моя мать.
— Неужели? — удивился Харис.— Моя мать очень хорошая и добрая женщина. Лучшей на свете не сыскать.
— Она и моя неплохая была, царство ей небесное, земля ей пухом,— горестно проговорил Анатолий.
— Непонятно, чем же она могла тебя обидеть?
— А уже тем, что родила. На жизненные муки обрекла.— Анатолий встал, прошелся по камере, затем сел на кровать и задумался. Харис продолжал:
— Слушай теперь, как я здесь оказался... Шли годы, родился у нас мальчик. Крепкий, как я. И на меня похож. Даже привычками. В это время в совхоз прибыл новый агроном. Года на три моложе меня, стройный, высокий. Плечи — не объдешь, чистый богатырь. Бабы от него без ума. И моя, хоть и не глупая, а туда же. И он на нее глаз положил. Снюхались, как сучка с кобелем. Стали тайком встречаться. Я потерял покой и сон. А баба она красивая, тело — лучше не встречал, темпераментная, аж дух захватывает. Я к ней с выяснениями, угрозами. А она мне: я тебя предупреждала, что не люблю, чего же ты еще хочешь? Ну, не выдержал и вмазал ей пару раз. Поплакала, но после этого еще больше на меня окрысилась. Прошло время. Снова мне докладывают, что гуляет по- прежнему. Напился я до чертиков и такой разгон устроил, аж стены дрожали. Избил ее изрядно. Предупредил: изловлю, убью... Так оно потом и случилось, будто сам себе беду накликал... Возвращаюсь я однажды из соседней деревни поздно вечером. Купил в магазине, как назло, топорик небольшой — в хозяйстве пригодится. Это же надо. Все одно к одному. Иду, значит, полем, поддавши маленько, но на ногах держусь. Вижу у дороги стог соломы, и голоса из-за него послышались. Я туда. Тихонько подкрадываюсь и ужас: моя, задрав юбку, сидит на агрономе, обхватив его голыми ногами, по нему ерзает, а он лежит, кайф ловит. У меня дыхание перехватило, в горле пересохло, и вне себя от ярости, я обухом ее по затылку и трахнул. И, кажется, не сильно, а она на месте скончалась. Вот такие дела...— Харис встал. По всему было видно, что ему и гадко, и больно. Но Анатолий, не обращая внимания на душевное состояние товарища, спросил:
— Ас агрономом как?
Долго молчал Харис, а затем хрипло проронил:
— А что с кобелем? Я же его не пришиб. Как увидел, что моя на бок повалилась, закричала, а потом изо рта струйка крови появилась, опомнился сразу. Хмель как рукой сняло. Я — к ней, а она судорожно дергается, уставилась на меня огромными глазами да так и застыла... С тех пор эти удивленные, расширенные глаза постоянно передо мной. Спать не могу. Они меня преследуют всюду. Чувствую, что доведут до сумасшествия,— глухим, срывающимся голосом окончил он свою историю.
Мне стало противно. Я смотрел на здорового мужика и мне не было жаль его.
— Да...— протянул Анатолий.— Неприятная история. Влип ты надолго. За такие дела меньше десятки не дают. В нетрезвом состоянии, на почве ревности... Может, пожалеют и восемь дадут,— стал рассуждать он.— Тебе теперь лучше упирать на то, что был сильно возбужден и не соображал, что делал. Может, учтут твое состояние?
— А я и говорю, что ничего не помню. Как увидел, так круги в глазах, и полный вырубон...
— Ты только в камерах не трепись. У меня уже третья ходка, я знаю, что много козлят, шестерят,— дружески предостерег Анатолий.
— Понял,— отозвался Харис.— А куда меня поместят, как думаешь?
— А кто его знает. Это решает начальство.
— Неплохо было бы, чтоб нас вместе поселили.
— Вряд ли. У тебя первая ходка, у меня — третья. Обычно разделяют; не желательно, чтобы опытные передавали свои знания новичкам.
— Так ты со мной в одном вагоне, значит, ехал?
— Да, даугавпилский этап.
— А ты за что попался? Кажется, опытный, а все равно залетел.
— Не работал. Тунеядство — раз, воровал — два, хулиганка — три,— загибая пальцы, пояснил Анатолий.
— Там тебе, небось, тоже много отмерят?
— Не очень. Больше трех-четырех не дадут,— убежденно заявил Анатолий и снова стал прикуривать.— Тунеядство — год, хищение госимущества (по части второй) — года три и хулиганство (по второй же) — самое большое четыре-пять. Но учитывая, что меня ножом пырнули, годик-два должны сбросить.
— А как это понять? — заинтересовался Харис. Он, кажется, уже полностью успокоился, и его разбирало любопытство к чужой жизни. Так уж устроен человек: как бы сильно ни переживал, как бы ни страдал, но проходит время, и его тянет к другим людям.
— Перышком-то? — небрежно бросил Анатолий.— Возвращался я из молитвенного дома. Стою на остановке, а тут два цыгана, как молодые жеребцы резвятся, прыгают, кричат. Один мне на ногу наступил. Я его оттолкнул. Они ко мне скопом с бранью. Не выдержал, двинул одного по челюсти. Другие на меня навалились. Отбивался неплохо. Тогда кто-то из них ножом мне в бок — и ходу. Хорошо, что нож скользнул сбоку, до кишок не достал. Во, посмотри! — он задрал одежду: живот пересекала полоска пластыря.— Повезло. А то лежать бы мне в белых тапочках.
— А что это за молитвенный дом?
— Обыкновенный. Отец, мать верующие были, и я с детства с ними посещал молитвенные дома. У нас секта. В церковь мы не ходим. Там своя вера, у нас своя. Слышал про баптистов?
— Слышал.
— У нас много разветвлений и течений,— Анатолий смолк, видимо, не желая вдаваться в подробности. Меня его рассказ заинтересовал, и чтобы ввязаться в разговор,
я встал, сходил по своим надобностям и спросил:
— Не спится? Понимаю: переживаете. Я тоже, как попал сюда год назад со свободы, места себе не находил. Ты вот, говоришь, молишься, а сам все грешишь. Разве Бог позволяет преступления совершать?
— Бог много чего позволяет и запрещает. Все зависит от того, кто какую веру исповедует. Пути Господни неисповедимы,— протяжно пропел он, полузакрыв глаза.
— Насколько я знаю, по Священному Писанию «ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники — Царства Божия не наследуют»? Значит, тебе доведется в аду пребывать.
— Я не придерживаюсь этого Священного Писания, у нас свое учение и там таких запретов нет.
— Мне казалось, что Бог для всех один: я имею в виду православных христиан и католиков. И его учение для всех едино: оно отстаивает нравственную чистоту, духовное развитие.
— Я не хочу вникать в эти подробности. Мы не придерживаемся такой заповеди, например, как: если тебя ударили в одну щеку, подставь другую. Церковь призывает добросовестно трудиться на благо всех людей на земле. Мы отвергаем такое учение. Считаем, что человек рожден, чтобы есть и пить. Неважно, чьим трудом он будет при этом пользоваться. Ведь жили же и сейчас живут за счет других короли, принцы, магнаты, князья, капиталисты и наши вожди. И все, или почти все из них, верующие, почитают Бога и религию.— Анатолий вдруг остановился, недоверчиво посмотрел на меня и замолчал.
«Не доверяет, боится»,— подумал я, а вслух сказал:
— Э, нет. Человек живет не для того, чтобы есть и пить, а ест и пьет для того, чтобы жить.
— У тебя свое понятие, у меня свое. Порок — не грех,— упорно твердил Анатолий.— Мы не убиваем плоти своей, а наоборот, поощряем развитие плотской силы.
— Помнится, в Писании говорится, что порок — это грех. А грех — это болезнь, которую лечить надо.
— И кто же ее лечить будет?
— Как кто? — Я удивленно посмотрел на своих сокамерников.— А священники на что? Они же призваны врачевать недуги.
— Я же тебе говорю, что мы вашего церковного учения не придерживаемся. У нас свое писание,— раздраженно бросил Анатолий.— И все. Хватит. Не хочу я лезть в подробности. Давай спать.— Он лег на койку и демонстративно повернулся спиной к нам. Пришлось последовать его примеру. Приближалось утро...
Утром Хариса и Анатолия вызвали на выход с вещами. Я снова остался один. И теперь перебирал в памяти спор с сектантом Анатолием. В его взглядах, по-моему, отражались не воззрения баптистов, а собственная человеконенавистническая философия. Он утверждал, что все доброе — от Бога, а зло — от людей, и любить их таких, какие они есть, невозможно. Люди по природе своей подлые и низкие и любят себе подобных только из боязни остаться в одиночестве. Бог их презирает за скверность и строптивость, взирает на них, как на букашек. Я же говорил о силе человеческого разума, доказывал, что долг людей делать друг другу добро, любить своих ближних. Человек напрасно прожил свою жизнь, если не сделал хоть одного человека счастливым. Убеждал собеседника, что это предельный цинизм — считать людей неблагодарными и глупыми животными. Каждый стремится к свету, к знаниям, только не у всех хватает силы воли дойти до своей цели... На мои аргументы сокамерник только зло смеялся, и в его смехе мне слышалось нечто оскорбительное, унижающее человека.
Расстались мы миролюбиво, каждый остался при своем мнении. Может, в чем-то он и прав. Вот я доказывал, что надо любить людей, а сам ведь не всегда следовал этому принципу. И вспоминал в который раз Ада- мова, которому причинил тяжелейшие страдания, физические и нравственные. Пусть и не умышленно, от этого не легче. Ведь невиновный, сломленный еще до меня 15 сутками ареста и ежедневными допросами, он не устоял против моего нажима и, чтобы избавиться от кошмара допросов, воспользовался информацией некоторых лиц, выдав ее за свою, чем ввел в заблуждение окружающих, в том числе и меня, за что и поплатился. А потом наступили тяжкие последствия и для тех, кто вел следствие по его обвинению. Был у меня и другой неприятный случай перебора. А теперь я говорю о честных и гуманных отношениях между людьми. Чтобы убеждать в этом другого, надо самому, как минимум, быть честным. Но тогда я рассуждал иначе, не допуская и мысли, что кто-то может быть мне судьей. Но жизнь показала мне, кто есть кто. И теперь я уже не утверждал, что сам себе судья, а нетерпеливо ждал, трепетно волнуясь, свершения справедливого суда над собою.
О многом передумал я за время заточения. А теперь, волнуясь, ожидал предстоящего завтра разговора, пытался предугадать его исход. Было обидно и больно сидеть в камере сегодня, 7 октября, в День Конституции — Основного Закона, гарантирующего на бумаге основные права и свободы граждан. А я вот, фактически невиновный, ибо за подобные проступки до сих пор никого так жестоко не наказывали, должен сидеть под стражей и мучиться физически и нравственно. Какие же тогда права и свободы гарантирует Конституция на самом деле? Быть под охраной днем и ночью, сидеть под замком, с решеткой на окне и стражей за дверью? Многим пожертвовал бы я, чтобы не ощущать такой заботы. Отчего так получается? Да, я не разобрался Bjsaae Адамова, причинил ему много страданий. Но это было первое уголовное дело, которое я расследовал самостоятельно. Не хватило опыта и знаний. Но затем мою работу проверяли опытные юристы и все равно вменили Адамову преступление, которое тот не совершал. А теперь все в стороне. Значит, ни у одного из них нет ни чести, ни совести. При этой мысли меня бросило в жар. Огромные права и властные полномочия у нас нередко получают те, кто и понятия не имеет о чести и долге. Получив большие права, они не умеют ими правильно пользоваться. Как говорили в старину: «Не дай Бог свинье роги, а мужику панство». Какой-то хаос мыслей родился у меня в голове. О логическом, стройном и последовательном мышлении не могло быть и речи.
Медленно тянулись минуты и часы. На вторые сутки ко мне в камеру опять определили двух этапников. Один — молодой парень, лет восемнадцати, другой — мужчина лет тридцати пяти. Оба прибыли столыпинским поездом и теперь, сидя на голых койках, с беспокойством, тревогой и волнением разглядывали камеру. Разговорились. Старшего звали Валерием, младшего — Янисом. Один — украинец, другой — латыш. Стараясь заглушить чувство голода, прибывшие часто курили.
— В поезде,— рассказывал Валерий,— добыл пачку чая и несколько «колес». И как мальчишка попался.— Он вздохнул, затянулся сигаретой.— Представляешь,— обратился он ко мне,— попался пушкарь такой пронырливый, всюду посмотрел. Чай в подкладке куртки был зашит, вот здесь. Вот, дыра осталась. Забрал скот.— Он отвернул полу куртки, в которой действительно зияла большая дыра.— А «это» я упрятал в каблук ботинка, у меня там тайник сделан. Так гад начал вертеть в руках каблук, а он и поддался; видно, я крепко не зажал, или от ходьбы он ослаб,— горестно покачал головой собеседник.— Так и уплыли «колеса». Были и нету. Не повезло. А то бы мы с тобой сегодня кайфанули малость.— Его лицо выражало досаду и обиду одновременно.
— Жаль, конечно. Но тут бы мы с тобой не покайфовали, не на чем воду вскипятить. Простыня у меня только одна, я за нее расписался, жечь жалко,— начал я объяснять, хотя сам никогда в жизни не чифирил и не собирался.— К тому же я сейчас под колпаком, жду. Может, завтра в трюм спустят, придется постель сдавать. А больше у меня никаких тряпок, чтобы жечь, нет.
— Я все это по дороге продумал; кое-что сдербанил у двоих. У одного — «бананы». Вот, смотри, еще ничего, носить молено,— из набитой сумки он вытащил хорошие, почти новые брюки.— А у другого — пиджак. Во! — протянул он мне свои трофеи. Я посмотрел, примерил на себя.— Годится, можно и носить. Как считаешь, тезка? — шутя намекнул я Валерию, что не прочь получить подарок.
— Не, самому пригодятся,— ответил он.— Я обещал тут с одним скорефаниться; у него кое-что со «жвачки» есть — обменяемся.— Я вернул ему награбленное; никогда не зарился на чужое, а теперь тем более не нужны мне были эти вещи.
— А за что тебя в трюм хотят? — спросил Валерий.— Как-то мне непонятно. Один с постелью в этапной хате сидишь. Тебя перед разбором засунули в отстойник? Хвались, как до такой жизни докатился? — настаивал он.
— А рассказывать-то, собственно и нечего,— огорченно вздохнув, ответил я.— Подрался в хате, одному нос расквасил. Вот и все дело. Еще вот рубашку мне порвали.
— И за это в трюм? -— удивленно спросил Валерий.
— Ну, устроил массовое побоище,— удовлетворяя его недоверчивость, соврал я.
— Могут запросто,— заключил он.— В одну калитку. Выживешь. Я на своем веку раз десять-пятнадцать в трюме сидел. Как видишь, все в порядке.
Я сразу заметил, что тыльные стороны его обеих ладоней были украшены татуировкой. А когда он задрал штанину, я заметил рисунок и на ноге. Это своеобразная визитная карточка тех, кто побывал на зоне. Потом спросил:
— Какая ходка?
— Третья.
— И сколько отпахал?
— В общей сложности семь.
— Как семь, на общей, что ли? — не понял я.
— Нет, всего семь лет.
— А-а-а! По каким же статьям?
— Первая — грабеж, часть третья. А вторая — наркотики... Сбыт, хранилка — три года.
— Что-то тебе мало за наркотики сунули? — удивился я.
— Тогда еще не было такой волны. На это смотрели сквозь пальцы,— пояснил Валерий.— Простор был, свобода. Все было легко, удобно и дешево.— Он с сожалением вздохнул. Его желтоватое тощее лицо от воспоминаний чуть порозовело, глаза заблестели. «Законченный наркоман,— подумал я.— Кого только здесь не встретишь. Хорошо, что хоть с психикой, кажется, у него в порядке. Тут от своих переживаний кричать хочется, а начни он коники выкидывать, придется успокаивать. А это будет еще одно ЧП». А вслух спросил:
— Неужели такое большое удовольствие получаешь от уколов?
— Неописуемое! — Глаза вспыхнули ярким светом, голос задрожал.— Такой кайф словами не передашь. Это надо попробовать. Да, да! Только самому попробовать, чтобы ощутить, насколько это классно! Это такой полет, вечный полет! — Глаза собеседника закрылись, весь он напрягся, как бы представляя и переживая эти ощущения.— Как невесомость... Всем доволен. Блаженство, рай, полнейшая свобода действий... Плывешь, плывешь в облаках — то выше поднимаешься, то опускаешься. Сногсшибательный балдеж! Не чувствуешь ни мышц, ни тела, приятное головокружение. Ничто не сравнится с этим блаженством! Это сверхчеловеческое, неземное состояние,— взахлеб говорил он.— Непередаваемое, неописуемое состояние души...
— А женщины? — прервал я его восторженный рассказ.— Разве они уступают действию наркотиков?
— Что ты! Балдеж от женщины не поддается никакому сравнению с кайфом от наркотических веществ. Это все равно, что сравнивать песчинку с Галактикой!
— Не могу судить, а поэтому и спорить не буду.
— Чтобы судить о вещах, надо их посмотреть, пощупать; чтобы судить о пище, надо ее съесть, чтобы судить
о кайфе, надо его испытать,— изрек он.— На себе.
— Значит, ты за наркотики сидишь? Интересно, здесь, в Латвии, много таких любителей?
— До фига! Только я больше сотни знаю. А сколько в одиночку «двигаются». А сколько мимо меня проплыло. Тысячи. Сейчас нас ловят и ловят, сажают и сажают. Но на смену старым кадрам приходят новые. Вот так! Только по моему делу около полсотни проходит. Два- дать три человека привлекают к суду. А в отношении остальных дело прекратили и кого куда. На поруки, на лечение. Нас, арестованных, только восемь. Я сейчас на суд ездил, так туда нагрянула наша «армия», в три ряда стояли. Всех ментов согнали, чтобы порядок там навести. Очистили весь зал, оцепили суд.
— Ничего себе, действительно, получается орава приличная,— удивился я.— Не так легко, наверное, в отношении вас и дело вести.
— Жару мы им дали, конечно. Сначала дело вел молодой следователь, неопытный, потом, когда мы его надули пару раз, он отказался. Создали новую группу. Но мы все равно не признаемся. Доказательств против нас маловато,— напористо убеждал он меня.— Да вот, кстати, если хочешь, прочти. Один среди нас поэт. Так он сочинил поэму о ходе следствия.— Валерий вытащил из сумки и протянул мне ученическую тетрать, все листы которой были исписаны мелким, убористым почерком. Чтение меня захватило, и я не отрываясь прочитал поэму до конца. Возвращая тетрадь, я искренне похвалил:
— Толково написано. Ничего не скажешь. И он тоже наркоман, как и ты?
— Да. У него книга стихов уже выпущена,— хвастливо, будто это он написал, заявил Валерий.— Жаль, что ты не знаешь тех легавых, о которых там говорится. Ты бы убедился, как поразительно точно и четко описал мой подельник их замашки, привычки. Эта поэма по рукам в тюрьме ходит. Многие знают тех, о ком написано. Даже адвокаты и те ее переписывали. Сами менты брали и на машинке перепечатывали. Не обижаются, правда есть правда.
— Так вас осудили?
— Нет, уже второй раз суд откладывается.
— А почему, если не секрет? — спросил я и добавил: — А то я, может, в душу лезу?
— Нет. Что не надо, я сам не расскажу. А суд отложили потому, что всюду мафия. А она бессмертна, ее не победить! — Многозначительно поднял он кверху палец.— Мы очень солидарны. Условие суду объявили: давайте нам прессу, сейчас гласность. Показаний давать не будем, незаконно арестовали. Хотели без нас слушать дело. Так мы в КПЗ бунт подняли: выломали двери, сожгли нары. Администрация не знает, что с нами делать. Отправить обратно в тюрьму? Мы тут же заявим, что хотим в суд. Без нас ведь не вправе рассматривать дело. Законы мы знаем не хуже прокурора.— Он полез за сигаретами, закурил и продолжал: — Начали нас по разным хатам расселять. В знак протеста, что суд без нас идет, мы взяли и себе животы повспарывали. Вот, посмотри.— Он поднял рубашку и показал наложенную на живот повязку, пропитанную кровью. Я ужаснулся, но виду не подал.
— Такой тарарам там устроили. Пушкари нам и чай, и сахар приносили, лишь бы на их смене было тихо. Жили мы там неплохо. Жратву имели от пуза, чифирили, даже один раз водку достали. У нас на свободе проныры хорошие есть, с положением. Они договаривались с ментами и передавали нам все, что требуется. Мафия, она везде мафия. Повезли нас повторно в суд. Огласка по городу пошла. Корреспонденты набежали. Мы давай кричать: дело, дескать, против нас сфабриковали. Толпа с улицы нас поддерживает. Кричим: «Давайте нас на экспертизу, пусть докажут, какие мы наркоманы». Судья видит, что дело крутой оборот принимает, вынес определение: «Назначить комплексную судебно-медицинскую экспертизу».— Валерий на минуту задумался, потом добавил: •— А что нам их экспертиза? До задницы! Теперь поезд уже ушел. ,Ни один врач не осмелится дать заключение, что мы накроманы. Это если бы нас тепленьких на экспертизу, да кровь взяли, тогда определили бы. А они прошляпили. А сейчас во им, сволочам,— собеседник показал фигу.— Мы все обмозговали, договорились. Не первый день замужем...
— А сколько ты уже под стражей?
— Семь месяцев.
— А теперь еще на экспертизе месяца два пробудете. Надоест по камерам качаться. Сдадитесь,— выразил свое мнение я.
— А черта с два! Хоть год, хоть два. Выпустят, куда они денутся? — Валерий язвительно улыбнулся.— Мы им еще не такое устроим. Вся Латвия будет знать. Передали на свободу, чтобы там в нашу защиту население подняли.
— Как это, подняли?
— Довольно просто. Листовки отпечатают, размножат и по городам разбросают. Мол, такие-то незаконно содержатся в тюрьме. Узники свободы и прочее. Там, на свободе, у нас головы умные есть. Они знают, что и как делать.— Долго еще рассказывал он о себе и своих сообщниках. Наконец, выдохся и улегся спать. Вскоре послышалось его тихое похрапывание.
Янис вначале сидел и слушал. Потом, видя, что Валерий игнорирует его, молча улегся на голую койку, пытаясь уснуть. Но это ему не удалось, донимал холод. Когда Валерий захрапел, Янис встал, и осторожно ступая, чтобы не разбудить соседа, стал ходить по камере, чтобы согреться. Я пожалел его и предложил свою телогрейку.
— Возьми. Она теплая. Не раз меня выручала.
— Спасибо, спасибо,— забормотал он, стуча зубами.— Совсем задубел... Ну и холод! — Говорил он с сильным акцентом.— Как же здесь ночь прокимарить? Жуть!
— Возьмешь на ночь мою телогрейку. Мне под одеялом не холодно. За что сидишь?
— За изнасилование. Пять лет дали, из суда возвращаюсь.— Меня сразу осенило:
— А Дирванс не твой подельник?
— Мой. Лучше бы его на свете не было.
— А ему сколько отмерили?
— Семь лет.
— Многовато что-то? Тебе пять, ему семь.
— Так из-за него все и началось. Он у нас за паровоза. Спровоцировал всех. А теперь сам сел и нас за собой потащил. Говорил я ему: Ингвар, не тронь девчонку, больно уж молода. Нет, полез. Ну а за ним и мы не удержались. Ему можно, а нам нельзя? — Лицо парня исказила гримаса горя.— И вот финал — пять лет. Пять лет скотской жизни. Как я все это выдержу? — Голос его задрожал и слезы посыпались из глаз. Он сел на койку, согнулся, спрятал лицо в колени. Можно было догадаться, что он продолжал плакать.
— Перестань. Будь мужчиной. Два с половиной промотаешься, а там уже будет легче. Полгода ты уже отсидел. Так? — Но парень не отвечал, а я продолжал убеждать.— Вместо армии — тюрьма. И там два года и здесь два. И там лишения, и здесь лишения. Ты еще молод, наживешься и на свободе.— Я присел рядом, сочувственно похлопал его по плечу. То ли мои слова подействовали, то ли отлегло у парня, но он поднял заплаканное лицо и, еще вздрагивая, хрипло произнес:
— Я все это понимаю. Но мать очень жалко. Она у меня добрая. Переживает сильно. Так опозорился! Как я теперь дома на глаза покажусь?
— Ничего, не ты один такой. Я тоже когда-то примерным был, а вот в тюрьме уже год маюсь. И таких тысячи, десятки тысяч. Перетерпим. Не плакать же постоянно из-за этого. Слезами горю не поможешь. Уже был отбой, ложись спать. Утро вечера мудренее.— Я нырнул под одеяло. Но долго не мог заснуть. Вспомнил о завтрашнем тяжелом дне, и тут пришла мысль, что я еще не все предпринял, чтобы избежать наказания. «Надо записаться на прием к начальнику учреждения по режиму»,— решил я, засыпая.
Утром я сразу сел писать заявление начальнику СИЗО. Обнаружил, что кончился стержень в шариковой ручке. Спросил у Валерия, нет ли у него ручи. Тот протянул мне свою и сказал:
— Можешь забрать насовсем. У меня еще две есть.
— Спасибо. Мне сейчас придется много писать, а толковой ручки нет.
— Ты пиши, а себе отмечай: куда какую жалобу от
правил. Смотри, как делаю я.— Он достал свою тетрадь и, развернув ее, стал объяснять: — Видишь? Это — дата, а это — исходящий номер. А вот, видишь, копия заявления в спецчасть. Читай,— и он подал мне тетрадь. Я прочел: «Прошу сообщить, когда и за каким номером отправлена моя жалоба в ». Внизу стояли цифры, обозначающие номер и дату отправки документа и подпись работника спецчасти.— Понял? — удовлетворенно спросил он и поучительно добавил: — Такая форма дает гарантию, что ни одну мою жалобу здесь не запрячут. А то кадры здесь ненадежные: могут твою жалобу в урну выбросить, чтобы не возиться с ней. А могут со следователем снюхаться и не отправить по его просьбе. А так надежность гарантирована. Фирма пишет. Фирма и контролирует.
— Вообще-то у тебя кое-что полезное можно и перенять. Чувствуется опыт,— польстил я и спросил:
— А какое у тебя образование?
— Средне-специальное, радиотехникум окончил.
— А жизнь-то у тебя все равно не сложилась.
— Нормальная жизнь, не жалуюсь. Мне бы только вырваться отсюда, а там — ищи ветра в поле. Погуляем еще. Покайфуем. Я ведь не старик. А наркотики — они кровь очищают, омолаживают организм.
— А я слышал, что они губят организм, разрушают ткани и отрицательно влияют на психику человека.
— Брось! Это для дураков пишут. А наркоты — здоровые люди и живут не меньше других. Все заслуженные мастера, чемпионы употребляют. Они, что хилые? — горячо наступал Валерий.— Вся планета поражена этим кайфом.
Мне трудно было возразить против такого веского аргумента, но я упорствовал:
— Вся планета и борется с этим социально опасным злом. Здесь переплетаются проблемы и здоровья, и благосостояния, и нравственности. Ведь накроманы не только калечат себя, они наносят огромный вред окружающим; они — рассадник проституции, преступности, заразных болезней. А ты мне лапшу вешаешь. Я же не мальчик.
— Стоп. Не будем спорить,— Валерий предупреждающим жестом руки давал понять бесполезность спора.— Ты живи своим умом, а я своим.
Я стал писать заявление. При обходе отдал его контролеру. Почему-то я был уверен, что заместитель начальника изолятора примет меня немедленно. Так оно и произошло. В одиннадцатом часу за мной пришла женщина-контролер. Я оказался в небольшой приемной на третьем этаже административного корпуса. На дверях была укреплена табличка под стеклом «Зам. начальника по режиму». В приемной уже было двое арестованных. Один из них, едва увидев меня, сразу подбежал и попросил:
— Дай закурить! Уже пятые сутки без табака. Аж в стороны водит.
— К сожалению, не курю,— ответил я, оглядывая посетителей. Оба были худые, бледные, заросшие щетиной, в грязной рваной одежде. «Видно, несладко живется»,— подумал я и спросил:
— Какая хата?
— Крайняя, на первом этаже, возле туалета.
— Ну и как там,— будто не зная, поинтересовался я.
— Паршиво, дышать от вони нечем. Да еще голодные, в грязи валяемся, как собаки в будке какой,— рассказывал тот, что просил закурить.— Не хватает воздуха. Постоянно 5—7 человек, а размеры хаты — перепрыгнуть можно. Тоска, тоска зеленая! Не знаем, как выжить.
— Понятно. А то я смотрю — дохлые вы какие-то, только глаза и зубы блестят. Как у вас там, есть первостольники?
— А где их нет? Скоты проклятые! Не дают спокойно жить. Издеваются, бьют,— заговорил и второй.
— Так вы оба из одной хаты? — удивился я.
— Да. Пришли вот к начальнику просить навести у нас порядок, да чтобы какие-нибудь телаги выдали, а то холодно очень. У нас все, что есть, на себе.
Один был в ситцевой рубашке, другой — в майке, поверх которой наброшен старый заплатанный пиджак. На ногах у одного — домашние тапочки, старые, грязные, у другого — обрезки резиновых сапог на босу ногу. Картина впечатляющая. «Крепостные, рабы, наверное, лучше выглядели, чем они»,— подумал я. Вскоре одного вызвали в кабинет, он пробыл там не более пяти минут. Пошел второй. Тот, что вышел, сердито проговорил:
— Бесполезно!
— Что, ничего не решил?
— Нет. Говорит: телогрейку получишь, когда снег выпадет. А насчет условий в камере заявил, что мы не в санаторий попали.
Вскоре таким же расстроенным вернулся и второй. «Ну, с Богом»,— сказал я себе и шагнул в открытую дверь. Кабинет большой и светлый. На полу — ковер. В углу — большой металлический сейф, на стене — карта мира. У стен расставлены стулья. За громным столом сидел, склонив голову, полнощекий работник учреждения в рубашке; китель с погонами подполковника висел на спинке стула. Начальник оторвал голову от бумаги, окинул меня цепким взглядом, указал на стул. Раскрыв канцелярский журнал, подполковник записал мои анкетные данные, статью. И тут же, не закрывая журнала, посмотрел на меня в упор и спросил:
— Слушаю вас.
— Вопросы у меня и сложные, и простые,— начал я издалека, но хозяин кабинета перебил:
— У меня время ограничего. Коротко и по существу.
— Постараюсь. Первое: мне администрация не создала нормальных условий пребывания,— как можно спокойней начал я.— Прошу создать мне условия в соответствии с действующими нормативными документами; являясь работником правоохранительных органов, не могу находиться с убийцами, насильниками, грабителями. Они постоянно угрожают моему здоровью, чести и достоинству, издеваются морально и физически. Я вынужден скрывать, кто я на самом деле, а ложь порождает недоверие. Долго так продолжаться не может. У меня с собой записи по делу, опасаюсь, как бы их не уничтожили. Меня постоянно провоцируют на конфликты. Так...— Быстро, стараясь успеть выговориться, рассказал о том, что произошло вечером 3 октября.— Отсюда у меня вторая просьба: наказать заключенного Мужниекса за организацию драки. У меня порвали рубашку, утащили две ручки, носки. Прошу возместить ущерб...
— У вас все? — равнодушно прервал начальник.
— Вроде бы...— неуверенно начал я.
— Так вот. Я вам прямо заявляю: напрасно отнимаете у меня время. Условия содержания таких, как вы, не оговорены нашими инструкциями. Вы сидите у нас уже не первый месяц и все знаете.— Он поднялся и, подойдя к сейфу, открыл его, достал папку с подшитыми документами, развернул в нужном месте и подал мне: — Читайте! Там все сказано.— Сам сел за стол и стал ждать, когда я прочту. Я успел перехватить его беспокойный взгляд, и это дало мне повод отнестись с недоверием к его словам. Инструкция гласила, что лица, арестованные в первый раз, должны содержаться вместе и отдельно от тех, кто ранее уже отбывал наказание. Посмотрим, какой номер у этой инструкции.
— Не листайте документы! Остальное вам не положено читать,— остановил меня подполковник.— Я и так, в виде исключения, дал вам почитать. Ну что — прочли?
— Нет, не полностью, — я еще раз пробежал глазами машинописный текст, но ничего не нашел о содержании таких арестованных, как я. Поэтому выразил недоверие:
— Извините, но здесь говорится вообще о всех заключенных под стражу. А где же инструкция о содержании работников правоохранительных органов?
— Других у нас нет, мы руководствуемся этой,— ответил владелец кабинета и добавил: — А поэтому мы вас и содержим вместе с другими лицами. Что же касается вашего второго вопроса...
Я понял, что он спешит поскорее отделаться от меня, и перебил:
— Извините, но мы еще не закончили разговор об инструкции. Я не могу поверить, чтобы не было каких- либо указаний о содержании таких, как я. Ведь мы отбываем наказание в специальных колониях. А почему же тогда допускается содержание в изоляторе на общих основаниях? Выходит, в колониях созданы особые условия, а здесь — нет. Такого не может быть...
Начальник нетерпеливо перебил меня:
— Я не намерен с вами спорить. Вы у меня не один! — в глазах появился гневный блеск: — Что касается других вопросов, с ними разберется мой подчиненный, старший лейтенант Кронберг, он обслуживает ваш корпус.—■ И встал, давая понять, что разговор окончен.
— В таком случае,— заспешил я,— мне придется писать новые жалобы и добиваться встречи с прокурором по надзору.
— А это уж ваше дело! — бросил подполковник, закрывая журнал.
— Безусловно, мое. Но вы даже не обратили внимания на то, что нарушаете даже вот эту инструкцию, которую дали мне прочитать.— Я сделал паузу, но подполковник молчал: — Ведь я первый раз привлекаюсь. А меня содержат в одной камере с неоднократно судимыми. Как это понимать? — Подполковник молчал, вероятно обдумывая, что ответить. Но ничего лучшего не придумав, нервно выдернул из подставки красивую деревянную ручку и подал мне:
— Нате! Пишите. Я вас и бумагой снабжу. Берите побольше.— И он протянул мне кипу чистой бумаги.— Пишите! Но помните: проверяющие приезжают и уезжают. А мы остаемся. И с нас все, как с гуся вода. На днях вот телевидение приезжало, фотографировали камеры. Ну и что? Мы как работали, так и будем работать...
«Нет,— подумал я,— так работать уже вряд ли будете. Перестройка и до вас, ду бол омов, доберется». Окончательно давая понять, что разговор окончен, начальник заявил:
— У меня нет ни времени, ни желания переливать из пустого в порожнее. Идите.
Я спокойно забрал подаренные бумагу и ручку и покинул кабинет. На душе было скверно и гадко. Беседа не только не дала никакого результата, но еще больше обострила мои отношения с администрацией.
Камера была пуста. Никаких следов пребывания моих сожителей здесь не осталось. На всякий случай пересмотрел свои вещи, но все было на месте. Лишь одна тетрадь лежала на столе. Очевидно, кто-то из сокамерников ее смотрел и то ли не успел положить обратно, то ли специально оставил на столе.
Сел на койку и задумался. Опять впереди ничего приятного. Остается только терпеливо ждать. В этот день больше никуда не вызывали. Я написал еще одну жалобу Генеральному прокурору СССР. Ночь прошла в тревожных сновидениях, и утром я не чувствовал себя отдохнувшим. Нервничая, ждал развязки. На душе скребли кошки.
Принесли обед. Но не успел я его проглотить, как за мной пришел контролер и попросил следовать к оперативному работнику «за подарком». «Ну, теперь держись! Что-то объявят... Неужели карцер?» — как-то безразлично, отрешенно подумал я. На втором этаже, как обычно, поместили в стакан, и я стал ожидать решения своей участи. Просидел недолго. Меня повели в уже знакомый кабинет заместителя начальника по оперативной работе. Это был все тот же майор с усталым выражением лица. Пригласив сесть, он начал:
— Мне доложили о вас. Я это время был на сессии. История неприятная. У меня вот собран обширный материал, осталось лишь завизировать. Не знаю, что и делать? — Он замолчал, и я решил воспользоваться паузой:
— Вы помните, обещали создать мне условия? — начал я издалека.— Тогда я согласился не писать жалоб Генеральному прокурору. Вы сдержали свое слово и перевели в хорошую камеру, где можно было без опасений и нервотрепки ждать судебного решения моей участи. Но через день меня оттуда снова вернули в ту самую камеру с нечеловеческими условиями.
Майор меня нетерпеливо перебил:
— Говорят, прокурор не дал санкции на содержание вас вместе с несовершеннолетними. А меня в это время здесь не было. Да я и не всесильный,— задумчиво глядя в окно, говорил он.— Не всегда нахожу общий язык со своим руководством.— И тут же резко перевел разговор в другое русло: — Да! Пришло ваше обвинительное заключение. Я его мельком просмотрел. У меня не сложилось впечатления о наличии тяжких преступных действий с вашей стороны.— Он подошел к сейфу, достал толстый подшитый том и подал его мне. Кровь ударила в голову, сердце, казалось, вот-вот вырвется наружу. «Наконец-то. Наконец-то! Год я ждал этого. Значит, скоро суд»,— мельтешили осколки мыслей. Не в силах скрыть дрожь в руках, я принял тяжелый том обвинительного заключения. Дребезжащим срывающимся голосом спросил:
— Вам неизвестна точная дата, когда начнется суд?
— Нет. Вызова пока еще нет,— ответил майор и, поняв мое напряженное состояние, добавил:
— Говорили, числа так девятнадцатого.
— Этого или следующего месяца? — бестолково уточнил я.
— Не знаю,— очевидно, спохватившись, что сказал лишнее, бросил майор. По его интонации я понял, что он не имеет права говорить об этом.
— Вам надо обстоятельно ознакомиться с делом. В камеру его брать с собой опасно. Могут опять начаться конфликты.— Задумался, потом спросил: — Сколько примерно дней понадобится вам для изучения?
— Дней десять,— проведя рукой по толстому тому, ответил я и тут же спросил.— В какую камеру вы хотите меня поселить? Процесс потребует от меня сил и энергии, придется делать записи, обдумывать свою позицию, защиту. И если снова окажусь в скотских условиях, то можно и не выдержать.
Майор ответил:
— Планируем поместить в 214-ю.
«Хорошо, что не в старую. Может, там лучше будет»,— подумал я и снова стал объяснять:
— Мне нужны человеческие условия, ведь судебное заседание будет идти долго. Это такая огромная нагрузка...
Но майор, не дослушав, перебил:
— Так что же будем делать с материалом о конфликте? — И задумчиво посмотрел на меня. Я понял, что надо атаковать и торопливо стал объяснять:
— Я не виновен. Защищаясь, нанес ответный удар. Если вы накажете, буду писать жалобы, пока не добьюсь справедливости.
Зазвонил телефон. Майор взял трубку и все также задумчиво поглядывая на меня терпеливо слушал, говоря только: «да», «хорошо», «сделаем». Я нутром почувствовал, что речь шла обо мне. Окончив говорить, он поднялся из-за стола и заторопился:
— Над материалом о конфликте я подумаю. Скорее всего наказывать не станем. А сейчас пойдем. Я вас проведу в новую камеру и там, на месте, дам распоряжения.
Довольный беседой, я, схватив обвинительное заключение, потопал за широкоплечим майором. Спустились на первый этаж и очутились в коридоре блока, где находились камеры. На ходу начальник приказал вышедшему навстречу корпусному:
— Откройте нам камеры № 214 и 210. Пусть он перенесет свои вещи.
Быстро перенес я постель, кружку, миску и другие вещи в указанную камеру. На прощание майор посоветовал записаться к нему на прием, как только прочту обвинительное заключение.
Я остался один. Бегло оглядел камеру. Здесь я уже побывал сразу после прибытия в Ригу. Прожил я здесь меньше суток вместе с двумя несовершеннолетними. Пол здесь был дощатый, окно, хотя и зарешеченное, но без пластин — ресничек. Мне казалось, что дневной свет затопил камеру. «Блаженство, с корабля на бал»,— обрадовался я и с трепетным чувством, усевшись за стол, стал читать долгожданное обвинительное заключение. Но как только я прочел несколько строк, от хорошего настроения не осталось и следа. Теперь уже возмущение и гнев распирали мою грудь, бросали меня то в жар, то в холод... Я проклинал сочинителей этого «творения», стражей законности. Вот что говорилось в обвинительном заключении:
«...Желая скрыть неумение законными методами и средствами установить и изобличить преступника, совершившего изнасилование и убийство Кацуба, создать видимость благополучия в работе, проводившие расследование Сороко, Журба, Буньков, Кирпиченок и Вол- женков из карьеристских и других низменных побуждений грубо нарушали свой служебный долг, права и интересы граждан, не обеспечили объективности и полноты следствия и оперативно-розыскной работы.
В процессе расследования они угрозами и другими незаконными действиями принуждали граждан к даче угодных им пояснений и показаний, применяли к ним физическое и психическое насилие, искусственно создавали доказательства обвинения.
...Получив в результате противоправного принуждения вынужденное признание Адамова, зная об отсутствии доказательств его вины, о наличии ничем не опровергнутых доказательств невиновности, желая любым путем привлечь его к уголовной ответственности за тяжкие преступления, которых он не совершал, Сороко и Журба совместно с Буньковым, Кирпиченком и Вол- женковым преступными методами создали целую систему искусственных доказательств обвинения...»
Вскоре стукнули засовы двери, и в камеру в сопровождении подполковника вошел высокий, худощавый мужчина лет пятидесяти в добротном костюме и еще один, тоже в штатском. Подполковник был тот самый заместитель начальника СИЗО по режиму, который меня принимал до приезда майора Воронцова. Я встал из-за стола и, заложив руки за спину, доложил, что в камере один, занимаюсь чтением обвинительного заключения. Высокий представился мне. У него был мягкий, приятный баритон:
— Я из прокуратуры СССР. Приехал сюда в командировку.— Он назвал свою фамилию, но я так разволновался, что не расслышал. Переспрашивать было неудобно. Второй, в штатском, молчал.
— Вы писали, что вам не создали нормальные условия содержания,— продолжал высокий.— Я работаю в отделе надзора за ИТУ. Решил воспользоваться случаем и поговорить с вами.— Москвич замолчал. Паузой незамедлительно воспользовался подполковник. Подобострастно изогнувшись, он затараторил:
— Мы с ним уже все вопросы решили. Видите, теперь у него нормальные условия для ознакомления с обвинительным заключением.— Его маленькие глазки быстро бегали, поглядывая то на меня, то на проверяющего. Вкрадчиво-доверительно он продолжал: — У него недавно произошел скандал, но мы уже разобрались. Наказывать его не будем, как-никак — почти наш коллега. С кем не бывает? — Внимательно посмотрел в лицо прокурора, пытаясь понять, как он реагирует. Но лицо прокурора было непроницаемо спокойным.
— Мы создали ему хорошие условия. В суд ему скоро придется ездить... Все нормально...— Но прокурор, как бы не замечая подполковника, спросил меня:
— У вас на столе обвинительное?
— Да.
— Ого! Толстенно же оно, однако...— протянул он. Как понимать эти слова, я не знал. Но все-таки решил высказать все, что накопилось в душе о здешних порядках за время заточения:
— Я очень рад с вами познакомиться. Может, после вашего посещения мне создадут человеческие условия,— осторожно начал я, стараясь угадать реакцию высокого гостя.— Я прокурорский работник, а содержусь вместе с ранее судимыми лицами, привлеченными за тяжкие преступления против здоровья и чести граждан. В камеру, где и двоим-то нелегко вместиться, впихивают по шесть-семь человек. Постоянные вонь, сырость, грязь в непроветриваемом помещении. Для убедительности можете сами посмотреть, в каких условиях живут заключенные. Даже в фильмах о царских тюрьмах я не видел такого. Воздуха и того не хватает. Я уже не говорю о пище. Свиньям лучше корм готовят. Картошка гнилая с водой, у заключенных она клейстером называется. И ежедневно — одно и то лее. Кошмар! — Я все больше и больше воодушевлялся, но меня зло перебил подполковник:
— Вы не в санаторий приехали, а в тюрьму. И если создать хорошие условия, то половина арестантов не захочет отсюда уходить. Спи, сколько хочешь, кормежка хорошая... Дом отдыха, да и только. Значит, в тюрьме откормился, поднакопил здоровья и снова грабь, насилуй и убивай? Так, что ли, прикажете вас понимать? — Но озлобленность начальника меня не смутила и я продолжал:
— Администрация не принимает во внимание того, что здесь содержатся не только за убийства и разбои. Большинство впервые и, можно сказать, случайно сюда попали. У них есть семьи, обществу они нужны не больными, а здоровыми. Отсюда же после длительной отсидки можно уйти только больным, не говоря уже о психических травмах. Здесь творятся ужасные вещи...— Но тут я прикусил язык, опасаясь, что своей откровенностью могу навлечь на себя массу неприятностей. Прокурор уедет, а мне оставаться здесь. Поэтому постарался смягчить краски: — Я понимаю, прожить здесь месяц-два можно, а вот целый год, как мне, невыносимо. Посмотрите, на кого я похож? Кожа да кости. Даже побриться нет возможности. Кроме лишений, голода и холода, приходится терпеть оскорбления, даже насилие... Вот, смотрите! — Я повернулся спиной к присутствующим.— Вся рубашка порвана! За что такие муки? За то, что не сумел разобраться в виновности человека?! — После такой длинной сбивчивой речи я почувствовал усталость и с надеждой посмотрел в глаза московского гостя. Мне показалось, что я увидел в них проблески сочувствия. На помощь нашему подполковнику пришел второй в штатском:
— Мы тут сами с ним разберемся. Я пришлю завтра прокурора по надзору. Он возьмет у него письменное объяснение по всем фактам, а мы проверим. Не нужно вам на это тратить время,— настойчиво убеждал он проверяющего. Я чутьем уловил, что тот заколебался, и меня это очень огорчило.
— Нельзя ли выдать ему рубашку? — не то спросил, не то предложил московский прокурор.
— Выдадим. Уже заказали.
— Хорошо. Надеюсь с вами разберутся по справедливости. Не переживайте и готовьтесь к судебному заседанию,— посоветовал высокий гость на прощание. Повернулся и вышел из камеры. За ним последовали сопровождающие. «Поживем, увидим, как разберутся»,— подумал я. Но настроение все-таки поднялось: мой голос услышан, жалобы дошли по назначению. «Может быть, и в самом деле прекратится скотское существование?» — думал я, снова усаживаясь за стол. Но как только стал дальше читать обвинительное заключение, снова охватили злость, тоска, негодование. Изложение событий и фактов было односторонне и грубо тенденциозным, предвзятым, фальсифицированным. Хотелось бросить под ноги и растоптать эту насквозь лживую подтасовку, шитую белыми нитками подгонку доказательств моей виновности. Но отчаянием подлость не прошибешь, и я приказал себе: «Спокойно, спокойно, Валерий». И продолжал читать...
На следующий день, сразу после завтрака, снова уселся за чтение. Вскоре голос контролера, приглашавшего на прогулку, оторвал меня от текста. Быстро одевшись, я вышел во двор, залитый солнцем... Возвращаясь с прогулки и проходя мимо постылой мне камеры № 208, я заметил возле нее бочку с жидким мелом и приставленным к ней пульверизатором для побелки стен. «Наверно, побывал там москвич, вот и затеяли ремонт камеры,— подумал я.— А все-таки жалобы действенны. Хоть частично. Стали немного шевелиться». Возвратясь к себе, снова взялся за чтение. Решил набраться терпения и дочитать заключение до конца, не вдаваясь пока в анализ и глубокие размышления. Когда составлю общее впечатление, тогда можно формулировать контрдоводы, опровергать ложные доказательства, обнажать фальсификацию, подгонку, несостоятельность обвинения.
После обеда неожиданно снова загремели дверные засовы, и на пороге появился высокий и могучий, как дуб, майор внутренних войск. Красивое, чисто выбритое лицо, умные проницательные глаза. Хорошо подогнанный и безукоризненно отутюженный форменный костюм. Из-за его плеча робко выглядывал коридорный старшина. Поздоровавшись, майор как-то удивительно просто, будто у хорошего знакомого, спросил:
— Ну, как дела?
Я растерянно и настороженно смотрел на него.
— Так кто кого побил? — спросил он, внимательно и насмешливо глядя на меня.
— Он его, он! — торопливо заговорил старшина.— Нос разбил, глаза у того заплыли...
Не успел я дать своих объяснений, как майор будто припечатал:
— И правильно сделал. Надо уметь защищаться и сдачи давать. Пусть не лезут!
Такого поворота дела я не ожидал и опешил, не зная, что делать: говорить или молчать. Тогда майор попросил:
— Снимите рубашку. Хочу посмотреть вас.
Я послушно разделся до пояса. Осмотрев меня со всех сторон, майор приказал:
— Одевайтесь.— И тут же добавил: — Стоило столько шума поднимать...
— Стоило! Меня грозили в карцер посадить. Зачем мне лишнее взыскание иметь? — торопливо объяснял я.
— Никто вас и не наказывал бы,— равнодушно бросил он и вышел так же неожиданно, как и появился в камере. Не поняв до конца смысла этой сцены, я снова взялся за чтение обвинительного заключения.
За день прочитать не успел. Заставил себя лечь спать. Но в голове был сумбур: размышления о проверяющих смешивались с формулировками заключения. Долго не мог уснуть. Усталый мозг никак не хотел переключаться на отдых. Волновала предстоящая тяжелая аналитическая работа. Только далеко за полночь я наконец сморился.
Утро началось с прогулки. Стояла тихая солнечная погода. Стараясь отвлечься от беспокойных мыслей, я до изнеможения выполнял физические упражнения. Уставший, но посвежевший, вернулся в камеру и продолжал читать.
Незадолго до обеда женщина-контролер спросила, не хочу ли сходить в буфет.
— Будете отовариваться? — раздался за дверью приятный голос.
— Да, да! — с готовностью откликнулся я. Деньги на моем счету были. Отыскав квитанцию, я поспешил на выход. Из соседней камеры выходили заключенные. Странно. Эта этапка была пустой, а теперь уже заполнена, видимо, до предела. И вдруг среди выходящих я увидел Томсона, за ним вышли и другие мои бывшие сокамерники. Среди них не было только Дирванса и Мужниекса. Увидев меня, бывшие сокамерники поздоровались, и мы вместе пошли за контролером на третий этаж, где находился буфет. По дороге, поравнявшись с Томсоном, я спросил:
— А где Дирванс?
— Его вчера забрали на этап, на суд,— ответил он и чуть смущенно добавил: — Я на тебя ничего не писал.
Я-то знал, что он лгал (меня знакомили со всеми показаниями сокамерников), но ничего не ответил и спросил:
— А как вы оказались в этой хате?
— Так ты не в курсе, что было на этой неделе? — удивился Томсон.— Приходили к нам два прокурора. Один из Москвы. Их сопровождал наш заместитель по режиму. Посмотрели они нашу хату, ужаснулись. Дали указание подполковнику немедленно сделать ремонт, привести хату в божеский вид. Потом приходил майор из МВД, расспрашивал, как что было (по поводу драки). Ну мы, ясное дело, все за тебя были. Мужниекса уже забрали на этап. Мы поняли, что все забегали после твоих жалоб... В общем, дал ты им жару. Нас сразу перевели в другую хату, а там ремонт начали делать.
Слушая Томсона, я заметил, что мне подмигивает Арвид, давая понять, что тоже хочет что-то сказать. Приотстав немного, я поравнялся с Арвидом, который прошептал мне на ухо:
— Классно приварил ты Дайнису! Он потом всю ночь примочки делал.— Оглянувшись с опаской по сторонам, продолжил: — Струсили они тогда крепко. Только когда ты ушел, стали тебя поливать по-всякому. Но я старый воробей, все понял. Молодец. Прижал их как следует!
Я молчал. Оказавшись в буфете, к удивлению заметил, что Томсон покупал продукты вместе с Арвидом, по его квитанции. Они советовались, что купить. «Как в камере, так петух, которого все презирают и брезгуют даже за одним столом с ним сидеть. А здесь блюститель тюремных традиций как увидел, что у петуха есть деньги
на отоварку и можно на халяву вкусно пожрать, так сразу забыл о всех запретах. Вот это кадр!» — подумал я, глядя на мирно беседующих Томсона и Арвида. Купив сахара, масла и сухарей, я возвратился в камеру и с наслаждением похрустывая сухарями, продолжал читать обвинительное заключение.
Когда дочитал до конца, меня трясло. Гнев, возмущение, ярость распирали грудь, горьким комом подступали к горлу. Мысленно я проклинал всеми известными мне ругательствами следственную группу прокурату. Мучительно горько было сознавать, что эту страшную темную силу мне вряд ли удастся победить.
Три дня, не поднимая головы, сидел я за столом, пытаясь успеть завершить полный анализ обвинительного заключения. Я разложил все свои выписки, производил сверку показаний каждого лица, на которого делали ставку следователи. Находил множество несоответствий, искажений, подтасовок, искусно используемых для доказательства моей вины. Хорошо, что я в свое время детально изучил дело и выписал показания главных свидетелей. Не имея под рукой материалов уголовного дела, я по своим записям легко обнажал фальсификацию как протоколов допросов, так и данных, приведенных в обвинительном заключении. Теперь я чувствовал себя исследователем, старательно отыскивающим все новые факты и аргументы. В предстоящей тяжкой схватке я либо выиграю, либо проиграю. Конечно, хотелось уйти из зала суда победителем. Очень хотелось. Поэтому работал до полного изнеможения. И только тогда, когда мозг уже не мог воспринять никакой информации, вставал из-за стола, ходил по камере, ложился на койку, пытаясь скорее восстановить работоспособность. И как только чувствовал малейшее просветление в сознании, снова продолжал свою «мозговую атаку».
Но как ни спешил, не успел завершить работу. На четвертые сутки утром меня вызвали к заместителю начальника по оперативной работе. Майор Воронцов сидел за столом и говорил по телефону. Жестом указал на стул. Я напряженно ждал, когда он окончит
разговор. Мне уже мерещились всякие страхи в связи с откровенным разговором с московским прокурором. Я понимал, что нахожусь в полной власти администрации СИЗО, и она может сделать со мной все, что угодно... Окончив телефонный разговор, майор, дружелюбно улыбнувшись, озабоченно спросил:
— Ну как, окончили чтение и подготовили речь на суде?
— Нет, к сожалению, не успел. Еще бы дня два.
— Нет, не могу. К нам идут большие этапы. Негде размещать людей,— устало проговорил он.— Самое большое, что могу сделать, сочувствуя вам, продержать до завтра.
— Ну и то хлеб,— удовлетворенно заявил я, но тут же спохватился: — А не поселите ли вы меня в камеру № 216? — И, не дав ему ответить, пояснил: — На прогулке я нашел вот эту записку, в ней говорится, что в этой камере сидит некий Алекс-убийца.— И протянул записку майору. Тот удивленно посмотрел на меня и быстро пробежал глазами записку. Помолчав немного, произнес:
— Нет, я вас туда не поселю. Пойдете в камеру № 200. Там парни как будто солидные. Думаю, что найдете общий язык,— говорил он, вписывая в мою карточку номер камеры и дату:
— Завтра вас заберут от нас. Я вызывать вас уже не буду; дел невпроворот, ЧП за ЧП. Не успеваю разбираться.— Я молчал, пытаясь представить, что ждет меня в 200-й камере, но поинтересоваться конкретной характеристикой моих будущих сожителей не решился. Майор между тем продолжал:
— Если возникнут какие-то недоразумения, появятся неотложные вопросы, просьбы, пишите заявление на мое имя. Вызову, как бы ни был занят, и чем смогу, тем помогу,— заверил он в конце беседы.— Все. До свидания,— любезно распрощался он и сразу взял трубку телефона. Я попрощался и вышел. В коридоре меня, как всегда, ожидала женщина-контролер. Она отвела меня в камеру. Я уселся за стол и продолжал шлифовать свои доказательства и контраргументы. За работой день пролетел незаметно. На следующее утро я опять взялся за писанину.
После завтрака через форточку кормушки меня позвала работница спецчасти и указала, где я должен расписаться на копиях сопроводительных писем к моим жалобам и заявлениям. Поставив роспись, я спросил:
— Скажите, пожалуйста, вы, наверное, работаете не первый год? — Сидя на корточках возле форточки, я хорошо видел лицо женщины, перекладывавшей бумаги в папке.— За сколько дней обычно Верховный суд высылает подсудимым обвинительное заключение?
Та посмотрела на меня и уверенно ответила:
— Где-то дней за десять.
— Спасибо,— поблагодарил я. Дверца кормушки закрылась. «Точно, сходится,— подумал я.— Майор намекал на девятнадцатое. Обвинительное мне вручили девятого, поступило же оно восьмого. Значит, через два дня начнется процесс. Дождался! Чем только закончатся мои мытарства, вот в чем вопрос...»
После обеда в камеру пришел корпусной и сказал мне собираться с вещами. Собрав вещи и свернув постельные принадлежности, я поднялся на второй этаж. Обвинительное заключение, как просил майор Воронцов, я отдал сопровождавшему меня корпусному старшине.
Вскоре я уже стоял в новой камере, довольно чистой, светлой, с четырьмя койками в два яруса вдоль стен.
Навстречу поднялся без малого двухметровый арестант. Светлые пышные усы были ему определенно к лицу. После традиционного приветствия он дружелюбно указал, куда мне положить постель, предварительно убрав разложенные на койке вещи. Другой заключенный, толстый жгучий брюнет в полосатой тельняшке, продолжал лежать, подозрительно наблюдая за мной. Я устало опустился на табуретку и с любопытством еще раз оглядел камеру. Обратил внимание на чистую раковину, небольшое зеркальце на стене. Окна были открыты настежь. Дышалось легко. Камера мне понравилась. Я сказал высокому:
— Хорошая у вас хата. Чисто и светло. Не то, что в 208-й, где я раньше был. Ее и хлевом трудно назвать.
— Так что, ты оттуда выломился? — недружелюбно спросил лежавший толстяк.
— Не выломился, а сам ушел. Подрался и ушел, разбив одному нос. За что чуть в трюм не угодил.
— Бандит, значит, к нам пришел,— язвительно подхватил толстяк.— Теперь нам придется отсюда выламываться.— Он скрестил толстые мускулистые руки на мощной груди, как бы показывая, какой он здоровый:
— У нас ты будешь вести себя тихо. Мы не дадим балаган устраивать. Надеюсь, ты меня понял?
Не желая начинать знакомство с вражды, я сдержал себя и как можно спокойнее объяснил:
— Мужики! Я никогда ни к кому не придирался и в дружбу тоже не навязывался. Старался жить со всеми мирно. Но и никому не позволял садиться на меня, не позволял, чтобы меня оскорбляли и унижали. Я уже не юноша. Мне больше тридцати пяти лет, заниматься глупостями не намерен.— Подумав, добавил: — У меня высшее образование и на все имею свою точку зрения. Привык называть веши своими именами.
Такой поворот разговора явно не понравился полосатому, он сморщился, как от кислой ягоды, и демонстративно повернулся лицом к стеке.
— Как тебя зовут? — спросил высокий.
— Валерий. А тебя?
— Райнис. Ты русский?
— Да.
— А мы оба латыши. Но эта камера интернациональная. Мы нормально относимся ко всем.
— У вас даже зеркало есть,— высказал я удивление, разглядывая свое отражение в нем: — А я уж давно не смотрелся в зеркало. Забыл, как и выгляжу. Да-а! Постарел, однако...
— А сколько же ты уже сидишь? — поинтересовался блондин, закуривая сигарету.
— Год, ровно год, как под стражей.
— Ого! — удивился Райнис.— И что, никак не осудят?
— Никак,— вздохнул я и, не подумав, добавил: — Восемнацатого в суд еду. Год ждал этого дня. Не виновен, может, домой отпустят...
— Откуда тебе знать? — удивился Райнис.— Никому ведь заранее не сообщают, какого числа состоится судебное заседание. Как ты мог узнать об этом?
Я понял свою оплошность. Не надо было говорить лишнее, не было бы и таких вопросов. Стал думать, как лучше ответить. Но тут не выдержал полосатый:
— Не знаешь, как? На кума работает, тот и сообщил. Будь с ним осторожен, Райнис. Подослали разнюхать, чем мы дышим,— и повернув голову, чтобы лучше видеть меня, добавил: — Уж больно он шустрый. Рекламу себе делает.
— Может, кто и работает на опера, но ко мне это не относится,— многозначительно ответил я.— И мне глубоко безразлично, кто вы и что собой представляете. У меня своего горя по горло. Не знаю, как сбагрить. И приключений не ищу.— Подумав, добавил: — А дату знаю потому, что женщина из спецчасти сказала, что примерно через десять дней после поступления обвинительного суд назначает заседание.
— А обвиниловка с собой? Дай почитать,— нахально попросил полосатый.
— Нет. Осталась в спецчасти,— ответил я и забеспокоился: как объяснить, почему она там? Ведь всем подсудимым обвинительное выдается на руки. Незамедлительно прозвучал насмешливый голос лежащего:
— Вот видишь, как стреляет по ушам? Надо будет пронюхать, что за птица к нам прилетела.
Райнис, настроенный более дружелюбно, спросил:
— А почему его тебе не дали?
— Оно у меня очень большое. Опер попросил почитать,— стал я сочинять легенду. Это почувствовали сокамерники и насмешливо переглянулись.
— А за что ты сидишь? — допытывался Райнис. Я обратил внимание, как оба насторожились.
— За спекуляцию, контрабанду. Навесили всего понемногу, но ни душой, ни телом не грешен.— Чувствовал, что сегодня лгу неубедительно. Мне явно не верят.
— А кого ты из спекулянтов из Риги знаешь? Назови хоть пару маститых. Я всех знаю,— усмехнувшись, попросил Райнис. Я понял, что меня хотят зажать в угол и изобличить. Но за словом в карман я никогда не лез, поэтому спокойно назвал первые попавшиеся латышские фамилии: -— Алкснис, Прикуле.
— Что-то я таких не знаю,— недоверчиво заявил Райнис.— Где они живут?
— В Риге.
— Рига большая, а конкретней? — наступал он.
— Мне кажется, что я на допросе в ОБХСС или мне мерещится? — улыбаясь, спросил я: — Может, вам еще назвать, кто с кем из них спит, где они хранят драгоценности и в каких делах замешаны? —• Такой ответ не устраивал сокамерников. Заметив их замешательство, я перешел в атаку:
— Я вот не могу понять, кто же тут у нас на кума работает?
— Ладно! Развонялся. Не хочешь, не говори,— презрительно бросил полосатый и снова отвернулся к стене.
Но Райнис не хотел сдаваться, и он, теперь уже издалека, стал подходить к тому же вопросу:
— Ты Ригу хорошо знаешь?
Я разгадал его замысел и поэтому сразу ответил:
— Нет. Почти совсем не знаю. Пару раз проездом был.
— Вот как,— удивленно повел бровями сокамерник.— А как же ты дела здесь обтяпывал? — удивился он.
— А кто сказал, что я их здесь обтяпывал? — делая акцент на слове «обтяпывал», вопросом на вопрос ответил я.— Это, брат, тебе приснилось. Я же сказал, что не виновен.— Решив прекратить неприятный разговор, добавил: — Не трать время попусту. Больше я о своем деле ничего не скажу.— А чтобы мой отказ звучал еще убедительнее, пояснил: — Я даже следователям не давал показаний. Напрасный труд, мужики!
Они поняли, что я намекаю, будто кто-то из них работает на опера. Это обидело Райниса. Он замолчал, закурил сигарету. Но после продолжительной паузы снова спросил:
— А откуда ты родом?
— Из Москвы.
— А на какой улице живешь?
— На Воровского.
— А у тебя подельники есть? — не отставал Райнис.
— Есть.
— Сколько?
— Десять!
— Да не слушай ты его,— снова вмешался толстяк.— Не видишь разве, что врет.
— Я-то вижу...
— Ну, раз видите, чего напрасно время терять? Тогда я лучше посплю,— заявил я, забираясь на кровать.
За ужином я достал закупленные на отоварке масло и сахар и пригласил сокамерников поесть со мной:
— Давай, мужики, налетай, чем богат, тем и рад,— пригласил я их.— Не стесняйтесь...
Но оба, посмотрев друг на друга, продолжали есть баланду. Потом они достали свое сало и, поделив его между собой, стали есть. Заметив мое недоумение, полосатый пояснил:
— А может ты петух? Надо проверить.
Я тут же отпарировал:
— Может, ты сам петух? У кого что болит, тот о том и говорит.— И немного погодя, добавил: — Наглый ты очень и прешь, как танк.— Но мои слова, против ожидания, совсем не задели его и он, продолжая есть, сказал:
— Ты заметил, как баландер, когда раздавал пищу, посмотрел на нас? Райнису он всегда лишнюю кружку чая давал или тарелку ухи, а сейчас ничего.
— Ты, Юлий, прав. Я попросил у него еще одну тарелку баланды — не дал. Видимо, точно, этот на кума работает.
— Мужики, вам еще не надоело? — возмутился я.— Ведь баландер был не один, рядом с ним корпусной стоял. Неужели он будет в присутствии дежурного лишнее выдавать, чтобы его наказали и перевели в другое место, а то и вообще на зону отправили? — Но на мои доводы сокамерники не ответили, продолжая молча работать челюстями. После ужина Юлий потянулся, вставая из-за стола, и пригрозил:
— Разберемся. Все равно узнаем, кто к нам залетел.— Подошел к раковине, звучно ополоснул лицо, прополоскал рот и добавил:
— В понедельник, Райнис, запишешься к оперу. Выясни у него, кто есть кто. Больно он мне не нравится.
Я промолчал, все более убеждаясь, что хорошие отношения с сокамерниками у меня вряд ли получатся. Они явно враждебно относились ко мне. Это не радовало. Но сейчас мне было не до этого, все мои помыслы занимал предстоящий судебный процесс. Все остальное уходило на второй план. Вечером, уже засыпая, я услышал командный голос Юлия:
— Петух, утром встанешь без двадцати шесть и умоешься. Затем будет мыться Райнис, а в двадцать минут восьмого буду мыться я. Понял?
— Может, ты мне прикажешь в пять вставать?
— В пять не надо, а без двадцати шесть...— угрожающе повторил он.
Утром я встал после команды «подъем» и, как ни в чем не бывало, умылся. Юлий промолчал.
На прогуле мы втроем бегали и выполняли разные физические упражнения. После обычной для меня подготовительной программы я стал боксировать, иммитируя бой с тенью. Это почему-то очень не понравилось Юлию и, подбежав ко мне, он с ненавистью закричал:
— Брось прыгать!
— Что? — не понял я.
— Брось прыгать, говорю! — повторил он гневно. Бабье лицо его сморщилось, глаза стали колючими.
— А кто ты такой, чтобы мне указывать? — вызывающе ответил я и добавил: — Что хочу, то и делаю. Я же тебя не трогаю?
— Я сказал, чтобы ты не прыгал, а ты все продолжаешь? — выходя из себя, наступала гора мяса.— Что, может, врезать? — Он показал мне свой огромный кулак. Назревала драка. Противник был выше ростом, в полтора раза толще и почти во столько же тяжелее. Но меня сдерживал не только страх перед мощной фигурой, но и свежее воспоминание о только что окончившемся неприятном разговоре по поводу конфликта с Дайнисом. Теперь, перед судом, конфликт был мне совсем некстати, и я спасовал.
— Не надо,— глухо, глядя себе под ноги, попросил я. Подмигнув Райнису, довольный Юлий отошел от меня. Мне же стало стыдно своей трусости, в душе боролось самолюбие и целесообразность. Но мое тщеславное самолюбие, конечно же, взяло верх. И я снова стал прыгать назло недоброжелателю. Тот, красный от злости, подбежал ко мне, попытался схватить меня за грудь, но я изо всей силы ударил его по рукам. Это обескуражило Юлия, он отступил и уже издали заорал:
— Перестань!
Взглянув на его перекошенное бешенством лицо, я решил не идти на дальнейшее обострение и спокойно отошел в сторону... Весь день мы занимались каждый своим делом. Я листал конспекты, освежая в памяти материалы дела, шлифовал детали защиты. Райнис тоже писал за столом. Порой он отрывал взгляд от бумаги и задумчиво смотрел в окно. Юлий все время спал. Он обладал удивительной способностью спать круглосуточно, за исключением перерывов на прогулки, прием пищи и удовлетворения естественных надобностей. Спал он на удивление крепко. Мощный храп стал характерным атрибутом камеры. И что интересно, он умудрялся храпеть в любом положении: на боку, на спине, на животе. Вероятно, у него было богатырское здоровье. В здоровом теле — крепкий сон...
Долгое одиночество или, наоборот, невероятная переполненность камер с их дикими нравами, где человек низводится до положения скотины, порождали потребность в^Ьюкойном, нормальном собеседнике. Во время суда в Риге я отводил душу, насколько позволяла
обстановка, в разговорах то ли с Анатолием Журбой (что давалось с трудом), то ли с Владимиром Буньковым (это было еще реже), то ли с Валерием Кирпиченком, наиболее искренним из всех моих подельников. Сам же не единожды был в роли внимательного слушателя, которому исповедовались совсем чужие люди, истерзанные неизвестностью и бесправием. Перед одним из этапов в суд (этапом называется каждая поездка заключенного под стражу) меня поместили в бокс с рецидивистом, который выступал в этот раз в качестве свидетеля. Худой беззубый мужик неопределенного возраста отбывал срок на зоне особого режима. «Соседство не из приятных,— подумалось мне.— Начнет выступать, права качать, а мне сосредоточиться надо. Где коротко, там и рвется». Но на этот раз я оказался плохим психологом. Иван, как назвал себя нечаянный сосед, был нормальным человеком, только вот загнанным обстоятельствами и безжалостной жизнью в глухой угол. Вот как запомнился мне его рассказ:
«Таких, как я, тысячи, если не сотни тысяч. Родился в Москве и школу там же окончил, на завод пошел работать. Жил с матерью, отец рано умер. Призвали в армию. Отслужил танкистом, вернулся. Женился, правда, неудачно — подруга подгуливать начала. Развелся, уехал в Тюменскую область, чтобы забыть о беде, да и подзаработать. Тогда многие на Север подались за длинным рублем. Деньги большие, а деть их там некуда, только водки и спирта навалом. Пили по-черному, до отключки. Спьяну подрался с собутыльником, сломал ему руку. Три года вкалывал на хозяина. Отсидел, приехал домой, в столицу. Мать к этому времени уже на пенсию вышла, 80 рэ получала. Я в паспортный стол: так, мол, и так, вернулся домой, к матери-старушке, прописывайте. А мне — от ворот поворот. На кой хрен в столице уголовники, своих достаточно. Говорю, что тут родился, вон квартира двухкомнатная, жилплощадь моя. А мне — «твой адрес — Советский Союз». Поболтался, поболтался, два предупреждения за тунеядство схлопотал, и... выписали мне годичную путевку на зону. Откинулся. Снова пошел во все двери стучать. Отмахиваются: иди ты, парень, подальше, забудь про Москву. Смотался в Псковскую область, пошабашил немного, а на работу никто не берет, документы мои, видишь, не нравятся. Снова к матушке вернулся, у нее здоровье совсем подсело. Не буду же я на ее пенсии сидеть. В общем, махнул на все рукой и спер из магазина кожаное пальто, загнать хотел, чтобы хоть какие копейки в кармане были. Засыпался, конечно. Еще три года «перевоспитывался» на зоне. Отсидел, а мамаша чуть ли не при смерти. Сколько поклонов сделал, сколько справок собрал, сколько нотаций выслушал... Результат тот же: «в прописке отказать». Напился, ночевал на вокзале и увел у соседа «угол» — чемодан. Признали рецидивистом, отмерили на этот раз уже 4 года. Отмотал и их от звонка до звонка. В Москве уже делать было нечего: мать умерла, как только узнала о краже. Попробовал найти место во Владимирской области, там народу не густо. Объявлений навалом: «требуются... требуются... требуются...» А я и слесарь, и печник, и столяр — на зоне всему научился. Показываю ксивы, сразу рожи кислыми становятся: «Знаете, мы это место для другого человека держим, мы обещали». Чаще прямо в лоб бьют: «Нам такие не нужны!» Обращался в ментовку, а там один разговор: «Кати ты, Божий сын Иван, отсюда подальше, мы и своих зэков пристроить не можем». А то и советы дают: «Ограбь кого-нибудь или укради, тогда мы быстро тебе место найдем». Так и сделал: спер кусок колбасы, сыра, консерву рыбную. Меньше трех мне не дают...
Вот откинусь, куда податься? Дорога та же: глоток воли — бутылка чернил — кража — зона. В общем, нары, баланда, параша, небо в клеточку».
Я слушал этого несчастного и, хотите верьте, хотите — нет, мои собственные беды начинали казаться не такими уж страшными. У меня еще не была сломлена воля, жила надежда на благоприятный исход суда, в конце концов, в меня продолжали верить жена и мать, оставались настоящие друзья. Его же так называемое общество справедливости отторгло напрочь.
ВА-БАНК
Рижский изолятор в дни моего невольного заточения показался тем самым столыпинским вагоном, в котором меня сюда доставили. Что ни день — разные попутчики по дороге в суд, что ни встреча — новая трагедия. И, наверное, потому, что виделись мы со случайными соседями в первый и последний раз, они были, как мне думается, искренними: кто в раскаянии, кто в неприкрытой злобе.
— За вышаком еду,— процедил он сквозь сжатые зубы, заглядывая ко мне в лицо.— Через час приговор зачитают.
Я далеко не слабонервный человек, хотя изоляторы и подкосили здоровье, но невольно отшатнулся.
— Не боись, не укушу,— дохнул он табачным дымом.— Ты мне ни на хрена не нужен. Мне бы до племянничка, суки, добраться. Вот ему бы я глотку перегрыз.
Он резко повернулся, метнулся к противоположной стене узкого бокса, выплюнул сигарету, сразу же достал новую, ломая спички, прикурил, сделал несколько судорожных затяжек, смял сигарету в кулаке, даже не сморщившись от ожога, опять остановился передо мной.
— И ментов пару штук уложить бы еще. Дурак, ну дурак же, пожалел их, сволочей...
Как реагировать на его бессвязный лихорадочный рассказ, я не знал и поэтому молча рассматривал этого сорокалетнего мужика, явно находящегося на грани психического срыва.
— Понимаешь, кореш,— вновь возбужденно заговорил он,— одного только хочу, чтобы и племяннику дырку в голове сделали. Но выкрутится, гаденыш, жить будет.
— Тебя Лехой зовут? — вдруг вспомнил я.
— Ага. А ты откуда знаешь?
Глаза соседа недобро сузились, беспокойные пальцы сжались в кулаки.
— Ты на прогулке сигарету просил. Я записку видел.
— Было такое. Помогли мужики, и на том спасибо.
Леха уперся лбом в степу, закачался, как маятник,
промычал что-то нечленораздельное. Но ему нужно было выговориться, выплеснуть наружу все бушевавшее в душе.
— Откинулся я из зоны, стал с семьей жить, все чин-чинарем. А тут эта мразь сопливая, племянничек, подваливает и наколку дает: недалеко, мол, на хуторе старуха живет. Скоро помирать, а у нее золотишко водится. В общем, клюнул я, как фраер. Прихватил автомат...
— Автомат? Откуда?
— У меня много чего было, жаль только, что теперь не пригодится. Так слушай дальше. Заваливаем вечером к старухе. На дворе встретили. Так, мол, и так, базарим: гони золотишко, если хочешь святое причастие перед смертью получить. Она уперлась, жалко ей, видишь, с добром расставаться. Племяш уговаривать остался, а я в дом пошел, там пошарить. Проверяю шкафы и комоды, а с улицы крик. Выхожу, а бабка в крови лежит. У племяша терпения не хватило, вот и начал ее «воспитывать». Старуха живая еще, моргалами зыркает. Ну, думаю, запомнит старая карга. Автомат у меня в руках был, я и давай ее прикладом месить... Как нашло на меня... Красные сопли летят во все стороны, хрустит что-то...
Признаюсь, я боялся в эти секунды глядеть на Леху. Судорожными движениями он показывал, как бил старого человека, как топтал уже мертвое тело ногами... Он вновь жадно затянулся дымом, продолжил свой страшный рассказ:
— Отволокли старуху в огород. Я племяшу и базарю: «Надо, родственничек, линять отсюда подальше. И не только с хутора, а вообще из Латвии. Легавые быстро вычислят, чья это работа». Соседний хутор далеко, километра за полтора, но хозяева видели, что мы болтались в том районе. В общем, дал я племяшу адрес, где у меня бабки заначены, сказал шмотки прихватить и жратвы. Договорились, где буду ждать. У меня в другом районе свой схрон был — сарай старый. Сижу, мандражирую, жду. День проходит — нет моего щенка, второй — ни слуху, ни духу. Думаю, пора на пяту, когти драть надо. А на третье утро вижу: легавые к сараю лезут, обложили, как волка. Через мегафон кричат: «Сдавайся, тебе лучше будет!»
Нет, думаю, хрен вам, менты поганые. Просто так я в руки не дамся. Только они поднялись, я из автомата очередь засадил. Залегли, сами стрелять стали. А мне их пули до лампочки: сарай старый, бревна по полметра. Нашлись сопляки смелые, ближе подобраться захотели. Я троих и уложил, правда, не на смерть. Но двое в сарай прорвались. Я бы их, зеленых, насквозь продырявил бы, да пожалел — совсем сосунки еще. Теперь о другом жалею. Знал бы, что вышак дадут, и этих бы пришил. Один хрен — червей кормить. А так хоть бы за компанию...
Мне хотелось заткнуть уши, а еще лучше — вырваться из этого бокса, чтобы не дышать одним воздухом со страшным человеком, Лехой-убийцей. А он все говорил, обращаясь уже не ко мне, а изрыгая проклятья в адрес подельника — племянника.
— Этот сученыш взял мои бабки и завалил к своей шкуре. Попрощаться ему, видишь ли, захотелось. И загудел на два дня, пьянь подзаборная. Там его, тепленького, и повязала контора. Как прижали, он и раскололся, где я. Недоносок, жертва аборта!
— Ты понимаешь, кореш,— он опять обратился ко мне,— этот щенок мог спасти мне жизнь. Скажи он на суде, что старуху прикончил не я, а он, и мне не было бы расстрела. Малолеткам даже за мокрое дело не дают вышака, отсидел бы лет десять и откинулся. Так нет, сука поганая, на меня все свалил. Ну ладно, у подруги моей кое-что в заначке есть, оставил я ей. А кенты мои за бабки кого хочешь пришьют. Так что скоро встретимся с ним на том свете.
Таким вот — не раскаявшимся, готовым вновь пролить кровь ушел на суд Леха-убийца. После от одного из случайных соседей по камере я узнал, что на его совести еще одно, более страшное преступление. Он убил своего собственного сына: утопил грудного ребенка в ванне. Этот кошмар долго не давал мне спать по ночам.
И еще одного выродка из рода человеческого повстречал я на коротком этапе из Рижского централа в Верховный суд Латвии. Наш автозак несколько раз тормозил у здания КГБ, и в отдельный отсек помещали или выводили из него плотного мужчину, руки которого был и постоянно стянуты сзади наручниками. Общаться с таинственным незнакомцем было запрещено, да и, собственно, мне было вполне достаточно собственных бед, чтобы еще интересоваться чужими. Но случаю было угодно распорядиться, чтобы во дворе здания, где находился суд, мы оказались рядом в традиционной позе заключенного: лицом к стене, ноги широко расставлены. Машина запаздывала, и мой сосед торопливо зашептал:
— Может, Бог помилует. На экспертизу в Москву должны отправить...
— А что случилось, за что взяли?
— Страшно и сказать. Десяток изнасилований, несколько убийств...
«Второй Михасевич. И тоже хочет выкрутиться...»
— Нет, ты не думай, я не прикидываюсь,— будто прочтя мои мысли, начал уверять меня сосед.— Сам не понимаю, что происходит. Захочу женщину, будто током кто ударит. А как только добьюсь желаемого, тянет задушить ее. Как в тумане каком. Будто и не я все это делаю, а кто-то посторонний.
— А что говорят эксперты?
— Уникальный случай. Никто не может дать точного заключения, определить, в каком состоянии я бывал, когда насиловал и душил.
— А ты как сам думаешь?
— Делал-то все я, но как будто мной кто-то руководил... Вот адвокат и настаивает, чтобы меня на экспертизу в Москву направили.
Был это хитрый ход изощренного садиста или горячечный бред больного человека, судить не мне, а медикам, на то и существуют специальные институты. Могу лишь сказать, что для меня он ничем не отличался от жестокого убийцы Лехи. И для одного, и для другого чужая жизнь не стоила ни гроша.
Только о своих интересах, о своих сиюминутных потребностях думала и компания юнцов, до отказа заполнившая нашу камеру. Причем вначале под стражу были взяты двое, остальные приходили в суд из дома. Несколько заседаний по их вине были сорваны, они не являлись на процесс, и тогда судья решил прекратить эту вольницу, арестовав остальных. Собравшись все вместе, подельники вначале хорохорились, изображали из себя суперменов. Внешне они выглядели совсем неплохо: модные джинсы, куртки, сапоги, туфли — в Риге прибарахлиться всегда можно было неплохо. «Жаль юнцов,— подумалось мне,— скоро станут, как облезлые кошки. Разденут их, как пить дать...» Мои предположения оправдались, от былого великолепия не осталось и следа: на ногах появились рваные тапочки, «просящие есть» тюремные ботинки, плечи прикрывали клифты времен гражданской войны. Кожа на руках потрескалась, она начала шелушиться, глаза и щеки запали, волосы сбились в колтун — беспризорные да и только. Если в первые дни они не задумываясь выбрасывали в урну половину сигареты, то теперь были рады любому грязному окурку.
Компания, как нетрудно было догадаться, проходила по ординарному, к сожалению, в наше время делу — групповому изнасилованию. Двое первых, что поселились в камере раньше, шли «паровозом» — были инициаторами преступления, остальные поддержали насильников. «Мы почти целым классом подружкам «хор» устроили,— вызывающе хвастались вначале юнцы.— Так уже не один раз было, только вот сейчас подзалетели. Нашлись недотроги, чтоб их...» Но апломб и шелуха слетали с них, все чаще они задумывались над будущим, становились угрюмее, злее, все чаще возникали ссоры. Тюремная жизнь потеряла романтику, а будни в камере оказались гораздо более мрачными, чем виделись с Рижского пляжа.
Не только подростки неожиданно для себя поменяли взморье на изолятор. В таком же пиковом положении оказался и вполне респектабельный мужчина, приехавший в Ригу в командировку из Львова. Жгучий брюнет с глазами, будто маслины, говорил с легким южным акцентом, но явно не кавказским.
— Румын я, Ионом зовут,— объяснил он.— Отец был в командировке в Бухаресте, познакомился с девушкой. Она приехала во Львов, поженились. Потом мать что-то не поделила с отцом, вернулась на Родину, в Румынию. А я остался во Львове, отслужил в армии, женился. Все как-будто складывалось отлично, хотя я и любитель погулять на стороне. И вот эта проклятая командировка сюда...
— Загулял?
— Да не очень-то. Подвыпил, нашел девицу, двинули на природу. Она поломалась-поломалась, но легла под меня. Мужик я в самой силе, понравилось ей вроде. А вернулась домой, родители пристали: «Где была, с кем была?» Она и выложила все, как на тарелочке. А я, дурак, сказал, где живу. Прямо в гостиницу милиция приехала и забрала. Ей, оказывается, еще восемнадцати нет... Муть какая-то... Ты подумай: отец за рубежом, в Бухаресте, невесту находит, а я в обычной командировке в тюрьму сажусь. Кошмар, да и только. Дома жена, дочка. Как
вернусь, если вернусь, не представляю! Полный завал!
Сочувствовать Иону или осуждать его было делом бесполезным. Он сложившийся человек с какими-то своими принципами, и вряд ли его изменит даже тюрьма. Может, только осторожнее станет, осмотрительнее.
— Паспорт спрашивать надо! — только и смог я ему сказать.
— Не до шуток мне,— устало и обреченно отмахнулся неудачливый любовник.
Если так позволительно сказать, соседство Иона было приятным. Он не матерился, не докучал ненужными разговорами, был вроде случайного постояльца в одном гостиничном номере. Мне крайне важно было в дни суда надо мной сохранять спокойствие, не растрачивать попусту энергию, беречь нервы. И поэтому меня неприятно поразило и возмутило, когда, вернувшись после очередного заседания в камеру, я увидел, что моя койка занята, а матрац заброшен на второй ярус.
— Что за новости? Кто это права качает?
Навстречу поднялся парень лет двадцати пяти, мускулистый, крепко сбитый. И плотная фигура, и спокойное лицо, на котором выделялись большие серые глаза, дышали силой и уверенностью.
— Алексей,— протянул он широкую ладонь.— Переселил тебя я, но ты послушай...
— Ничего слушать не собираюсь. Положи мою постель на место, после будем вести разговоры.
— Да не кипятись ты, друг. Мне трудно наверх забираться, после операции я. Тебя все равно целый день в камере нет, только спишь, какая разница — вверху, внизу...
Нижняя койка в тюремном обиходе свидетельствует о привилегиях ее хозяина, об определенном статусе. Тут мне явно бросали вызов.
— Я свое место никому уступать не буду!
— Пойми, я из Афгана вернулся. Вот рана на ноге.— Он задрал брючину, показал шрам.— А еще вот что заработал...
Алексей расстегнул рубашку, оголил живот. Сверху донизу шел красный, еще полностью не заживший рубец.
— Язву нажил на сухом пайке да на грязной воде. Операцию сделали недавно.
Он говорил не спеша, уверенно, без вызова, но серые глаза поменяли цвет, превратились в стальные. Чувство-
валось, что афганец готов постоять за себя. Назревал конфликт, которого мне надо было избегать любым способом. Я не собирался поступаться своими правами, но драться во время суда означало еще более усугубить свое бедственное положение.
— Наглость вообще-то наказывается. Но я скоро ухожу отсюда. Так и быть, пользуйся моей добротой.
— Наказать я и сам любого могу. В Афгане научили, там хлюпики не в моде.
Продолжать дискуссию мы не стали, тем более, что Алексей не лез на рожон, а объяснял свой поступок вполне логично. Правда, я долго не мог взять в толк, что занесло его в Рижский централ.
— Пожить хорошо после дембеля захотелось, вот и влип. Спекуляция, кража,— туманно объяснил он, но в подробности вдаваться не стал. Не решился лезть в душу к человеку, прошедшему через афганскую бойню, и я. Мы, как говорят, мирно сосуществовали. В камере это лучший вид согласия.
Больше досаждали старожилы камеры — Алоиз, Лаймонис, пробовал иногда поднять голос Вадим. Несмотря на всю разношерстность этой троицы, они порой объединялись в какой-то труднообъяснимой злобе. Причем им было все равно: лить грязь друг на друга, шкодничать по отношению к другим сокамерникам, пакостить соседям из смежных камер. Особенно изобретательными они становились, когда дело доходило до поисков табака. Обмануть, утаить, обделить хотя бы на одну затяжку дешевой сигаретой было для них чуть ли не высшим достижением. Иногда «подкармливал» их я: то мой подельник Анатолий Журба расщедрится во время судебного заседания, то адвокат выделит несколько папирос. Тогда у сокамерников наступал праздник, они готовы были услужить мне, будто вассалы своему господину. Но такое случалось редко, и они прибегали к различным ухищрениям, чтобы раздобыть табак.
Однажды решили испробовать традиционный тюремный способ: Алоиз крикнул в окно жильцам верхней камеры, что может обменять джинсы на махорку. Согласие было получено, и вскоре на «коне» — веревке, связанной из рваных носков — пришел долгожданный кулек с табаком. Но джинсов у моего трио не было, они попросту надули соседей. Проступок по тюремным законам архисерьезный, за это могут и избить, и «опустить», а уж раздеть — это минимум.
Вадим, наиболее хитрый, нашел вариант:
— Хилой,— приказал он Алоизу,— крикни тем фраерам, что за камерой пушкарь сечет. Передадим позже.
Реакция сверху была немедленной: «Козлы вонючие, петухи бескрылые, гоните товар. Башку отвинтим».
— Ничего, обойдутся халявщики. За махорку джинсы захотели. Жирно будет.
И составили послание: «Кента выдернули из хаты. Вернется — пришлем». Ответное было в прежнем тоне: «Козлы и педерасты. Не вешайте лапшу. Встретим, на винт посадим».
Красноречие у сокамерников иссякло, они жадно курили, решив вовсе не отвечать на угрозы. Сверху громко стучали, пока грохот не услышал контролер. Временно «дипломатические переговоры» прекратились.
Эта безоглядность, нежелание хоть немного подумать о завтрашнем дне, насколько я понял, характерны были для всех троих не только здесь, в камере, но и на воле, на свободе. Отсутствие каких-либо жизненных устоев, внутреннего стержня привели в Рижский централ Вадима, парня неглупого и видного собой.
— Мать у меня учительница, отец военным был, погиб в Афганистане. Что с ним случилось, не знаю. Привезли цинковый гроб, дали бумагу: «...при исполнении служебных обязанностей». Погоревали мы, а жить надо. Окончил школу, поступил в техникум. С последнего курса забрали в армию, слава Богу, в Афган не попал. Вернулся домой, в Житомирскую область, доучился, диплом получил. И послали меня в самую глухомань, в сельскую школу. Думал, подохну от скуки. Плюнул на все и смылся. Трудовую книжку не забирал, не отработал еще положенное. Подался в Россию, в Астрахань. Потом Казань, Нижний... Без трудовой на работу не берут, прописки, конечно, тоже нет. Где на станции подхалтурю, где баржу разгружу, где на бахче повкалываю. И все вылетает через глотку — пропиваю, по углам ошиваюсь. Написал матери, та зовет домой. Но как подумаю, что надо в свой райцентр возвращаться, аж муторно становится. Вспомнил, что бабушка моя во Владимире живет. Все-таки областной центр, древний город. Прикатил, устроился на завод. А там пропускная система, предприятие военное. Как в лагере: ни шага без контроля. Прокантовался два месяца и послал эту работу к чертовой матери.
Зато приглянулось место возле винного магазина.
Там всегда дело найдется, и сам себе хозяин. Где спекульнешь, где ноги приделаешь тому, что плохо лежит. Вот на этом и сгорел. Увели мы с дружком три ящика шампанского, сами вылакали, сколько влезло... А назавтра я начал всех подряд угощать: «Знайте, какой у вас кореш Вадим. Ничего для друзей не жалеет». Вот и засыпался, дурак. Боюсь, что соберут все в кучу: и что не работаю, и что стырил, и что компания подозрительная... Отделаться бы «химией» — стройками, это был бы самый лучший вариант. Вот суд с дня на день, хоть ты в церкви свечку поставь. Если все хорошо кончится, пойду во Владимире в храм, сразу всем святым помолюсь.
Даже все передряги не выкорчевали у Вадима чувство собственного достоинства, правда, преломленное в условиях СИЗО довольно своеобразно. Он подспудно ощущал свое превосходство над сокамерниками и поэтому без тени сомнения и смущения позволял себе помыкать ими. И они безропотно подчинялись ему, выполняя порой даже несуразные прихоти. После недолгих минут откровения он вдруг беспричинно напал на Алоиза.
— Эй, дитя пьяной любви. Почему пол не вымыт?!
— Я сейчас, дай только закурить. У тебя, наверное еще осталось...
— Не вижу рвения. Тряпку в руки — и за дело.
— Дай закурить...
— Ты что, русского языка не понимаешь?!
Через мгновение Хилой, Алоиз, елозил по полу мокрой тряпкой, прося нас поднять ноги. Вадим стоял в позе надзирателя, проверяя каждый квадратный метр пола.
— Чище мой, чаще тряпку споласкивай. Нечего грязь развозить...
— Ведра же нет. Я и так стараюсь.
— Нет на тебя моего старшины. Он бы тебя языком заставил вылизывать.
Алоиз старался изо всех сил, сделал работу, по- моему, на «отлично». Тогда Вадим закурил, сделал несколько глубоких затяжек и царственным жестом передал бычок Хилому. Тут началось еще одно представление. Аккуратно, будто хрустальную рюмку с коньяком, Алоиз взял окурок, бережно поднес его к потрескавшимся губам и, прикрыв глаза, сделал затяжку. Подержав дым в легких, начал медленно выпускать его изо рта, стараясь, чтобы в воздухе плавали кольца. Третий сокамерник — Лаймонис, Слабой, лежал на боку на верхней
шконке и внимательно следил, как убывает сигарета.
— Не крысятничай, Хилой. Там ни хрена не осталось.
— Еще одна затяжка.
— Кончай, сука, выпендриваться...
— Я свою норму знаю.
Хилой не успел договорить, как Лаймонис соскочил с верхнего яруса и влепил обидчику громкую оплеуху. Тот не остался в долгу, и вот уже в узком проходе камеры вовсю шла потасовка. Мир установил Вадим, без лишних слов врезав по шее одному и второму драчуну. А сигарета, из-за которой и разгорелся сыр-бор, уже догорала на только что вымытом полу. Недавние враги, ворча и потирая синяки, забрались на свои спальные места, а вернее — в звериные логова. Видны были лишь злые глаза да чуть слышно недовольное ворчание. Дольше успокаивался Алоиз — ему досталось больше.
Я решил поднять ему настроение, отвлечь от тяжких дум.
— Не переживай, парень, выйдешь отсюда, накуришься вдосталь.
— Не фартит мне. Малым был, счастья не видел, теперь вот тюремную пайку жую. Видно, мне кто-то такую путевку выписал. Отца не помню, мамаша говорила, что на зоне он, скоро вернется. Я пятнадцать лет ждал, не дождался. Правда, от кого-то письма получала, но мне ни одного привета никто не передавал. Зато новых «папаш» увидел навалом. Что ни день, то новый. Пили мамаша и ее кодляк без отдыха, до отключки. Ночью пойду в сортир — через пьяные трупы переступаю. Смотрел-смотрел на этот бардак, да и сам стал к бутылке прикладываться. Они же ни хрена не помнят, сколько у них поддачи. Нажрутся, отрубятся, кто посильнее — детей делают, как собаки, в одной куче. Короче, поставили меня, как и родную мамашу, на учет... Алкоголики мы, значит. Только фуфло все это, ихнее лечение. Кто керосинил, тот и продолжает бухать, никакое лечение не помогает.
— Так что же, ты хроник?
— Не знаю, как по-научному, но перепробовал я все, что можно. У нас в доме настоящая лавка была: и водка, и чернильце, и лосьоны, и шампуни, и очистители, и одеколоны. Все пил вслед за дорогой мамашей. Выпихнули меня после семи классов из школы, чтобы глаза не мозолил. А на работу не берут — малолетка. Чуть уговорил, чтобы учеником плотника взяли. Топор научился в руках держать, копейка появилась, у дорогой родительницы просить не надо. А она, между прочим, в одном стройуправлении со мной работала, штукатуром. И за- калымливала вроде неплохо, но все в горло уходило и в эту самую...
Однажды ночью стучат в дверь собутыльники ее, кричат, что мать в больницу попала. Я туда, а она уже Богу душу отдала. Отравилась этиловым спиртом. Не знаю, принял ли ее Бог,— поправил он себя.— Она ж почти самоубийца, а таких на кладбищах не хоронят. Скажу правду, поплакал как положено. А потом думаю: погуляю, наконец, в свое удовольствие до армии. Хата двухкомнатная, капусту, хоть и небогатую, зашибаю, что мне больше надо. А тут объявилась бабка моя по матери. Опекуншей надо мною. Я ж на учете стоял как алкоголик, так ей и зарплату стали мою отдавать. Тут я и решил: на кой хрен мне какой-то старой карге деньги отдавать, а потом по рублю выпрашивать? Плюнул на свое СУ, на бабку-зануду и пошел, как говорят, на волю. В Риге прожить не трудно: порт большой, иностранцев много, шлюх еще больше. А у меня на всякий случай хата. Бабка повыступает, но куда ей деться: могу и припугнуть. Подрабатывал на проститутках, шмотки прогонял, фар- цевал понемногу. Но там конкуренты, куда мне с моим «фейсом». Пошел по хатам, чистить их начал. Везло недолго. На пятой погорел. Вернее, кореш подвел. Поставил я его на шухере, а ему, видите ли, в гальюн захотелось. Вот и накрыли нас. Он теперь в две смены на параше сидит, дорвался, идиот, до своего любимого места. А то и петухом сделали. Это здесь запросто.
— Молись, чтобы хроником-алкоголиком не признали. Пойдешь по 59-й — на зоне лечить будут. Если не дураком сделают, то половину здоровья отымут.— Вадим говорил на этот раз серьезно, без обычных подколок.
— Кто пьет, того на зоне от пьянки не отучишь.
— Много ты знаешь...
— Знаю. У мамаши все хахали оттуда пришли. Как хлебали пойло, так и продолжают. Она загнулась, а им все до лампочки. Мочу после поддачи пить могут, лишь бы градусы там были...
— И я на градусах погорел,— вдруг решил пооткровенничать Лаймонис.— Самогон гнал.
— Не заливай.— Вадим презрительно ухмыльнулся.— В этом деле специалисты нужны.
— Я, между прочим, кулинар. В пищевом училище
два курса окончил. Так что кое в чем разбираюсь.
— То-то отъелся на дармовых харчах.— Вадим не любил, когда внимание переключается с него на кого- нибудь другого.— Будку за день не объехать.
— Не мешай, а то забуду. В общем, нашел я себе дружка, кента, как тут говорят. У него, вернее у его стариков, дом свой, сарайчики разные, пристройки, баня, подвалы. Мне к нему нравилось приходить: я детдомовский, интернатовский. Подкинула меня какая-то шлюха в подъезд, вот и вырос на государственных харчах. А у дружка семья, хоть и хреновые они люди. Жадные, копейки не выпросишь. Но деловые. Пронюхали, что я к торговле, к столовым доступ имею, подобрели. Вскоре и столковались: я им — сахар, они мне — самогон. На продажу, конечно. Я и клюнул. Впрочем, сам об этом раньше думал. Бабки в Риге молодому всегда нужны. Вот и закрутилось колесо: сахар — самогон — деньги — сахар — самогон... Где сбывать товар, проблем не было: и у меня в общаге, и в столовке, и оптовые заказчики были. Но заловила контора одного бухого, тот и ляпнул... Меня прищучили, но выпутался: в районной ментовке концы были надежные. Отстегивал им проценты, делился. Замазали, в общем.
Потом второй прокол. Приштопали опять легавые, но уже из горотдела. Я кричу: «Дед какой-то предложил. Взял у него флакон. А откуда дед — хрен его знает». Штрафанули для первого раза, да мне на эти копейки наплевать. Я за день на сто штрафов зарабатывал. Стал осторожнее, но погорели самогонщики. Кто-то накапал, с обыском приехали. Но кенты-менты из райотдела успели предупредить. Пустой выезд оказался, но, чувствуем, прижали, надо притихнуть. Хотел последнюю партию сбыть, как повязали с сумкой. А в ней — пять бутылок самогона. Не выкрутился, задержали на трое суток. И тут я хреновину спорол: какому-то хмырю в КПЗ рассказал о своем бизнесе, а он меня и заложил ментам. Те сразу на хату к корешу, к его старикам, а там первак капает... Так и накрылась лавочка Лаймонис и К0.
— Молись Богу, дружок, чтобы не организовали над тобой показательный суд. На виду у всех работников торговли и общепита. Тогда уж впаяют по верхнему пределу. Чтобы у других охоту отбить.
— Не каркай. Я и так ночей не сплю.
— Многого захотел. В тюряге — еще и спать спокойно.
Вглядываясь в прошлую тюремную жизнь, в иезуитские, продуманные до мелочей и отработанные столетиями методы воздействия на заключенного, убеждаюсь снова и снова, насколько духовно и физически сильным должен быть человек, чтобы выстоять, не сломаться, не потерять надежду в веру и справедливость, гуманность общества, в необходимость земного бытия.
Двадцать месяцев пребывания в следственных изоляторах стоили мне двадцати пяти килограммов веса. Это, так сказать, физические потери. (Я не говорю уже о гастрите, о бессонице, о постоянных головных болях, о подорванной печени, о лишайных грибках.) Но мясо на кости нарастает, болезни можно если не вылечить, то хотя бы залечить. А что делать с памятью, как простить нравственные унижения, которым подвергался ежечасно, ежеминутно?
Обличительные строки «Архипелага ГУЛАГа» А. Солженицына, относящиеся к сталинско-бериевским временам, остаются злободневными и сегодня. Мой следователь Прошкин мало чем отличался от тех гепеушников и эикаведистов, которые допрашивали Солженицына. И методы добывания показаний одни и те же. Процитирую «Архипелаг ГУЛАГ». Вот как описываются психические приемы, призванные сломить волю и личность арестанта. «Посидев немного среди других подследственных, арестант уже усвоил общее положение. И следователь говорит ему лениво-дружественно: «Видишь сам, срок ты получишь все равно. Но если будешь сопротивляться, то здесь, в тюрьме дойдешь, потеряешь здоровье. А поедешь в лагерь — увидишь воздух, свет... Так что лучше подписывай сразу».
— Выхода нет! Надо во всем признаваться! — шепчут подсаженные в камеру наседки.
— Простой расчет: сохранить здоровье! — говорят трезвые люди.
— Осудят все равно, хоть признавайся, хоть не признавайся,— заключают постигшие суть.
...И как же? Как же устоять тебе? — чувствующему боль, слабому, с живыми привязанностями, неподготовленному?..»
А начинается тюрьма с бокса, подобия ящика или шкафа. Только что схваченного человека на первом тюремном шаге захлопывают в стакан, иногда с лампочкой и где он может сидеть, иногда в темный и такой, в котором арестованный вынужден стоять, еще и придавленный дверью. И держат его здесь несколько часов, порою сутки. Закрадывается мысль: может замуровали навсегда, на всю жизнь? Никогда ничего подобного не испытывавшие люди зачастую теряют ориентиры. Одни падают духом — и вот тут-то начинается первый допрос! Другие бунтуют — ну что ж, они оскорбят следователя, допустят неосторожность. Тем легче составить обвинение, «намотать» дело, закрутить гайки.
Затем — неимоверная скученность и теснота в следственных камерах, крайне скудное питание, постоянное издевательство более сильных над слабыми, грубость и черствость надзирателей. Это подавляет волю, делает заключенных беззащитными перед оперативно-следственной машиной и перед неправедным судом.
Но почему же, может спросить читатель, эти тяжелые и невыносимые условия не останавливают человека от совершения новых преступлении после выхода из мест заключения? Действительно, рецидив переступности очень высокий. Я встречал в изоляторах заключенных, которые практически всю сознательную жизнь проводят и местах лишения свободы. Мне известно немало фактов, когда бывшие заключенные, находясь на свободе, сознательно совершают преступление, чтобы вновь оказаться в исправительно-трудовом лагере.
У меня сложилось убеждение, что объясняется это социальное явление в основном двумя причинами. Во- первых, и это я неоднократно подчеркиваю в своей книге, современные тюрьмы и исправительно-трудовые лагеря не только не перевоспитывают человека, но калечат его. Невыносимо тяжелые условия содержания, общение с преступным миром приводят постепенно к нравственной деградации человека. Нужна коренная перестройка всей исправительной системы, чтобы она действительно перевоспитывала, а не калечила человека. Вторая, не менее важная причина: общество на свободе отторгает от себя бывшего заключенного. Трудности с устройством на работу, нередко потеря жилья или семьи, утрата друзей делают его существование еще более невыносимым даже по сравнению с тюрьмой и лагерем. По моему мнению, человека, отбывшего наказание, следует взять под охрану государства, чтобы наши законы гарантировали ему нормальные условия жизни...
Более подробно об этих проблемах в моей следующей документальной книге. Она уже легла на стол редактора.