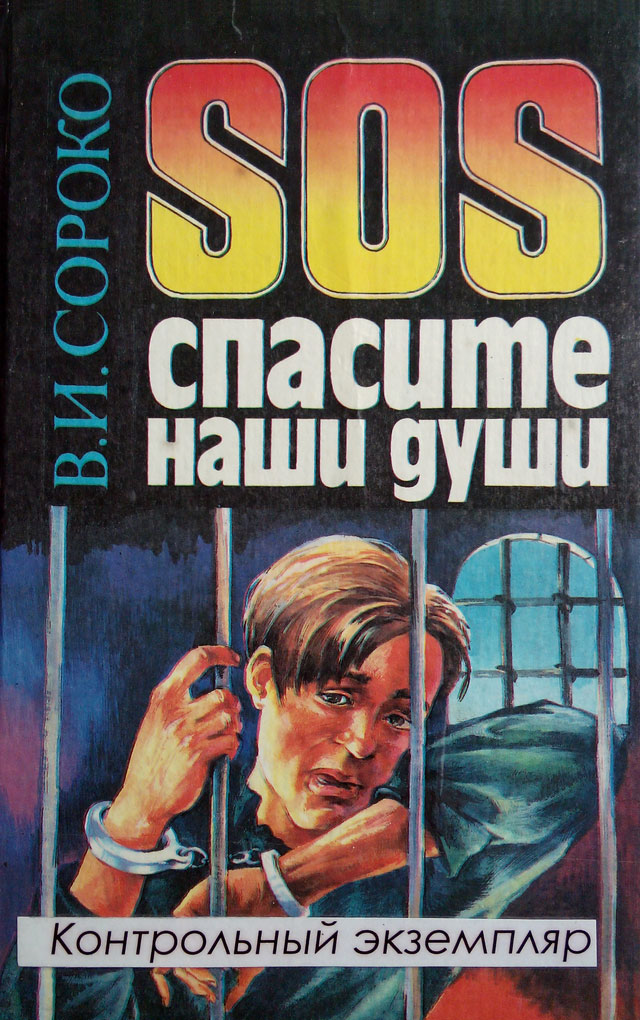документальная повесть. – Минск, 1993.– 277 с.: ил.
Почти два года провел в следственных изоляторах автор этой необычной повести. В 1986 году в судьбе зонального прокурора Белорусской транспортной прокуратуры Валерия Сороко произошел поворот на 1800. Он был обвинен в нарушении социалистической законности, арестован и затем осужден Верховным судом Латвийской ССР на четыре года лишения свободы. Долгие месяцы в заточении он делил тюремную баланду с 15-18-летними юношами. В. Сороко был "старшим", "инструктором" в камерах, где содержались несовершеннолетние. Изломанные судьбы подростков, первобытно-дикая атмосфера, царящая в СИЗО, - вот трагическая тема этой книги.
выделенный текст - Исключено по решению суда Октябрьского района г. Минска от 28.11.1995 года
Открывая эту книгу, дорогие читатели, вы вступаете в мир, для большинства из вас доселе неведомый. И дай Бог, чтобы неписаные законы, царящие в этом замкнутом пространстве, никогда не коснулись вас. Поверьте моему печальному опыту — выжить и остаться человеком в этом кромешном аду удается далеко не каждому.
Почти двадцать месяцев провел я в следственных изоляторах Минска, Риги, других городов бывшего Советского Союза. Судьба свела меня с десятками несчастных, ожидавших решения своей участи. В большинстве своем это были подростки, вступившие в начале жизненного пути в противоречие с Законом. Домашняя неустроенность, внутренний разлад, конфликт со школой, дурная наследственность — эти и многие другие, не столь очевидные, причины подтолкнули их к совершению первых противоправных поступков. Надломленные, без морального стержня, успевшие пристраститься к табаку и спиртному, а порой и к наркотикам, не испытавшие высокого чувства любви, но уже посягнувшие на честь девушек, причем в самой извращенной и дикой форме, начинающие воры, насильники и грабители... Крестьянские пареньки, столичные пижончики, «короли» провинциальных танцплощадок и дискотек, недоучившиеся студенты- двоечники и отличники, дети состоятельных родителей и выросшие без материнской ласки воспитанники интернатов и спецучилищ, обитатели подвалов, чердаков, теплотрасс и ухоженных особняков — все они, попав в камеры СИЗО, приоткрыли дверь в страшный и безжалостный мир, где правят грубая сила и беззаконие. И как это ни печально, первый неверный шаг, сделанный в юности, зачастую не бывает последним. Криминальная статистика свидетельствует, что закоренелые преступники, так называемые рецидивисты, начинали, как правило, катиться по наклонной в несовершеннолетнем возрасте, первая «ходка» у них была на зону для малолетних.
В этой книге нет ничего вымышленного, надуманного. Моя книга — не детективный роман с леденящими душу ужасами, проницательными следователями-суперменами, кровожадными вампирами, умопомрачительными секс- бомбами, непредсказуемыми поворотами лихо закрученного сюжета. Познакомившись с жизнью временных постояльцев следственных изоляторов, с их изломанными судьбами, читатели с помощью собственной фантазии смогут сочинить не один десяток фантастических криминальных историй, но все они будут лишь бледной копией с безжалостного оригинала, имя которому — правда.
Изоляторы, а это не что иное, как тюрьмы, калечат людей. Находиться месяцами в переполненной зловонной камере, постоянно испытывать чувство голода, каждую минуту ожидать возможного унижения и оскорбления не только со стороны соседей, но и надзирателей,— под таким прессом трудно, зачастую невозможно, устоять любому, даже самому закаленному и мужественному человеку. Подростков же, чья психика подавлена уже самим фактом ареста, здесь, в СИЗО, ожидают еще большие испытания. Преступники со стажем — «паханы», воры «в законе», «первостольники», которым администрация изоляторов негласно передает власть в подобных учреждениях, превращают несовершеннолетних или в безвольных рабов, или в своих подручных, готовя себе смену в уголовной среде.
«Обиженные», «опущенные», «петухи» — с таким клеймом покидают стены изоляторов и приходят в лагеря многие юноши, испытав ад изнасилования, изощренного мужеложства. И даже выйдя из мест лишения свободы, они во многих случаях не могут избавиться от этого клейма — уголовный мир никого не хочет выпускать из своих сетей.
Не беру на себя смелость утверждать, что знаю панацею от этих бед. Здесь свое веское слово должны сказать правоведы, социологи, психологи, педагоги. Я пишу лишь о том, очевидцем чего был сам, в чем убедился, съев не одну пайку тюремного хлеба и выхлебав не одну миску вонючей баланды. Я пытался заглянуть во внутренний мир моих сокамерников, раскрыть нравственные и социальные причины, которые привели их на скамью подсудимых. На основании личных наблюдений я еще раз убедился, что корни антиобщественных поступков людей не заложены в человеке от рождения, не являются проявлением биологических факторов, как это утверждал итальянский судебный психиатр Ломброзо. Преступность — это социальное явление. Ее причины, если говорить о подростках, можно объяснить неустроенностью их жизни, низким уровнем культуры, отсутствием продуманной государственной системы нравственного воспитания.
У нас много писали и говорили о гуманности законодательства по отношению к несовершеннолетним правонарушителям. Практически же условия их содержания в следственных изоляторах ничем не отличаются от условий, в которых находятся преступники-рецидивисты. Было бы целесообразно законодательно установить максимально короткий срок возможного содержания подростков под стражей. Эта мера была бы действительно гуманной. Санкция же на арест должна применяться в крайних, исключительных случаях. Следствие по делам подростков необходимо поручать наиболее квалифицированным специалистам, проводить его надо в кратчайшие сроки. Суды обязаны очень осторожно назначать суровые меры наказания, особенно связанные с лишением свободы. Пора давно понять: тюрьма не лечит, а калечит.
Ну и, наконец, несколько строк о том, каким образом я сам попал в следственный изолятор, почему, как сказал выше, провел там почти два года. В 1985 году, работая прокурором следственного отдела Белорусской транспортной прокуратуры, я вел расследование дела по убийству Татьяны Кацуба, дежурной по станции Лучеса, что под Витебском. Как установила следственная группа, преступление совершил шофер одной из витебских автобаз О. Адамов. Суд определил ему меру наказания в пятнадцать лет лишения свободы. Но затем это ужасное преступление и еще десятки подобных ему взял на себя маньяк Михасевич. Адамова оправдали, а меня и моих коллег по следствию и дознанию отдали под суд якобы за нарушение социалистической законности. Так я, бывший работник прокуратуры, оказался среди тех, с кем раньше по долгу службы вел непримиримую борьбу. Пути Господни неисповедимы...
Замечу напоследок, чтобы у читателей не было ко мне предвзятого отношения. Обвинения против меня и моих коллег были явно надуманными, тенденциозными. Следствие по нашему деду велось необъективно, причастность Михасевича к убийству Кацуба не доказана. Но прокуратура бывшего Советского Союза, отстаивая честь мундира перед ЦК КПСС, устроила настоящий погром правоохранительных органов Витебщины и Белоруссии. В числе жертв этого произвола был и я. Кстати, о тех трагических событиях рассказывает моя книга «Витебское дело», или Двуликая Фемида».
НЕ ЖДИ МЕНЯ, МАМА...
ВЕРХОЛАЗЫ
КОРОЛЬ ТАНЦПЛОЩАДОК
"ПИКИ" К БОЮ!
Не знаю почему, но судьба в следственном изоляторе Минского УВД ко мне благоволила. Начальство этого учреждения (так официально принято называть СИЗО) предложило мне на выбор: ждать суда с рецидивистами или с малолетними преступниками. Я, конечно, выбрал второе.
Камера. Чтобы ни у кого не появилось желания попасть в эти стены, постараюсь быть предельно точным в описании тюремного жилища, овеянного для некоторых уголовной романтикой. Массивная дверь с глазком, прикрытым деревянным ползунком в форме ложки, только плоским. Гаражные засовы с навесным замком. В середине двери квадратное окошко размером 25X25 сантиметров, также взятое на запор,— кормушка. Это, так сказать, вид снаружи. А вот в каком интерьере предстоит обитать: продолговатое помещение площадью примерно двадцать квадратных метров. Вдоль стены, до половины выкрашенной в синий цвет,— стол в две доски и такая же скамья. В столе десять ячеек, но сесть за него одновременно могут не более шести-семи человек. Десять постояльцев готовы принять двухъярусные металлические койки (нары), намертво вмонтированные в цементный пол. На высоте двух метров окно с двойной рамой. Та, которая внутри, сделана из толстых металлических пластин, зазор между ними не больше двух-трех сантиметров. Под потолком электролампочка, почему-то без защитного колпака. С верхней койки до нее можно дотянуться. Есть унитаз, над ним водопроводный кран. Обстановка, таким образом, самая что ни есть спартанская, точнее — убогая.
Эту убогость, серость в тот день, когда меня поместили в камеру, усугубляла грязь, оставленная прежними обитателями. Попросил у контролера ведро, тряпку, тщательно вымыл пол, вытер пыль. Едва успел управиться с работой, как загремели запоры и в проеме двери появился еще один постоялец. Вернее, сразу я увидел не его, а матрац, который он нес перед собой. Разглядеть человека было невозможно, настолько он был мал. Над матрацем виднелась старая зимняя шапка с одним торчащим вверх «ухом», полностью закрывавшая лицо; из-под него выглядывали засаленная, свисавшая ниже колен телогрейка, порванные штаны, сморщенные от засохшей грязи ботинки не по размеру, из которых при ходьбе выглядывали носки с дырами на пятках. С трудом, на ощупь протиснулся он между койками, бросил на одну из них поклажу — ватный матрац, такую же подушку, два одеяла — одно накрываться, второе, так называемая матра- совка, должно служить простыней.
Даже эта ноша оказалась для вошедшего непосильной: стащив с головы шапку, он устало вытер рукой вспотевший лоб. На лице остались грязные полосы. Наголо остриженный, худющий-худющий, с запавшими глазами, он сразу напомнил беспризорников времен войны.
— Здороваться надо, молодой человек...
— Ну, привет!
— Звать-то как?
— Юрка, а кликуха — Сопливый.
— Располагайся, сосед, выбирай койку...
— Здесь не койки, а шконки...
— А ты откуда знаешь?
— Второй месяц сижу, запомнил...
— За что же?
— Было за что. Сам дурень, вот и попался.
Было видно, что ему не хотелось откровенничать с незнакомым дядькой. Но ничего, разговорится, куда денется. Дни и ночи нас ожидали долгие...
Отдышавшись, Юрка начал судорожно рыться в карманах, прощупывать швы своего клифта — так я назвал про себя его телогрейку, вспомнив старый знаменитый фильм «Путевка в жизнь». Поиски не дали результатов, ОН тяжело вздохнул и безучастно уставился на стену. Затем неожиданно съехал с койки на пол, стал обшаривать углы камеры. Недовольно бурча что-то под нос, вылез из-под кровати и спросил:
— Зачем пол мыл?
— Чтобы чисто было.
— Да-a, а там окурок мог быть... Курить, аж помираю, хочется...— Он вновь замкнулся в себе, свесив между выпирающих коленок черные от грязи руки.
Оживился сосед, лишь стоило распахнуться двери: пришло время прогулки. По крутой лестнице спустились во двор, попали на некое подобие улицы с деревянными тротуарами. На эту улицу выходят обитые жестью двери, утыканные гвоздями с острыми зазубринами. Там, внутри — прогулочные дворики: замкнутое пространство, ограниченное толстыми стенами и накрытое металлической сеткой. Так что выражение «небо в клеточку» родилось, наверное, именно на прогулке в тюрьме. Дворик довольно просторный, я промерил шагами: девять — одна сторона, восемь — другая. Юрка, задрав голову, следил за контролером, который прохаживался над «улицей» по специальному помосту... Когда тот прошел над нами и мы оказались вне поля его зрения, сосед бросился к урне, быстро перевернул ее и стал рыться в мусоре. Вытащив несколько окурков, сунул их в карман. Удовлетворенный, заложил руки за спину и стал медленно ходить вдоль стен, надеясь и там найти хоть какое-то подобие табака. Видимо, ему везло — он несколько раз нагибался, поднимал что-то и, воровато оглядываясь, засовывал в карман.
Первое, что он сделал, вернувшись в камеру, была самокрутка. Выскреб из карманов слипшийся табак, разделил на несколько частей, щепоть высыпал на обрывок грязной газеты. Облизал самодельную сигарету, полюбовался «творением рук и языка своего». На него в эти минуты нельзя было смотреть без сострадания: паренек, малолетка, радовался заплеванным окуркам, как ребенок красивой игрушке или вкусной конфете. Тут мне вспомнилось, как священнодействовал с чайной заваркой рецидивист Басмач, с которым довелось сидеть в изоляторе КГБ. Те же горящие глаза, то же предвкушение высшего блаженства. Но Басмач готовился к четвертой «ходке», а у Юрки жизнь лишь начиналась. И начиналась она клички Сопливый...
...Разодрав полу ватника, Юрка нашел там несколько спичек и обломок коробка с полоской серы, похвастался:
— Сумел в КПЗ заначить, не нашли менты.
— Но ведь таким малолеткам курить здесь нельзя, запрещено...
— Наплевать... Ты же меня не заложишь? Во всех хатах курят...
— Где, где?
— Ну, в камерах, они тут хатами называются,— в глазах паренька появилось чувство превосходства надо мною, взрослым, который не знает элементарных вещей.
Свернувшись клубком, закатился под койку-шконку и стал жадно глотать дым, разгоняя сине-серое облачко рукой. Грязный комок в углу камеры издавал почти животные звуки, казалось, он урчал от удовольствия. Какой-то спазм сдавил сердце, оно прямо-таки зашлось от сострадания и жалости к маленькому оборвышу.
Спал эту ночь, как, впрочем, и другие, плохо. Поджав колени к подбородку, совсем превратившись в ребенка, тихонько храпел на своей койке Юрка, время от времени вздрагивая и вскрикивая во сне. Я же вспоминал свое детство, свою дочь... Так, в полудреме, и дождался шести утра, подъема. Тюремные законы строги, я поднялся, собрал постель и положил на верхнюю койку — так требует внутренний распорядок изолятора. Юрка же продолжал спать.
— Вставай, приятель,— слегка тронул его за плечо.
Спросонья натыкаясь на койки и стол, он все-таки убрал постель, но сразу же снопом повалился на пустую койку, натянув на голову телогрейку.
— Что разлегся?! Не дома! — поднял его голос из кормушки.
Вскочил, потряс головой, сел за стол и снова задремал, уткнувшись в кулаки. И опять его разбудил контролер, пригрозив доложить воспитателю изолятора... Так продолжалось до завтрака — апатия, гудящая от бессонницы голова, страдальческие глаза Юрки.
— Мыть руки! — строго приказал я, когда принесли еду.
Он лишь презрительно хмыкнул и схватил кусок хлеба.
— Положи! Умойся, а то не пущу за стол!
Чертыхаясь, он пошел к крану, едва смочил ладони...
— Чище, не жалей воды. И мыло возьми!
Видя, что я не отстаю, Юрка с грехом пополам сполоснул лицо; посветлели и руки.
— Вот так лучше. На человека стал похож. А то копаешься впомойке, заразу подбираешь, а после — за стол. Так дело не пойдет, Юрик.
— Тоже мне, начальник,— поморщился тот, но подчиняться, видимо, решил. Я был старше, сильнее, а это для него значило многое.
Перед отправкой в эту камеру начальство СИЗО дало мне «общественную нагрузку» — по возможности удерживать малолеток от дурных поступков, поддерживать порядок, в общем, назначило как бы старшим. И хоть мне это доверие было ни к чему — мне бы со своими заботами разобраться, но жить, извините, в бардаке и опускаться на дно я не думал. К тому же по-человечески жалко было этого донельзя неухоженного пацана.
Немного утолив голод и вновь тайком покурив, Юрка подобрел.
— Откуда ж ты родом, парень, как попал сюда?
На этот раз он был словоохотливее.
— Из Крупского района, тридцать пять километров от Борисова... А тут я не один, с братом...
— Как — с братом?
— А... Разам пили, разам влипли.
— И ты пил? Врешь, наверное... Мал ты совсем...
— Не гляди, что я ростом малый. Мне скоро восемнадцать, а брату двадцать четыре. Вот и квасили вместе. Он из армии вернулся, пошел коров пасти. И я около него кручусь.
— А школа как?
— Что, школа?.. По два года сидел в классе. Восемь чуть закончил, сказали в девятый ходить, а что мне там делать... Одни «двойки» да «тройки», и то ставили, чтоб от меня отцепиться.
— Пошел бы работать, хоть что-то делал бы...
— А где работать? В деревне — пятнадцать хат, одни бабки да деды старые. Мыс братом достанем самогону, сядем под стог и пьем. Потом или у матки стибрим, или к соседям залезем. А то кому дров нарубим, сена привезем. Опять самогон...
Я глядел на этого несчастного паренька — и верил ему, и не верил. Ростом не больше полутора метров, еле душа в теле, пальцы подрагивают... О, Господи!
Для него самогон, выпивка были, видимо, единственным, о чем он вспоминал если не с радостью, то с удовольствием.
— Поддача у нас всегда была. Батька любил выпить. И нам давал. Отправит в магазин за чернилом, я съезжу, привезу, он и мне нальет. Малым еще был, лет десять. И закурить у него свистну, сам не давал, говорил, что рано еще.
— А пить не рано?
— Так он же не целый стакан, как себе, а половину...
— Где же отец сейчас, что ж не доглядел за тобой?
— А он сидит. Четвертый раз уже.
— Который, ты сказал, четвертый?
— Ага. Первый раз давно, мне пять лет было, спер что-то. Потом соседку погонял, «фары» ей поставил. Пришел — на матку накинулся, у почтальонки сумку с деньгами отнял. — Он морщил лоб, вспоминая последовательность отцовских отсидок.— Последний раз, недавно, захотел самогону, пошел к одной бабе. А та не дала без денег, так он кирпичом по голове...
— Да, подарок вы для матери...
— Что ты все — матка да матка! — Юрка пренебрежительно махнул рукой.— Она на коровник пойдет в пять утра так до ночи там и вкалывает. А скажет что, так батька и погонять мог, он это умеет...
— Вы же сыновья, заступились бы...
— Смелый ты.— Юрка передернул плечами, поежился.— Нас он лупил, ого-го. Сбежим из хаты, сховаемся, пока не напьется да уснет. А то забить может...
— Вот его сейчас нет, чего ж ты по его дороге пошел? Жил бы с мамой спокойно, помогал ей...
— С братом было веселей. Один раз украли двух коней, продали в соседний колхоз. Нам по пятьдесят рублей дали. Пили дня два или больше — не помню. Забрались в колхозную солому, грелись, курили... Заснули, а стог и загорелся. Мы, хоть пьяные, выскочили, а солома сгорела. Дали нам с братом условно, участковый все ходил и грозил посадить, если пить и красть не кинем...
Такая долгая тирада, видимо, утомила Юрку. Подбирал слова с трудом, был косноязычен, очевидно, его развитие затормозилось еще в раннем детстве, после первых граммов самогона и первой затяжки табачным дымом. Неразвитая память сохранила только самые яркие эпизоды, а они опять-таки были связаны с пьянством, воровством.
— ...Этим летом брат кинул работу, поехал в Минск. Cпep сумку. Мы ее продали, пропили. Потом угнали мотоцикл, оставили в лесу. Милиция стала нас шукать, гонялась та нами. Мы из хаты сбежали, опять в стог перебрались. Нору сделали и жили. Подкараулим, когда никого нет, домой залезем, сала и хлеба ухватим и на ходы. А бульба молодая есть, огурцы, помидоры на огородах. Сытно жили, не то что тут, в тюряге.
Юрка еще раз нырнул под койку, сделал несколько затяжек, выбрался и даже сделал попытку пошутить:
— Еще бы шкляночку «цукровки»...— Он даже зажмурился от былого удовольствия, подмокал языком, потом снова стал вспоминать: — Захотелось нам с братом выпить. Прикинули, что у одной бабки должен быть самогон. Выставили раму, обшарили всю хату. Нашли гроши — пятьдесят рублей, а выпить нигде нет. Полез я в погреб, нашел трехлитровик. Только уходить собрались — хозяйка. Крик, гвалт, уцепилась за меня. Банка из рук — и на пол. Разбилась, самогон растекся, хоть вылизывай. Я этой бабке со злости кулаком врезал — и на ходы...
— И не жалко?
— Самогона жалко, бабку — нет, она еще выгонит,— отмахнулся он от моего вопроса.— Только после совсем менты замучили: никуда не сунься. Пришли как-то домой, холодно уже стало, шмотки какие взять или поесть, не помню. А матка сообщила в милицию. Нас и взяли, сбежать не успели, а то хотели в Москву поехать, к тетке...
— Что ж так далеко?..
— А больше некуда. Еще одна тетка в Борисове живет, так мы у нее ковер украли... Зато покеросинили...
— Да тебе не пить надо, а уже лечиться от пьянства...
— Что толку? Я четыре месяца лежал в «Новинках», милиция направляла,— огорошил меня ответом. И подчеркнул чуть ли не с гордостью: — Как квасил, так и квашу. Только тут не наливают...
— Может, ты в больнице отлынивал, не принимал лекарства? Ведь должно помочь...
— Пусть сами там лежат. Целый день под замком, чтобы не слиняли. А таблетки кто пьет, кто научился выкидывать. Зато я видел, какие-то уколы сами делают, после балдеют. Нам, малым, правда, не давали, самим не хватало. А еще рассказывал там один мужик, что в Новинках, в деревне, магазин был. Так его выпишут из больницы, а он сразу бутылку чернил засосет и заваливается под елочками спать. И живой остается...
Все, о чем он говорил, вспоминал, так или иначе вращалось вокруг спиртного. Наследственность ли это была, семейное воспитание (если это можно так назвать), запустелость ли родной деревни, убогость школы... Скорее всего, все вместе, и название этому — серость жизни, полное безразличие к судьбе вот этого конкретного паренька. А таких, как он, к сожалению, многие тысячи, если не миллионы. Дорог из этой камеры у него две: признают дебилом, психически неполноценным — домой, опять-таки к пьянству, воровству; если нет — суд, зона, лагерная «школа»; а затем все по-старо- му — пьянство, кражи. Разорвать этот круг у него, конечно, сил не хватит, да и особого желания нет... Понимаю, что этим своим умозаключением обижаю своего нечаянного сокамерника из-под Крупок, потому и изменил его имя, как, впрочем, и имена других молодых ребят, с кем пришлось встретиться на этапах, в камерах, на зоне. Может, Бог снизойдет к ним и направит их заблудшие души на путь истинный. Мне так бы хотелось ЭТОГО чуда — ведь они всего лишь дети...
Пробыли мы с Юркой вдвоем пять дней. Без всякого желания, со скрипом подчинялся он и тюремному распорядку, и моим, пусть скромным, но требованиям: соблюдать чистоту, не сквернословить, стирать свои дырявые носки, регулярно умываться. Маленькие перемены в его поведении я никоим образом не отношу к своим педагогическим заслугам. Юрка видел, что я сильнее, и боялся наказания, хотя у меня и в мыслях не было запугивать его чем-либо. Такому нелегко придется на зоне, думалось мне, будет и спать у параши, и подбирать объедки, и сортиры чистить... Нагорюется парень, хлебнет лиха, обозлится, очерствеет и при первой же возможности выместит все это зло на более слабом. Цепная реакция...
— Общий привет,— раздалось от порога, и в камере появился третий жилец. Юрка, который по обычаю дремал, облокотившись на стол, очумело уставился на вошедшего.
— А, Сопливый,— узнал его новичок.— Я-то думал: куда ты делся, вдруг — на волю?..
— Привет, Лопоухий.
Ответ явно не понравился, юноша недовольно сморщился, бросил злой взгляд на Юрку. Пришла пора вмешаться мне:
— Вот что, друзья. Клички забудьте, вы не животные... Тебя как зовут?
— Сергей,— выбирая себе шконку, произнес новичок.
— Нормальное имя. Так и договоримся, Сергей и Юрий,— я нарочно назвал их полными именами,— что блатной жаргон остался в той камере, где вы были до сих пор. Понятно?
Оба пробормотали что-то нечленораздельное, но я повторил вопрос громче.
— Ясно, старшой, чего уж там,— уже более миролюбиво ответил Сергей.
Парень этот был явным контрастом Юрки. Довольно рослый, подтянутый, черты лица правильные, карие глаза смотрят внимательно и чуть настороженно. Немного портят его оттопыренные уши (отсюда, видимо, и кличка) , но это потому, что голова наголо острижена. А верни ему шевелюру — и изъян спрячется. В общем, вполне симпатичный молодой человек. Даже казенная одежда — куртка и брюки — сидит на нем ладно, будто сшита на него. Мой же Юрка (я успел привязаться к нему) или получил взамен своего рванья ничуть не лучшее, или успел зашмальцевать, ползая под нарами за окурками.
Небрежно бросив постель, новичок сел за стол.
— Сложи все аккуратно, поправь! — сделал я ему замечание.
— Ладно, чего там,— набычился он, но требование выполнил.
— Что, и тебя прижали? — подал голос Юрка.
— А... ну их! — Сергей неожиданно для меня грязно выругался.
— Вот что, парень,— прикрикнул я.— Чтобы здесь мата слышно не было. А чтобы все были равны, заключаем договор: кто выматерится, тому десять щелбанов. И мне тоже. По рукам?
У парней загорелись глаза: они представили, как будут лупить меня по лбу, и согласились. Напряжение, возникшее между ними, пропало, и Сергей довольно охотно стал рассказывать о себе, горячась, перескакивая с эпизода на эпизод, по-видимому, правдиво.
Он минчанин, семья вполне обеспечена: мать — журналистка, отец — в торговле. Учеба дается легко, никаких проблем здесь не возникает. Свободного времени, как он выразился,— навалом. Много друзей — и ровесников, и постарше. И все — болельщики минского «Динамо», футбольные фанаты. На эту тему Сергей мог говорить без конца.
— Мы пол-Союза с командой объехали. Ни одной встречи не пропускаем. Вот только в этом году я влип,— на его глаза навернулись слезы: то ли из-за того, что он в СИЗО, то ли из-за пропущенных игр. Но приятные воспоминания не отпускали, и болельщик продолжал: — Собираемся компанией — и на поезд...
— Но ведь нужны деньги...
— Главное — пробраться в вагон,— разъяснил он мне тактику.— В общий, там от контроля спрятаться легче. Прорываемся по одному, после находим друг друга. Приезжаем, скажем, в Вильнюс. Идем на стадион за билетами — что подешевле или вообще за детскими. Когда удается, лезем через забор. Садимся на одной трибуне — и вперед: «Ди-на-мо», «Ди-на-мо», «Ди-на-мо»! Иногда с местными поцапаемся, но задираться опасно: нас всего человек пятьдесят, не больше, их — сотни, а то и тысячи. На обратном пути можем и по сто грамм сделать, особенно, если наши выиграют...
— Ты же школьник, как же учеба?
— Когда как. То на выходные игра попадает, то смоешься без спросу. Правда, шум дома после, скандал, по выкрутишься, наобещаешь...
— За футбол сюда не попадают,— вдруг подал голос Юрка.
— А я не тебе рассказываю,— взорвался Сергей и хотел, видимо, выругаться, но сдержался, лишь пренебрежительно бросил: — Деревня, на стадионе, наверное, ни разу не был...
— Плевал я на твой стадион...
Сергей чуть не бросился на противника, но я останонил его:
— Не знает он твоего футбола, что ты хочешь...
— Так пусть и не лезет. А тут я за другое...— Он безнадежно махнул рукой.— Боюсь и подумать, что будет.
— Все уладится...— начал было я, хотя и не знал, что привело его сюда.
— У меня две кражи и разбой...
— Ого!
— А все эта поддача.
Услышав хорошо знакомое слово, придвинулся поближе и Юрка. Сергей посмотрел на него искоса, но продолжал:
— Подобралась у нас компашка. Достанем пару червонцев, наберем пойла и квасим, балдеем. Обычно втроем ходили. Один и говорит: «Знаю квартиру, где лежит пятьдесят тысяч». Мы не поверили. А он доказывает: «Хозяин в торговле работает, в Израиль собирается». Полезли. А это па шестом этаже, по балконам пробирались. Все перепороли, везде смотрели: и под коврами, и и шкафах, и в кровати — не нашли. Прихватили магнитофон, червонец еще нашли в какой-то вазе. Смылись. Нам бы молчать, но кто-то трепанулся, похвалился друзьям. Дошло до милиции, завели дело, взяли подписку о невыезде...
— Это не страшно,— успокоил я.
— Я же сказал: у меня две кражи и разбой. Чуть очухались, снова на подвиги потянуло. Днем захмелились в сквере, решили добавить, а денег нет. Снова полезли в квартиру, теперь на седьмой этаж. Как не свалился пьяный — не знаю, а мог бы запросто. Все обшарили, денег не нашли, а в серванте, в баре — поддача: коньяки разные, вина. Набрали сумку — и к двери. А на площадке хозяин стоит, как ждет нас. Мы рванули по лестнице — он за нами. У Виталика сумка тяжелая, не бросает, жалко вина, а сам-то пьяный. Вот хозяин и догнал его, конечно. Забрали двоих, третий умным оказался — не пошел... Он под подпиской, а мы тут, в СИЗО...
Неудачливый вор готов был расплакаться, и только тут я понял, что он моложе Юры, совсем юнец, привыкший находиться под крылышком у мамы и папы. Напускная развязность слезла с него, как грим, и на меня сквозь слезы смотрел испорченный, но все-таки мальчишка.
— Тебе сколько лет-то?
— Скоро будет семнадцать...
— Малолетка и есть малолетка,— не удержался от подначки Юрка.
— А тебе сколько?
— Восемнадцать стукнет!
— Старше, а дурной как валенок...
— Сам ты...
Перепалка готова была вылиться в ссору, а то и драку, и я снова развел их по углам, пригрозив даже накостылять для профилактики по шее. Они так и сидели в разных концах камеры, пока не открылась кормушка и не раздался голос баландера — пришло время обеда.
Почему-то у всех побывавших в заключении к баландеру — раздатчику пищи — отношение сугубо отрицательное. Считается, что он примазался к теплому месту, объедает других, сотрудничает с начальством — грехов ему приписывают множество. А по-моему, причина подозрения и зависти — постоянное чувство голода, которое испытываешь, находясь за решеткой или колючей проволокой. Среди нас троих самым голодным был, конечно, Юрка. Если мы с Сергеем ели морщась, лишь в силу необходимости, то он проглатывал обед мгновенно, тщательно вылизывал миску — за свои недолгие годы он уже успел хватануть лиха.
Короткие минуты призрачной сытости если не помирили юнцов, то, во всяком случае, временно примирили. А объединили их поиски табака. Из всех карманов и швов они натрусили на газету щепотку какого-то мусора, из чего надеялись сделать самокрутку на пару затяжек. Но Юрка просыпал эти драгоценные для них крохи — вдруг задрожали руки.
— Алкаш! Тебе только вилы навозные держать! — Сергей готов был растерзать незадачливого напарника.
— Сам рассыпал, сам и соберу,— отбивался расстроенный Юрка.— Чего не крутил?..
Их перебранка прекратилась только на прогулке. Войдя в дворик, ребята, будто по команде, бросились вдоль стен, но, судя по их лицам, ничего не нашли. Оставалась урна, но она была очень грязной, заплеванной.
— Давай, Сопливый,— начал было Сергей, но тут же поправился: — Давай, Юрка, пошуруй в ней.
— А ты, что, зломок?
— Я спичку нашел...
— Ладно...
Юрка достал из вонючего отверстия комок слипшейся грязи, в котором были видны и несколько недокуренных сигарет.
— Пять штук! — гордо сообщил он.— Только мокрые.
— Ничего, на батарее просушим... Все будет тип- топ,— повеселел Сергей.
Первую затяжку под койкой сделал именно он, хотя право на это вроде бы принадлежало Юрке. Но уж так устроена жизнь, тем более — тюремная, что условия диктует сильнейший. В камере, откуда их перевели ко мне, оба были на последних ролях, постоянно терпели унижения. Теперь вот Сергей отыгрывался на более слабом.
К отбою, к 22 часам, мои «подопечные» сморились и еле дождались команды контролера. Мне же опять не спалось, думал о своих бедах, о том, что ждет вот этих пацанов, «молодых строителей коммунизма». То, что Юрка пойдет по уголовной дорожке, я не сомневался — все обстоятельства работали против него. Сергею может повезти, если, конечно, не попадет на зону. Тамошние университеты могут искалечить любого, даже самого сильного человека, а не то что зеленого юнца. Статистика утверждает, что больше половины тех, кто признан судом рецидивистами, впервые совершили преступления еще несовершеннолетними, причем две трети из них побывали в изоляции, в местах лишения свободы. Короче говоря, прошли надлежащую школу. Так не плодит ли наше правосудие преступников само, вырывая подростков из привычной среды, отдаляя от родных, близких, знакомых? А может быть, это делается умышленно, потому что системе нужен дармовой труд, сотни тысяч мобильных и неприхотливых трудовых единиц, которые безотказно выполнят любую каторжную работу? Кто должен ответить на эти вопросы: социологи, правоведы, экономисты, политики?..
Какой врач-диетолог составляет дневной рацион для взрослого, сидящего в СИЗО, исходя из 43 копеек (цены 1986 года), а несовершеннолетнему выделяя «аж» 56 копеек? Здесь, в изоляторе, берут свое начало гастриты, язвы, заболевания печени и почек, туберкулез, не говоря уже о психических отклонениях. Дорога отсюда, как правило, одна — в лагерь. Даже год-полтора, проведенные там, забирают у человека половину здоровья, отведенного ему Богом. Это, конечно, если к нему не применяют «меры воздействия» ни администрация, ни «товарищи» по зоне... Кому он нужен, какую пользу принесет обществу, сможет ли прокормить самого себя, не окажется ли обузой для семьи — есть ли до всего этого кому-нибудь дело? Все эти проблемы напрямую затрагивали и меня: каким я вернусь домой, куда пойду работать, сколько лет жизни заберет у меня заключение? Перед юными сокамерниками у меня было лишь одно преимущество: я был крепче их физически и более стоек морально, как ни высокопарно это звучит. Сломать же их не стоило никакого труда...
Утром, умывшись (!) и успев покурить, заключившие перемирие ребята уселись за стол в ожидании завтрака, и Юрка неожиданно спросил:
— А что б ты делал, если бы взял те пятьдесят тысяч?
Сергей, почувствовав к себе внимание, расположился поудобнее и стал загибать на левой руке пальцы:
— Во-первых, не пятьдесят, а около семнадцати тысяч: нас же трое было. А потратить их есть куда. Купил бы мотоцикл, магнитофон со светомузыкой...
— На это уйдет не больше пяти тысяч,— помог я в подсчетах.— А остальные?На все игры «Динамо» ездил бы в купейном вагоне, на стадионе сидел бы в самом центре, как белый человек, а не ошивался за воротами...
— Все равно остаются деньги...
— Может, машину купил бы,— фантазия Сергея иссякла.
— Но ты же сам в силах заработать на «мотор», у тебя жизнь только начинается...
— Да, так и будешь всю жизнь пахать, а другие на дармовых раскатывают...
— Заслужили, значит...
— Знаю я про эти заслуги. Мои старики в этом кое- что понимают, рассказывают,— отмел мои слова Сергей.— Но что правда, то правда: сюда попадать я больше не хочу, десятому закажу. Лучше, как все: школа, училище, завод. А повезет — так и в институт пролезу. Но в тюрягу я больше не ходок.
Последние слова он сказал твердо, и если эта твердость пока еще не стала убеждением, то ненависть к изолятору прозвучала довольно ясно. Дай-то Бог, парень Серега из Зеленого Луга...
Негласная табель о рангах, существующая в полууго- ловном мире, а тем более — в среде рецидивистов, более отчетливо проявилась в нашей небольшой компании, когда в камере появился еще один «новобранец», Валерий Лис, как он сразу отрекомендовался. Высокий симпатичный юноша из тех, что верховодят на дискотеках,— разбитной, самоуверенный, с нагловатым взглядом голубых глаз. Природа наделила его горделивой осанкой, и даже тюремный костюм сидел на нем, будто сшитый у лучшего портного. Ботинки, правда, ему выдали старые, но и они не портили его походки.
Уже первые фразы его были густо пересыпаны матерщиной, и Юрка с Сергеем с любопытством поглядывали на меня: как я отреагирую. Момент упускать было нельзя, и я сразу же взял быка за рога:
— Вот что, дружок Валерий, у нас тут договор: кто матюкнется, тому положено десять щелбанов... Правда, ребята?
Наверное, старожилы уловили в моем тоне металлические нотки и хотя с явной неохотой, но согласно кивнули стрижеными головами. Новоселу ничего больше не оставалось, как присоединиться к «джентльменскому» соглашению.
Валерий оказался почти земляком Юрки — доставили его в СИЗО из Борисова. Лишь после настойчивых расспросов Сергея сказал, что ему грозит статья 117 УК БССР. «Ого! — быстро вспомнил я,— Это же изнасилование. Молодой, но ранний, видать, король борисовских танцплощадок...» Сколько ни приставали к нему явно заинтересованные пацаны, подробностей выкладывать не стал. Зато сразу же оживился, как только распознал в Сергее болельщика. Нашлись у них даже общие знакомые.
— Так это ты здоровался в Киеве с длинным Витькой из Серебрянки? — вспомнил фанат из Минска.
— Я,— важно, будто этот Витька был по меньшей мере Лобановским или Малофеевым, подтвердил бори- совчанин.— Мы с ним еще по дороге в Ленинград познакомились. У нас был с собой самогон, вмазали, чуть морды друг другу не набили, а потом закорешили.
— Орет он классно! Полстадиона заглушить может! — похвалил земляка Сергей.
— Это точно! В Ленинграде из-за него чуть с трибуны не вывели!
— Так, значит, это ваш кодляк кипиш в шестом вагоне поднял? Вас даже ссадить хотели...
— Да, если бы не Колька Виртуоз и Сашка Дуб, менты сняли бы с поезда. А эти мужики постарше, уговорили бригадира...
— А из-за чего был шум?
— Подпоили соседа по вагону, он начал выступать, а нам не понравилось...
Воспоминания продолжались до самого отбоя. Я не вслушивался в разговор, в памяти остались лишь его отрывки:
— А мы Генку Соловья через забор перебросили, у него копеек не оказалось...
— Нам поддачу не продают, так мы мужикам взрослым сунем деньги... Сдачу оставляем...
— Надо сказать прямо, нет лучше команды «Динамо»!..
— «Ди-на-мо» — Минск — «Ди-на-мо» — Минск — «Ди-на-мо» — Минск!..
Время от времени фанаты демонстрировали шумовые эффекты, которые у них в ходу, барабаня то по столу, то по стойкам шконок. Они настолько разошлись, что контролер даже открыл кормушку и прикрикнул...
Все это время Юрка сидел на краешке скамьи, с завистью поглядывая на соседей, нашедших и общий язык, и общих знакомых. Лишь один раз он оживился, когда заговорили о выпивке, попытался вставить реплику:
— У нас с этим просто. Не найдешь в нашей деревне самогона, сел на коня — ив соседнюю. Только бы гроши,— вздохнул он.
Но Сергей и Валера даже не обратили на него внимания, он был совсем чужим, из другого, низшего слоя, как они с юношеским эгоизмом считали. Дистанция между ними увеличилась, когда Валера все-таки расшифровал для ровесников, что означает его 117-я статья. Правда, решился он на откровенность лишь после того, как распалил и себя, и ребят хвастливыми рассказами о любовных победах. Если Сергей воспринимал его байки с долей иронии, то Юрка, заторможенный самогонкой, побоями, скитаниями, был в этой области полным дилетантом.
— У нас к восьмому классу треть пацанок уже спали с мужиками,— разглагольствовал юный сердцеед.— К десятому честных, наверное, с фонариком не найдешь. А в нашем строительном училище можно было брать любую...
— Что же тебе так не повезло? — будто невзначай спросил я.
— А ты не по этому ли делу сидишь, старшой? — вскинулся Валерий.
— Нет, я человек солидный. Спекуляция, тысячи, валюта. Как и тебе, не хватило ума. Было много, захотелось больше.— Я, конечно, не мог сказать пацанам правду. У каждого из них уже была своего рода аллергия на правосудие, у Юрки, пожалуй, врожденная, у двух других — приобретенная. Не преувеличивая, я понимал, что слово «прокурор» вызовет такую реакцию, после которой я однажды могу и не проснуться. Так что пусть мои случайные сокамерники простят того старшого, кого они между собой прозвали Лысым.
Ответ мой пришелся Валере по душе, я вроде бы поставил себя и его на одну доску, сравнил свои взрослые просчеты с его юношескими: оба погнались за большим, пожадничали. И он вылил наболевшее:
— Черт меня дернул пойти с Колькой, корешем одним. Нас, пацанов, было шестеро, закадрили трех девах. Одну из них Колька знал. Выпили, конечно. Тут две чувихи слиняли, а одна осталась. Ну, мы и решили ее поиметь. Я повалил на кровать, Мишка рот платком заткнул и... поехали, как по нотам.
Юрка слушал, раскрыв рот, его мозг, видимо, туго переваривал услышанное, а Сергей деловито уточнил:
— Она, что, еще мужиков не знала?
— В том-то и дело! Вот мы перед тем Надьке хор устроили, так она тоже кричала, кусалась, царапалась, но заявлять не пошла. Хотя и младше, но уже была в постели, и не один раз. А эта, последняя, вычислила Кольку, тот всех заложил... Попадись он мне, сука, наглотается дерьма...
Малолетки загомонили, в адрес неведомого им Кольки посыпались угрозы, брань, и уж тут я не мог напомнить о договоре не материться. В такой ситуации с нравоучениями лучше не соваться.
Отведя душу, Валера продолжил:
— Я, конечно, из дому смылся. Переночевал у кореша. А наутро прямо на улице менты меня и повязали. Самое хреновое, что паровозом иду,— закончил он свой рассказ.
— Каким паровозом? — не понял Юрка.
— Главным меня сделали, инициатором. Понял, деревня? — отмахнулся от него Валера.— А это лет семь- восемь, не меньше... В общем, «не жди меня, мама, хорошего сына...» — За внешней бравадой он хотел скрыть и страх, и растерянность, и безысходную тоску.
— Вот ты случайно о маме вспомнил. Представляю, как ей такое пережить...
— Не лезь в душу, старшой! Мать сразу в обморок упала, еле откачали. Она у меня хорошая, ничего для меня не жалеет. В комбинате бытового обслуживания работает, батя — шофер, он построже, и погонять может. А вообще жилось мне — лучше не надо. У предков — «Жигули», у меня — мотоцикл. Куда хочу — туда качу...
— Не туда, значит, катил...
— Значит, не туда,— неожиданно согласился он.— Посидел в КПЗ, да вот здесь поошивался — вовек к бабам не полезу, чтоб их не видеть... Говорил батька, чтобы в девятый класс шел, а я уперся — обрыдла школа, и все тут. Мать тоже вначале отговаривала, потом на мой бок перешла. Вот и выбрал я себе училище, на плиточника пошел, говорили, хорошие деньги можно зарабатывать.
— Хорошая профессия, денежная...
— Согласен, что хорошая, а в училище — бардак. Хочешь — ходи, хочешь — нет. Мастеру бутылку купишь, а ему большего и не надо. Гуляй, Вася!.. Вот и догулялся.
— Ну, если понял, значит, из лагеря быстрее выйдешь. Заработаешь досрочное освобождение, там строители нужны.
— Да сгниешь там досрочно,— чуть не плача выкрикнул Валера.— Здесь с голоду дуба дать можно, а на зоне, говорят, тем более. У меня в Борисове дружки есть, сидели уже. Так каждый то без зубов, то печенки-селезенки отбитые.— Он готов был разрыдаться.— Когда в КПЗ был, мать каждый день поесть приносила, а теперь хлебай эту баланду...
Валерий и Сергей были схожи и в этом: их буквально воротило от тюремной еды, оба были «домашними» детьми, обоих любили родители; как оказалось, слишком любили. Юра же был рад и скудному рациону СИЗО, самым большим деликатесом для него являлся кусок сала, которым можно «занюхать» вонючий самогон.
После прорвавшейся искренности Валера, будто казня себя за слабость, замкнулся, лег на койку, отвернулся к стене, и я не стал делать ему замечание. Внутренними правилами изолятора это категорически запрещено, а мне, старшему, надо было поддерживать порядок. Однако такие минуты раскаяния, самобичевания гораздо ценнее душеспасительных бесед, которые по инструкции проводят штатные воспитатели. Почему-то я был убежден и тогда, и сегодня, что и неудачливый вор Сергей и юный насильник Валера, да и бездомный, по сути дела, Юрий получат какой-либо шанс на спасение лишь в том случае, если останутся на свободе. Лагерь, зона до конца искалечат их заблудшие души, разовьют худшие наклонности, превратят в настоящих уголовников. Бумеранг вернется...
— Слышь, Лис,— шепотом позвал Сергей,— контролер доложит Рыжему. Вставай, у меня бычки остались, потянем пару раз...
— Я на шухере постою,— встрепенулся Юрка.— Оставьте и мне...
— Без сопливых обойдемся. Нам самим мало,— отрезал Сергей.— Соси лапу!
— Как собирать окурки — так я, а как курить...
— Ладно, не суетись. Может, и оставим.
Новые друзья по очереди забрались под шконку, всласть затянулись чем-то вонючим. Осталось и Юрке, но курил он обжигая губы.
— Ты смотри, даже кайф поймал,— сказал Валера.— Во до чего голодуха довела... Будто клея нанюхался.
— Что, пробовал?
— Было. И бензин нюхал, и БФ. Только не пошло мне. Один раз так хреново стало, что «скорую» вызвали. Три дня в больнице откачивали, думали, концы отдам. Батя, как выписали, отлупить хотел, но я сбежал. Еле его мать уговорила... Потом ничего, простили...
— А у меня знакомый, Шурик, даже в «Новинках» лежал, так прихватило.
— А я в «Новинках» от поддачи лечился,— нашел чем похвастать и Юрка.— А бензина нанюхался, так голова дурная стала, в глазах круги и рыгать хочется...
«Бедные вы ребятки,— сжалось у меня сердце.— И вкус водки вы знаете, и самогонку пили, и всякую гадость нюхали. Да неужели вы для этого родились на свет божий? Кто определил вам такую горькую судьбу? Вроде бы и разные вы: один из глухой деревни, второй из провинциального Борисова, третий из самой столицы. А встретились в одной камере изолятора... И общее у вас, пожалуй, одно — неприкаянность. Куда дунет ветер, куда толкнет более сильный — туда и катитесь, как перекати-поле. Серость вокруг вас, скука, безразличие. А вам, в ваши семнадцать, хочется чего-то яркого, необычного. И вот Юрка с детства находит удовольствие в пьянстве и воровстве, Серега бесшабашно лазит по балконам и крадет, Валера, не узнав, что такое любовь, насилует девушку... И самое главное: никто из вас тогда не думал, что поступает плохо, что это — преступление не только против кого-то, но и против себя. Отрезвление пришло только в камере, если, конечно, оно пришло в самом деле...»
...Неожиданно, во внеурочный час, открылась кормушка. Все мы невольно подтянулись, насторожились. Контролер протянул листы бумаги с каким-то текстом:
— Это чтобы вы умнее становились. А то скоро буквы забудете...
Оказалось, что это список книг, которыми располагает местная библиотека. Взрослому, то есть мне, положена одна книга на десять дней, малолеткам — две. На правах старшего заказы принимал я.
— «Человек-амфибия» и «Гиперболоид инженера Гарина».— Это выбор Сергея.Я решил прочесть «Степана Разина». Лишь Юрка никак не отреагировал: как сидел, уставившись в столешницу, так и остался на месте.
— Он в самом деле буквы забыл...
— А он и не знал их... Коровам хвосты крутил.
— Хватит! — оборвал я.— Сами школу не закончили, а туда же... Я тебе, Юра, закажу «Морские рассказы» Станюковича, лады?
— А мне все равно...
Когда принесли книги, все, даже Юра, буквально набросились на них. Полдня в камере слышались только шелест страниц да негромкие восклицания ребят: «Ух, ты!.. Во дает!.. Вот это да!..» Они заглядывали друг к другу, вместе перечитывали интересные страницы — были, в общем, обычными, нормальными детьми, старшеклассниками...
После ужина — нескольких ложек перловой каши и так называемого чая (теплой воды) — разоткровенничались, разговорились.
— Если бы сейчас выпустили, в одних трусах, босиком добежал бы до Борисова. Перво-наперво наелся бы до отвала... Не, вымылся бы, а потом — за стол. Мать, конечно, самое вкусное бы приготовила. А после — к друзьям, может, на дискотеку... И выспаться, чтобы света этого не было.— Валерий даже замахнулся на лампочку под потолком.
— А я никуда из дома не вышел бы. Вся родня вокруг, телевизор, сигарета хорошая — отец с фильтром покупал. Мне эти друзья — во! — Сергей провел ребром ладони по горлу,— где сидят.
— Телевизор, дискотека,— после паузы заговорил и Юра.— Все это, хлопцы, мура. Наелся бы и я, накурился до отвала. А потом с братом в лес, силки на зайцев поставили бы, по сто грамм выпили бы, по лесу погуляли. После зайцев достали бы, пару себе, а если больше, на самогон поменяли б... Матка не ругалась бы...
Слушая эти нехитрые мечты, я снова подумал о том, как мало надо этим ребятам для счастья. Если исключить Юркин самогон, то у них обычные человеческие потребности: им хочется домашнего уюта, привычной обстановки, и никакие они не закоренелые преступники, хотя уже и пошли по опасной дороге. Как им помочь — Бог знает... Мне и самому не легче: дома, конечно, проплакала все глаза старенькая мать, извелась от неизвестности жена, замучила всех вопросами о папе дочь. А папа хлебает тюремную баланду, с трудом проглатывает опостылевшую «шрапнель», пытается хотя бы чуть-чуть облегчить судьбу чужих детей, сам не ведая, что ждет его завтра. Да еще боится, что эти обозленные юнцы узнают, что работал он прокурором, по их меркам — был и остается врагом. И никак нельзя объяснить ни Юрке, ни Сереге, ни Валере, что не все прокуроры и следователи — сволочи, что эти сволочи действуют не по Закону, а вопреки ему. К тому же они, пусть и по дурости, но совершили .преступления, я же сижу безвинно...
Книги моей троице надоели быстро. Скорость чтения замедлилась, ребята пробегали глазами страницу-другую, потом начинали заглядывать в конец книги, чтобы узнать, «чем все кончилось». И вряд ли можно их за это осуждать: фантастика Беляева, индейские вожди Купера, морская экзотика Станюковича звали на волю, в книгах бушевали океанские волны, галопом неслись кони, совершались научные открытия, а здесь, в изоляторе,— мрачные стены да зарешеченное окно... У ребят стало накапливаться раздражение, которое то прорывалось наружу, то сменялось полной апатией. Неожиданно кто-нибудь из них отказывался идти на прогулку, а это означало, что в камере должны были оставаться и остальные: по инструкции на прогулку выходить надо вместе, так удобнее контролерам. «Воспитывать» силой — нельзя, уговоры — не помогали. Спасало одно — напоминание о табаке, об окурках, которые можно найти в прогулочном дворике. Если же возвращались с пустыми руками, атмосфера сгущалась еще больше: начинались взаимные претензии, оскорбления, назревала драка. Неуютнее всех чувствовал себя в такой ситуации, конечно, Юрка: Сергей и Валера вымещали свою злость на нем. И не всегда мне удавалось установить справедливость.
Разрядил назревавший взрыв Рыжий — воспитатель изолятора. У симпатичного старшего лейтенанта выбивались из-под фуражки соломенные волосы, сквозь розовую кожу лица проступали крупные веснушки. Так что вряд ли ему стоило обижаться на свое прозвище, оно не было обидным, тем более, что подчиненная ему публика не могла обходиться без кличек.
Выслушав рапорт дежурного по камере (им был Сергей), воспитатель добродушно улыбнулся и почти дружески сказал:
— Засиделись, братцы, без работы. Пора за дело приниматься. Надо себе на прокорм зарабатывать, нечего дармоедами на шее государства сидеть.— Сделав это вступление, он неожиданно спросил: — Ножи когда-нибудь держали в руках?
Вопрос прямо-таки огорошил ребят. Он был настолько простым, что они заподозрили в нем какой-то подвох и недоуменно смотрели на старшего лейтенанта. Тот же, добившись желаемого эффекта, положил на стол четыре ножа. Это были самоделки: длинные, сантиметров двенадцать, рукоятки, в которые вставлены заточенные полотна ножовок. Само лезвие короткое — не более двухтрех сантиметров.
— Администрация оказывает вам большое доверие, вручая эти опасные орудия труда,— продолжал он,— и надеется, что использованы они будут только в производственных целях. За этим проследит ваш старший по камере.— Он выразительно посмотрел на меня.— А поручаем мы вам очень важное и прибыльное дело: устранять брак в детских игрушках.
Ребята, немного ошарашенные торжественным вступлением, заулыбались.
— Цацки будем делать, хлопцы,— подал голос Юра.
— Филиал «Детского мира»...
— Няньки из детского сада...
— Вы почти правы. Минская фабрика игрушек присылает нам бракованные детали, вы доводите их до кондиции. Если выполните норму, каждому начисляется пять рублей.
— А как я их получу? — заинтересовался Юрка.
— Дважды в месяц ты сможешь купить продукты на десять рублей, остальные положим на твою сберкнижку, понятно? — Заметив недоверие в глазах пацанов, серьезно разъяснил: — На заработанные деньги выписывается квитанция, вы ее получаете на руки... Отовариваетесь,— а остальное ваше... Что и как делать, вам скоро объяснят. А вообще у вас есть теперь бригадир — ваш старший по камере. Все проблемы решайте с ним, в крайнем случае — сообщите контролеру, тот передаст мне. Я вас постараюсь не забывать...
Вскоре принесли заготовки для игрушек — целый ящик деревяшек, с которых надо было удалить наросты, неровности, соскоблить сучки, заусенцы. С охотки буквально набросились на работу: в камере были слышны только скрип ножей да деловитое посапывание. Часа через три перебрали весь ящик, составили записку о сделанном, убрали мусор. Каждый стал прикидывать, на что потратит деньги. Больше всего их беспокоило, что малолеткам запрещено покупать сигареты, и они стали упрашивать меня:
— Старшой, будь другом, выручи...
— Мы твою норму делать будем...
— Можешь камеру не убирать, сами сделаем...
Твердо обещать я не мог, но и отказывать им не хотелось — жалко и противно было смотреть, как они, будто нищие, копаются в грязных урнах, выискивая обсосанные кем-то бычки...
Как и следовало ожидать, запас «трудового энтузиазма» у подневольных мастеров оказался небольшим. Работа не была сложной, она не требовала никаких умственных усилий, только минимальной внимательности. Угнетали однообразие, монотонность и, пожалуй, подсознательный протест: кто-то будет радоваться, а тебе предстоит гнить в тюремных стенах. Тяжелее других приходилось Сергею: он не был приспособлен к физическому труду — вырос в городе, да и натура у него импульсивная, взрывная, а тут, как на бесконечном конвейере,— примитивная заготовка, примитивный инструмент, однообразные движения. Юра и Валерий подначивали неумеху — у каждого был собственный дом (вернее, у родителей), так что подпилить, подтесать, приладить, исправить что-либо для них было привычным занятием, само собой разумеющейся обязанностью. Другое дело — хотелось ли им этим заниматься, но руки у них были «заточены» как надо. Однако и они все чаще со злостью отбрасывали деревяшки, все чаще срывались: «А пошло оно все...» И хотя я для проформы сдерживал их, в душе был согласен: такой труд не может перевоспитать человека. Робот в тюремных стенах — это уникальное изобретение...
Оживилась камера с приходом пятого жильца — Владимира. «С этим надо держать ухо востро,— сразу определил я.— Парень, видимо, с характером». Выглядел он старше старожилов: крупные черты лица, плотная фигура, голос громкий, с какой-то ленцой, может, от легкого заикания.
— Прислали к тебе на перевоспитание,— с подковыркой доложил он мне.— В старой камере старшой козлом оказался, заложил меня Рыжему.
— Ты бы перевел с иностранного для малолеток,— не остался я в долгу.— А то говоришь загадками.
— Ну, врезал тазиком одному фраеру, чтобы зналсвое место. Старшой доложил Рыжему, а тот выдернул меня из той камеры и к вам подселил. Сказал, что еще один залет — и выпишет путевку на кичу...
— Куда, куда? — Юрка смотрел на вновь прибывшего, широко открыв глаза.
Тот наметанным глазом глянул на него, сразу определил, с кем имеет дело:
— В карцер, деревня. А там, я вам скажу, житуха — не мед. Пять дней просидишь — больше не захочешь. Горячая баланда — через день, а так хавай хлеб, да еще соль и воду дают... Спишь на голой шконке, ватник отбирают. Прогулок — нет, сортира — нет, на горшок садишься. Правда, он на хрен и нужен — желудок пустой, я за три дня на три килограмма похудел...
— Так ты уже был на киче? — переспросил Сергей.
— Рыжий отправил. Он только с виду добрый, а что не так — за транты и «гуд бай»...
— Значит, было за что,— попробовал я приструнить Владимира, явно претендующего на авторитет в камере.
— Опять же старшой заложил. Дежурил я по камере, заставил одного хилого пол помыть, а тот, щенок, ленивым оказался. Вот и пришлось его пощекотать немного. Конечно, сопли-вопли, старшой — Рыжему, и... «здравствуй, кича!».
— Закладывать тебя, сдавать воспитателю я не собираюсь,— твердо сказал я.— Думаю, что справлюсь и без него. Сразу предупреждаю — никто на тебя пахать здесь не будет, придется как всем и дежурить, и работать.
— Я — что, я — не против,— поубавил тон Владимир.— Кича мне...— и он охарактеризовал свое отношение к карцеру многоэтажным затейливым матом.
— И это у нас не проходит,— оборвал я его.— Договор такой: за каждую «мать» — десять щелбанов, причем бить буду я. Пацаны знают...
Владимир удивленно посмотрел на соседей, почесал лоб и проговорил:
— Ладно. Поживем — увидим.
Поскольку он был новичком, койка ему досталась не самая удобная, как и место за столом. Я «расквартировывал» постояльцев по мере прихода, и ближайшим моим соседом был Юрка, хотя я понимал, что в их внутренней иерархии ему отведено последнее место. Но пока Владимир ничем не выдал недовольства, хотя и глянул искоса на Юрку.
Устроившись, Амбал (так он представился ребятам) быстро разузнал, кто за что и как попал в СИЗО. Услышав, что Валера проходит по 117-й статье, протянул ему руку:
— Мы с тобой, значит, кореши. Я тоже на этом погорел. Только я один по делу иду, мне проще, может, и отмажусь...
— Как же, отмажешься... А потерпевшая?
— Я говорю, что все было по согласию, пусть докажут, что не так. Никто ж не видел, один на один мы были...
— Раскрутят, никуда не денешься...
— Не каркай. Следователь молодой, я ему лапшу на уши вешаю уже четыре месяца. Пока ничего доказать не может.
Я не встревал в разговор юнцов, машинально перелистывал страницы книги, по старой привычке представляя себя на месте следователя. Этот Амбал, судя по всему, далеко не глуп; если и виноват, то будет держаться своей версии до конца. А если он был у девушки не первым, то привлечь его к ответственности и вовсе проблематично. Да и потерпевшие бывают разные: переспит с парнем где-нибудь под кустом в сквере, придет домой, а мать увидит, что юбка в грязи. Вот и бежит с заявлением: изнасиловали, караул! В общем, все это далеко не просто, попробуй, установи истину.
...К чести Владимира, работал он сноровисто, гораздо лучше сокамерников. Точные, уверенные движения, быстрая оценка дефекта, наилучший вариант исправления — у него были все задатки неплохого столяра. Это я могу сказать уверенно, потому что сам люблю заниматься деревом, перенял эту любовь у отца, всю жизнь проведшего за столярным верстаком.
У нас в Минске свой дом. А мужиков — только я. Отец умер пять лет назад: нырнул с обрыва по пьянке, а в воде — обломки железобетонных блоков. Помучился немного — и кранты. Остались мы втроем — мать, сеструха младшая и я. Так что и топор, и пилу, и кельму держать умею. Получил аттестат за восемь классов, на стройку пошел, работягой. И в вечернюю школу записался. Все как надо. Ну, по сто грамм с дружками сделаем, на танцы сходим. Люблю я это дело. Мать говорит: «Брось, Володя, отец из-за пьянки погиб, а ты по его дорожке катишься...» А я психанул, неделю дома не был, потом пришел и говорю: что хочу, то и ворочу, не лезь не в свои дела. Поплакала, но отстала. А тогда вижу: приженился к ней какой-то мужик, живут без росписи. Я и вообще домой перестал приходить — дружков много, подружек тоже...
По его словам, и насиловать он не собирался, девушка сама согласилась, но потом заартачилась, подняла шум. Не думал, не гадал, что так получится, а вот на тебе... Мать переживает, сестренка плачет. Верят, что он не виноват, поддерживают, вот скоро передача от них должна быть...
Время передачи он вычислил точно. Вскоре открылась кормушка, и «мамка» (так в изоляторе называют работницу, разносящую посылки и передачи) назвала фамилию Владимира.
— Точно по графику,— похвалил он своих родных.— Ровно месяц назад получил.
Из мешка на свою койку выложил сало, колбасу, сахар, масло, домашнее печенье — все пять килограммов, положенных по инструкции.
— Жалко, что мы еще малолетки, а то бы сигареты прислали,— не забыл о тюремном дефиците хозяин посылки, но было видно, что он очень рад.
Заблестели глаза и у других сокамерников. Они бросили работу, обступили койку, с трудом проглатывали обильную слюну. Да, голод — не тетка...
— Как, старшой, у вас общий котел?
— Конечно. Завхоз — Валера. Он у нас самый экономный.
Валера быстро разделил на всех печенье, сало и колбасу сложил в пустую коробку и засунул под шконку, сахар положил в ящик стола, масло — на окно. Передача была очень кстати, перед приходом Владимира закончилось «мое» сало, а ребятам пока ничего не передавали...
— Давайте, орлы, закончим быстрее работу, чтобы после ужина не доделывать,— подогнал я.— Тогда и попируем.
Уговаривать никого не пришлось. Быстрее зашаркали ножи, никто не обращал внимания, что Сергей отстает — навалились все вместе и закончили работу, как говорят, досрочно. Сложили продукцию в ящик, оформили квитанцию и стали ждать ужина...
Он получился, по нашим меркам, королевским: тюремную перловку ели с кусочками сала и колбасы, воду пили с сахаром, да наверх еще бутербродики из хлеба с маслом.
Скоро и мне должны передать,— с полным ртомпрошамкал Валерий.— Мать или отец привезут, даю 100 процентов гарантии...
— Моя матка не приедет,— вздохнул, быстрее всех справившись с едой, Юрка.— Она ни разу не была в Минске да и злая на меня...
А мои рядом...— Это отозвался Сергей.— Дома всегда полный холодильник, что хочешь там есть. А вот третий месяц — ни слуху, ни духу. Выйду, спрошу: так вы меня любите? — с неожиданной для него злобой и угрозой закончил он.
— Хотят, чтобы ты прочувствовал вину, чтобы больше не повадно было по чужим балконам и квартирам лазить,— подвел я педагогическую базу.
— Может, и так... Хотя и с передачами, и без них — тоска зеленая, небо в клеточку и эти деревяшки дурацкие...
Непривычно сытный ужин разморил ребят, их движения стали замедленными, глаза сами закрывались.
— Как хотите, пацаны, а я посплю,— сладко потянулся Сергей и полез под шконку.
— И я,— тут же подхватил Юрка и зашился в дальний угол.
А мы ляжем тут,— Владимир решительно растянулся на голой шконке и закрыл глаза.
Лег на свою койку и Валера, не устоял против соблазна и я, предварительно подостлав ватник. В камере наступила непривычная тишина. Однако длилась она недолго, минут двадцать. Загремели засовы — порог переступил Рыжий, воспитатель.
— Что разлеглись, как на пляже? Читать разучились? — и он ткнул пальцем в висевшую на стене выписку из Правил содержания заключенных.— До отбоя спать не положено, понятно? Еще раз поймаю — накажу!.. Работу сделали?
Удар принял на себя я:
— Работа сделана, гражданин воспитатель. Можете проверить — качественно. А немного расслабились... Вот Владимир передачу получил, поужинали вместе, разморило. Живые ведь люди,— бил я на сочувствие.
— Если передачи — причина нарушений, может, лишить их вас? — не то пошутил, не то пригрозил старший лейтенант. Выдержав длинную паузу, нравоучительно продолжил: — Видите, родители о вас заботятся, а вы им в душу плюнули. Легко ли им — и на работе, и дома: что соседям сказать? Так делайте выводы, малолетки!.. А нарушение на первый раз прощаю. Хотя,— он взглянул на Владимира,— кое у кого оно не первое.
— Вот скотина, запомнил,— зло процедил тот, когда за воспитателем закрылась дверь.— Ходит, как пес, в глазок заглядывает. Я бы ему...
«Ты не так безобиден, парень, как хочешь казаться,— подумалось мне.— Прямо побледнел от ненависти. С тобой надо аккуратнее...»
Хрупкий мир в камере взорвался в конце декабря, когда я начал знакомиться с материалами уголовного дела по моему обвинению. Ежедневно с десяти утра до часу дня, а затем с трех до шести читал в следственном кабинете пухлые тома, делая в своей тетради необходимые для защиты выписки, замечания. Так что мои несовершеннолетние подопечные оставались одни, без присмотра. Приходя на обед и в конце дня, я замечал, что старожилы — Юрка и Сергей — постепенно отодвигаются на задний план, а верховодить начинают Валерий и Владимир Амбал.
И уж совсем обострилась ситуация с появлением в камере еще одного новичка. Возвратясь к обеду, я увидел, что на Юркином месте, рядом со мной, расположился незнакомец. Почему-то его не переодели в казенную униформу: на нем ладно сидели приличные джинсы, модная рубашка, комбинированная болоньевая куртка, на ногах — новые кроссовки. Его не постригли — он то и дело поправлял довольно пышную шевелюру.
— Старшой, я буду сидеть рядом с тобой,— опередил он мой вопрос.— Ты не возражаешь?
Непросвещенному человеку может показаться, что нет никакой разницы, на каком конце стола хлебать баланду. Но по тюремным, лагерным неписаным законам, которым уже многие десятки, если не сотни лет, место за столом, на шконке определяет и место в уголовном мире. Опытный контролер или следователь сразу определит, едва зайдя в камеру или барак, кто есть кто. А уж рецидивист со стажем — тем более. Так вот, в нашем временном жилище на самом почетном месте «восседал» я — и по праву первопоселенца, и в силу возраста. Возле меня располагался Юрка, затем — Сергей, Валерий и Владимир. Я считал, что так будет справедливо — кто раньше пришел, тот и получает небольшое преимущество. К тому же, не скрою, больше всего мне было жаль несчастного Юрку, и я старался хоть как-то поднять его авторитет и в его собственных глазах, и в глазах сокамерников.
Дима Шустрый из Могилева произвел длинную рокировку: теперь юнцы сидели в обратном порядке. На мое место он пока не посягнул, но кто знает... Он оказался неплохим психологом, сразу оценив, кто чего стоит, причем его оценка полностью совпадала с моей. Только я хотел нарушить эту иерархию, а он как бы узаконивал уголовную этику, если можно здесь употребить это слово, подчеркивал ее незыблемость.
Вызов был явным, ребята настороженно смотрели на меня: как отреагирует старшой на посягательство на его власть?
— Поговорим вечером,— обтекаемо пообещал я.— А пока вздремну, раз воспитатель добрый,— Мне в самом деле полуофициально разрешили лежать днем на голой шконке — чтение материалов дела утомляло до предела, голова буквально распухала от информации, и какой-то час отдыха был мне совсем не лишним.
Подсунув под голову свернутый ватник, закрыл глаза, расслабился. Но задремать не удавалось — шум в камере был громче обычного, выделялся из нестройного хора сиплый голос Шустрого:
— Слушайте сюда. Еду, значит, я с кентами в троллейбусе. Васька Огонь, Федька Дик, Виталик по кликухе Слон... Бухие — шесть банок чернил раздавили. Впереди две чувихи сидят — к ним и подвалили. Базар-вокзал, в общем, клеимся. А у одной цепочка на шее. Я рукой лапнул: «Какая шейка, какая красотка...» Тут на остановке два хмыря зашли — и к нам: «Это наши знакомые, не трогайте девушек...» А я сразу: «Отвалите, фраера, а то в окна выскакивать будете!» Те кипиш подняли, ну мы и начали их гасить прямо в троллейбусе. Шум-гам, сопли-вопли: «Милиция! Милиция!» Троллейбус притормозил, мы двери раздвинули — и на ходы. А я еще успел котлы увести...
Слушатели заерзали на скамейке, одобрительно поддакивая рассказчику. Сквозь полуприкрытые веки я видел его широкий рот с плохими зубами, мигающие глазки под широкими бровями, подергивающуюся щеку: впечатление он оставлял не из приятных.
— Это все, Шустрый, семечки! — переключил внимание на себя Владимир Амбал.— Вот мы летом собрались своей компанией — нас семь человек. Наскребли на бутылку чернил, только во рту напаскудили. Решили добавить. Пошли на речку, там народу, как на настоящем пляже. Обчистили несколько карманов — шмотки на берегу валяются, хозяева в воде. В общем, получилось аж на пять фляжек. А очередь у винного отдела — человек двести. Попробовали прорваться — глухо, мужики озверели, стоят стеной. Сунулись к одному, ко второму — все посылают... Наконец уломали, взял один мужик нам чернил... В скверике возле стадиона «Локомотив» раздавили, на танцы поехали, в парк. Подкатил к чувихе, танцуем. Ништяк краля. Я ей базарю: «Пойдем погуляем!» А она: «С пьяными не хожу...» Ничего, думаю, не ты одна, обойдемся.
— Правильно, Амбал. Их, баб, навалом,— поддержал Шустрый.
— Слушай дальше. Нашел себе другую. Та не стала выламываться. После танцев остались в парке, в папы- мамы играли... Замучила меня, до того охочая...
— Ну а дальше, дальше? — подогнал уже Валерий.
— А дальше, Лис, я влип. Еду на мопеде по Логой- скому шоссе, смотрю — та самая краля чешет, что на танцах отказалась от меня. Я торможу — и к ней: «Что, дорогая, я тебе, значит, не подхожу?» Она в крик: иди, мол, отсюда, я тебя не знаю! Узнаешь, говорю. Схватил за руку — ив лес. Повалил, а она вопит, кусается, царапается. Рядом камень лежал, я схватил и базарю: «Будешь орать — прибью!» Она и замолкла... Кончил дело, она поднялась и бегом от меня...
— Молодец, Амбал!
— Знал бы, не трогал; что мне, других мало? Думал, что молчать будет, а она заяву в контору отнесла. Менты стали искать и вышли на меня. Мопед подвел — видели, как я ехал. Я отказывался, а она на опознании сразу же в меня пальцем ткнула. Я, правда, уперся: по согласию, мол, еще на танцах обещала. Не знаю, выгорит ли...
Мои недавние сомнения в искренности Владимира, таким образом, подтвердились. Не такой уж он несчастный, тем более — не жертва оговора. Вполне сложившийся насильник, не говоря уже о моральной и половой распущенности. Не удивительно, что Шустрый сразу вычислил и приблизил его к себе: два сапога пара. Поставить этот тандем на место будет нелегко — это мне было ясно...
...Когда я вновь пришел в камеру после чтения очередной порции «своих» протоколов, то ощутил, что атмосфера накалилась еще больше. У Юрки глаза были красными, наплаканными, Сергей нахохлившись сидел на дальней шконке.
— Что произошло? Ты плакал?
— Не твое дело! Отвяжись! — Юрка таким тоном разговаривал со мной впервые.
— На то он и Сопливый, чтобы нюни распускать,— съехидничал Шустрый и довольно загоготал.— Зато в камере чисто.
Действительно, пол был вымыт, унитаз блестел, вентили кранов буквально сияли. Я знал, что дежурить должен был Валера, но сразу понял, что произошло: убирать заставили затурканного Юру... Шустрый начинал командовать парадом.
— Так дело не пойдет,— с расстановкой произнес я.— Беспредела здесь не будет!
— Не пойдет, так поедет! — в голосе Шустрого были слышны и вызов, и угроза.
— Садись рядом, разговор есть!
— Чего тут базарить, я у вас недолго задержусь. Я тут, как на пересылке. Через пару дней должны в «Новинки» отправить, на экспертизу. С головой у меня,— он состроил идиотскую мину,— того...
— И давно это у тебя или прикидываешься только?
— Когда надо, то и закосить могу. А вообще-то припадки бывали. Еще в спецшколе.
— Ты и там успел побывать?
— С меня хоть книжку пиши. Мои старики в автокатастрофе погибли, мне десять лет было. Попал в детдом, оттуда бабка забрала, пожалела. Залетел в ментовку, вернули в детдом. После в спецучилище закинули, но и оттуда деру дал. И опять менты загребли...
— Значит, ни кола, ни двора. А живешь-то за что? Одет вроде неплохо...
— Дураков и раззяв много. На мой век хватит. Руки надо хорошие иметь — и дело в шляпе,— он выразительно пошевелил пальцами.
— Говори понятнее...
— Щипач я. Слыхал про таких? Карманник, значит. Прошвырнусь по автобусам-троллейбусам, и что было вашим — стало нашим.
— Вор, значит. Понятно.
— А я и не скрываю. Могу и хату почистить, и сарай. Борюсь,— он самодовольно-издевательски усмехнулся,— с ротозейством.
— Ну и до чего доборолся?
— Следователь шьет двадцать краж, а я от половины отказываюсь. Не докажет. А будет доставать — закошу...
— Прикинешься дураком?
— А что? Полежу в психушке, врачи дадут справку. Я ж в самом деле припадочный — сдвиги по фазе бывают. Отпустят — и снова гуляй, Шустрый!..
— Зря надеешься. Оттуда так просто не отпускают. Лечить будут. В закрытой психбольнице. А там жизнь — далеко не сахар...
— Ты откуда знаешь, старшой?
— Знакомый лежал,— соврал я. — Как и ты, закосил, прикинулся. Так уже через месяц на коленях просил, чтобы признали здоровым. Там же настоящие психи лежат, свои права качать не будешь. А еще уколы да таблетки... От них здоровья не добавляется...
— Колеса я пробовал, тысячи через себя перекинул. Этим меня не напугаешь. Главное — не хавать все без разбора, а то можно и ласты склеить. Один кореш заглотнул лишнее, так чуть в больнице откачали. Я грамотный...
— Интересно ты грамотность понимаешь...
— Разбираюсь, будь спок. «Свежесть» от «Росинки» отличу по запаху.— Увидев мое удивление, тоном знатока произнес: — Вот, а в старших числишься. Лосьонов не знаешь...
— Что, и эту гадость пил?
— Все, что горит!.. А вообще-то, водяра или самогон лучше. Правда, Сопливый?
Юрка, дремавший в уголке, услышав свою кличку, встрепенулся и заморгал глазами.
— Вот и он подтверждает,— куражился Шустрый.— Помню, попали мы втроем в один поселок под Могилевом. Вмазать хочется, а тут видим: сидят два мужика и квасят. Подваливаем и так вежливо: «Налейте и нам, пожалуйста». А им, видишь ли, жалко. Но Ленин же сказал, что надо делиться. Мы и отметелили их, а поддачу забрали, высосали. Снова к мужикам. Один в штаны наложил, базарит, что дома самогон есть. Пошли. А он в хату зашился, дверь закрыл и носа не показывает. Мы камнями по окнам давай бомбить... Вынес, гад, трехлит- ровик, куда он денется... Правда, после менты повязали. Мы в лес залегли, самогон пьем, а тут и «воронок» за нами прикатил. Чуть отмазались, пожалели нас, малолеток, а то бы уже сидел на зоне.
— Плохо кончишь, парень...
Это не твое горе, старый. И не лезь в наши дела,— он кивнул на ребят.— Сами разберемся, как нам жить. Вот я когда на спецах был, в спецучилище для малолеток, сразу к босякам пристал. Взяли без разговора. На нас там вот такие, как Сопливый и Лопоухий пашут. Их и зовут пахарями.
— С тобой все ясно, я тебя перевоспитывать не собираюсь, бесполезно. Но замашки свои босяцкие брось. Зачем тебе лишние неприятности,— оборвал я ненужный разговор.
— Не бери на понт, старый. И не таких видел...
Что и говорить, ситуация складывалась довольно щекотливая. И дело не в том, что Шустрый подрывал мой авторитет — не было бы большей беды... Он на моих глазах давал сокамерникам первые наглядные уроки уголовного права, а я не мог ничего ему противопоставить. Кроме, конечно, грубой физической силы. Этот аргумент, без сомнения, на него подействовал бы безотказно. По- видимому, он даже рассчитывал на такой поворот событий. Если я кулаком верну себе первенство, значит, прав он, Шустрый,— «у сильного всегда бессильный виноват». И он бы согласился на роль моего подручного, чтобы помыкать остальными. «Надо поговорить с воспитателем, чтобы Шустрого забрали из камеры,— решил я.— Иначе беды не миновать. Сорвусь, не выдержу наглости, а ему только этого и надо».
Развязка наступила быстрее, чем я ожидал,— назавтра. Когда вернулся от следователя на обед, и без того неуютная камера выглядела, будто в ней произошло локальное землетрясение: заготовки валялись на полу, постели были скомканы, под потолком висел тонкий слой дыма, пахло табаком. На цементном выступе возле унитаза стоял и всхлипывал Юрка, за столом сидел один Сергей и дрожащими руками пытался исправить какой- то дефект у игрушки. Остальная троица о чем-то оживленно разговаривала, пересыпая речь матерщиной.
— Что за бардак в камере?! Обнаглели совсем. Почему не работаете? Или уже по примеру Шустрого босяками заделались?
Шустрый, даже не оборачиваясь ко мне, лениво процедил:
— Не выступай, старый. Мы тут побазарили и решили, что тебе лучше молчать в тряпочку. Понял?!
— Вы что — на испуг меня берете, щенки? Смотрите, чтобы в больнице не оказались, а кое-кто всю жизнь на лекарства не работал. Это тебя, Шустрый, касается!Ладно, заглохни. Мы сами разберемся. Сопливый и Лопоухий будут в хате порядок держать. А работать я их сейчас научу...
Он вскочил со шконки и стал топтать разбросанные по полу детали. На этот раз они были из пластмассы и сразу же захрустели под кроссовками Шустрого. К дикой пляске присоединились Амбал и Лис, они бессвязно выкрикивали что-то, входя в раж,— картина была жуткая. Особенно страшно было смотреть на Шустрого: глаза его закатились, тело дергалось в судорогах, и я с испугом подумал, что’ у него начинается припадок эпилепсии.
— Прекратите! Остановитесь!
Юные варвары взялись за руки, образовали круг и, будто под какую-то шаманскую мелодию, продолжали конвульсивную пляску.
Я бросился к двери, но Шустрый неожиданно опередил меня.
— Козлить решил начальник? На опера работаешь? Я тебя сразу раскусил! — Ия увидел в его руке нож, который нам выдавали для работы.
Каким усилием воли мне удалось сдержать себя, я и сейчас не пойму. Помню хорошо: мгновенно определил дистанцию, место, куда должен нанести удар — в левую челюсть. Даже представил, как дернется его голова, а я вторым ударом, уже левым крюком, достаю его снова, и обмякшее тело грохается на шконку. Все это было проиграно в голове за доли секунды — все-таки недаром я занимался боксом, но... мои руки как были опущенными, так и остались.
— Остынь, дурак,— как можно спокойнее и медленнее проговорил я, успокаивая и его, и себя.— Не ищи приключений...
— Мне что, я дурак, мне все простят. Вот счас пощекочу перышком,— он явно хотел распалить себя, хотя в его глазах я заметил и нерешительность, и испуг.
Боковым зрением увидел, что два его подручных — Амбал и Лис — тоже держат в руках ножи. «Надо выиграть время, ни в коем случае не дергаться. Он же явно провоцирует на драку».
— Не хочу связываться. Припишут, что избил малолетку, еще одну статью навесят,— я говорил пренебрежительно, будто нехотя, давая остыть и ему.— А прыгать не советую, птенчик. Я за свою жизнь и не таким крылышки обламывал.Наверное, я выбрал правильный тон и даже жаргон: такие, как Шустрый, пасуют перед спокойной силой и уверенностью, а вскользь оброненные слова из блатной лексики давали ему понять, что и я не лыком шит.
— Ладно, старый, живи. На сегодня простим. Но помни...— Он демонстративно воткнул нож в столешницу. Рядом легли два ножа.
Упускать момент было нельзя. Я вызвал контролера, сказал, что хочу видеть воспитателя.
Лишь только закрылась дверь, как разъяренная тройка вновь обступила меня.
— Закозлил все-таки, скотина лысая...
— Ссучился...
— Ничего, будешь сам на параше спать...
Надо признать, набор ругательств и оскорблений был у них отменный, хоть словарь специальный составляй. Но я убедился, что поступил правильно: они изощрялись в ругани от бессилия, скорее автоматически, чтобы не показать друг другу своей растерянности. Ведь я настоял на своем, не испугался ножей, довел дело до конца. Без кулака я добился большего результата, чем с помощью мордобоя.
Во время обеда слышалось лишь позвякивание ложек да привычное уже сопение Юрки. Правда, Шустрый попытался хоть каким-то образом ущемить мои права, растопырив на столе локти. Ухмыльнувшись про себя, я без видимого усилия отодвинул его руку. Этого было достаточно, чтобы наглец испуганно глянул на меня; он сопротивлялся изо всех сил, а локоть помимо его воли скользил по доске. И я думаю, что эта незаметная для других дуэль принесла мне больше, чем дали бы, скажем, выбитые зубы Шустрого.
Чтобы расставить все точки над «i», я хотел рассказать воспитателю о ЧП при всех, не добавляя и не убавляя ни слова, ни детали, чтобы у колеблющихся Юрки, Сергея да и, пожалуй, Валерия не зародилось подозрение, что я наушничаю, что сочиняю доносы. Но надо было идти читать материалы своего дела, и я лишь напомнил напоследок:
— Юра, ты никого не бойся, при мне тебя никто не тронет. А полезет кто — давай сдачи. Не трусь.
Воспитатель случайно встретился в коридоре. В двух словах рассказав об инциденте, я попросил, вернее, посоветовал:
— Уберите из камеры Шустрого. Он и пацанов развращает, и я могу не сдержаться. Не хочу брать грех на Душу.
Вечером меня встретили почти идеальный порядок и непривычная тишина. Юра по привычке дремал, Сергей читал книгу, Валера с Владимиром мирно играли в шашки, Шустрый стоял перед окном, безучастно уставившись на решетку. Не проронив ни слова, я взял «Комсомольскую правду», которую ежедневно приносили в камеру, и так же молча уселся за стол.
Открылась дверь — вошел старший лейтенант, воспитатель. Огляделся.
— Оказывается, и вы что-то делать умеете. Вот так должно быть каждый день, ясно? Из детского возраста вышли давно, нянек для вас держать никто не будет. Тем более, что попали сюда по своей воле, никто не заставлял переступать через Закон.
Он прошел к окну, заглянул в книгу, что лежала перед Сергеем, резко повернулся:
— Вы оба,— он показал на Владимира и Шустрого,— собирайте вещи. Ты,— остановился перед Валерием,— выучишь наизусть один раздел из вот этих правил,— он кивнул на стену.— Именно те строчки, где сказано, что запрещено арестованному. Завтра по памяти повторишь мне. Ясно?
— Ясно!..
— ...Наверное, на кичу посадят,— Владимир Амбал как-то уменьшился в размерах, сгорбился, куда подевалась его бравада, гонорливость.
— Мне наплевать,— хорохорился Шустрый.— Меня, может, завтра в «Новинки» отвезут. Там чистота, санита- рочки, жрачка — не то, что здесь. Колеса постараюсь достать, кайф поймаю...
Уходили из камеры они не героями, как надеялся Шустрый, а жалкими, растерянными — уходили в неизвестность, а скорее всего — делали первые шаги к зоне. И понимая, что дорогу эту выбрали они сами, я даже пожалел их — не для этого родились они на свет Божий.
Не успела за бунтовщиками захлопнуться дверь, как Валерий Лис сразу же оправдал свою кличку. Отводя глаза, как-то бочком, будто спутанный, он сделал несколько шагов ко мне:
— Извини, старшой. Я бы, конечно, тебя не тронул, вот честное слово. Сбили с толку эти двое, особенно Шустрый. Нас больше, мол, чего он командует. Мы,базарит, молодняк, по-своему должны жить. Нам на воле эти наставники надоели, житья не дают, все читают... А ты мужик ничего, нормальный.
Дневная самоуверенность слетела с него, как шелуха, он вспомнил даже слова «извини» и «честное слово», не верилось, что этот симпатичный парень несколько часов назад поминал и Бога, и душу, и мать, стоял за моей спиной с ножом... Таких, как принято говорить, в разведку с собой не берут: он готов переметнуться к кому угодно, лишь бы ему самому было хорошо. Унизит более слабого, будет лизать пятки сильному. И если уж начинающий уголовник Шустрый быстро разобрался в нем, то зэки со стажем будут из него веревки вить.
Все это, не скрывая, я и выложил недавнему противнику, предупредив:
— Не хочу оказаться пророком, но запомни: будешь угодничать перед такими, как Шустрый, из зоны тебе не вылезать. Так что думай, друг Валера!
— А я его сразу раскусил,— наконец-то подал голос Сергей.— Он меня и так, и сяк доставал: подкалывал, подначивал, издевался, а я смолчал. Ну его, думаю: ему здесь день-два сидеть, в «Новинки» отправят, а мне потом расхлебывать...
«И этот туда же. Струсил, сдался, а ищет себе оправдание. Юрку били — молчал, на парашу поставили — не заступился, на меня полезли — он и тут в стороне. Но так в жизни не получится, а уж в камере — и подавно. Не было бы несчастного Сопливого, пришлось бы именно ему и пол мыть за всех, и бычки собирать, и на той же параше ночевать. Впрочем, такая перспектива у него, к сожалению, осталась. Следствие еще идет..»
Ничего этого говорить Сергею я не стал, лишь внимательно посмотрел на него. Парень он был сообразительный, отрицать не стану. Понял, что ему лучше помолчать со своими оправданиями, но удержаться не смог, уколол меня:
— Что же ты сам, старшой, не осадил Шустрого? Испугался?
— Да, испугался.— Тут все трое оставшихся уставились на меня. Дав им немного поторжествовать, невозмутимо продолжил: — Но испугался не его ножа, не еще двух, что были за спиной. Успел подумать, что, если ударю,— могу искалечить, ведь я бывший боксер, кандидат в мастера. Мало того, что челюсть разломаю, так еще головой о шконку ударится, а вдруг — насмерть? Так зачем это надо, мне что — своих забот и неприятностей мало?
Они задумались, переваривая услышанное, а я добавил:
— К тому же, пацаны, доказывать что-либо силой — не лучший вариант. Вот вы все трое попробовали — и сидите в камере, в СИЗО. Один силой чужой самогон забирал, другой — чужие вещи, третий — силой девушку взял. А итог один...
Едва дождавшись отбоя, мои сокамерники уснули. С Валерия сползло на пол одеяло, но он не чувствует — благо, в камере тепло. Что-то неясное бормочет, пальцы нервно шевелятся. Может, представляет, как дрался бы со мной... Серега спит на боку, подложив руку под щеку, как, наверное, учила в детстве мама. Рот полуоткрыт, тихо посапывает — взрослый ребенок, да и только... Свернулся калачиком, натянул одеяло на голову Юра — его сразу и не разглядишь, не поверишь, что там лежит восемнадцатилетний юноша, успевший на своем веку испытать многое — и голод, и холод, и побои, и ответивший на все это кражами и пьянством. Три изломанные судьбы, и распад еще не сформировавшихся личностей продолжается в камере. Нервное напряжение, скудная .пища, гнетущая атмосфера калечат и душу, и неокрепший организм. Испытав все «прелести» СИЗО, могу утверждать: Закон явно несправедлив к несовершеннолетним преступникам. Судите сами: и взрослые, и малолетки находятся под следствием до девяти месяцев, затем и те, и другие ожидают в тюрьме суда. Зачастую так называемая жизнь в камере длится год-полтора. И отправляются отсюда в лагерь или на волю (что крайне редко) не молодые люди, а полукалеки. Так система «заботится» о новом поколении сограждан. Не претендуя на лавры юридических светил, я все-таки думаю, что сократить сроки следствия по делам несовершеннолетних вдвое вполне реально, никакого ущерба от этого правосудию не будет. Наши изоляторы, я убежден, это своего рода курсы повышения квалификации преступников, тем более — малолетних.
И спасти положение не могут даже те немногие честные воспитатели, которые хоть изредка, но встречаются на пути подростков. Таким человеком был, несомненно, и наш Рыжий. Пусть меня простит этот тогдашний старший лейтенант, но в его прозвище, как я уже говорил, не было ничего для него обидного, просто его подопечные не могли обходиться без своего привычного лексикона. За те восемь месяцев, что я был «прописан» в камере, передо мной прошли около тридцати подростков, и все они, за исключением четырех-пяти, подобных Шустрому, относились к нему с уважением. Правда, к этому чувству вначале подмешивался определенный страх — они помнили о карцере, но чем больше они узнавали воспитателя, тем быстрее этот страх уходил. Он никогда не наказывал без причины, не запугивал, не принуждал доносить друг на друга. И если случались инциденты, то ответ держал именно провинившийся, а не вся камера, как это обычно практикуется. Юнцы знали, что в арсенале его «воспитательных» средств есть дубинка (ее можно применять в исключительных случаях), но она в моей памяти так и осталась лишь символом. Рыжий умел разрядить обстановку, поставить на место нахала, выслушать обиженного, дать совет растерявше- муся, подсказать, каким образом лучше решить материальные проблемы. Сказать, что его любили — это, конечно, будет слишком далеко от правды, но то, что его не считали врагом,— в этом нет сомнения. А в СИЗО такую репутацию заслужить далеко не просто.
Повезло нам и с оперуполномоченным, опекавшим несовершеннолетних. Уравновешенный, редко повышавший голос, требовательный, но справедливый капитан обладал большой властью, но пользовался ей в той мере, которая не вызывает реакцию отторжения. Они прекрасно дополняли друг друга, стараясь, в меру своих возможностей, облегчить участь подопечных. И не их вина, что этих возможностей было крайне мало — не они основывали систему, не они писали законы и инструкции, позволяющие содержать людей в нечеловеческих условиях: в тесноте, на полуголодном пайке, без общения с родными и близкими.
Старший лейтенант и капитан, к сожалению, были редким исключением — души многих работников изолятора очерствели, они просто отбывали на службе положенные часы и не более. Не хочу обидеть всех медиков, но фельдшера из СИЗО, по-моему, или никогда не давали лятвы Гиппократа или начисто забыли ее. Формализм, безразличие — это, право, самые мягкие определения, каких заслуживает их отношение к подневольным пациентам. Я сам не раз видел, как из одной и той же упаковки выдавались таблетки от простуды, головной боли и колик в животе. И, заметьте, делали это женщины — сами чьи-то матери, жены. Печально, дико, уму непостижимо, но факт. О каком милосердии может идти речь...
...Камера готова принять десять человек, а нас осталось четверо. Так что я не очень удивился, возвратясь «домой» после читки обвинения и увидя очередного новосела. Стройный голубоглазый юноша веждиво поклонился мне и сказал с заметным прибалтийским акцентом:
— Меня зовут Андрис. Я из Латвии. Пробуду здесь недолго, надеюсь...
Подчеркнутая опрятность новичка и порядок в камере (пол подметен и вымыт, заготовки собраны в одно место, пацаны не озлоблены) вызвали двоякое чувство: внутренне порадовался, что в «хате» мир, но одновременно зародилось сомнение — не пришел ли новоявленный «пахан», только с интеллигентной закваской. Тем более, что старожил Юрка по-прежнему был на отшибе, на самом неудобном месте... Требовалось время, чтобы разобраться, кто же такой на самом деле вежливый латыш.
— ...Влип я из-за собственного... как это?., пижонства. Поставил... э-э-э... на уши магазин, четвертый по счету... Ну, взял спортивную сумку, одеколон, духи, рубашку, туфли, куртку болоньевую, авторучку.— Андрис выговаривал слова медленно, мысленно переводя с латышского на русский, и это тягучее перечисление украденного как бы завораживало его сверстников, они будто примеряли на себя вещи... Гипноз, да и только. А юный вор продолжал: — И тут мне захотелось посмотреть, как работает контора... милиция. Прихожу утром к открытию магазина... Будто купить что-то надо. Легавые крутятся, смешно мне... Смеялся я недолго — привезли собаку, а я во вчерашних кроссовках... Она меня и вынюхала... Повязали, сам виноват... Хорошо еще, что пошел в «со- знанку», все рассказал, показал... Может, меньше дадут...
— Следователь и мне об этом говорил,— подтвердил Сергей.
— И мне, только я вначале «полез в бутылку», стал темнить, а заработал по шее — сразу все вспомнил,— поддержал общую тему Валера.
— Я про это тоже знаю,— наконец-то нашел о чем вспомнить Юрка.— Это когда мы с братом мотоцикл угнали. Он в кустах сломался, мы его бросили, а кто-то спер. Вот менты и накостыляли мне... А где я его возьму, этот мотоцикл, из колена выломаю?.. И так всю правду выложил...
— Все зависит от того, какой мент попадется,— подытожил Валера.— Есть гады: чуть что — кулаки в ход, а есть — ништяк, нормальные мужики...
Короткие биографии моих сокамерников, как бы они ни старались приукрасить их, были на удивление схожи. Детство, за годы которого родители не смогли найти ключи к душе ребенка, школа, не пробудившая серьезного интереса ни к какому занятию, юность, проведенная в пьянках, воровстве, притонах. И вот теперь очередной, вполне закономерный этап на жизненном пути — камера изолятора. И самое печальное, по-моему, в том, что в дальнейшей, взрослой жизни, даже при самом благоприятном исходе следствия и суда, пребывание в местах заключения станет самым ярким воспоминанием, о чем можно будет рассказать близким друзьям... Мне приходилось не раз встречать вполне благопристойных граждан, когда-то в силу тех или иных обстоятельств попавших за решетку один-единственный раз, затем остепенившихся. Но и они, обремененные бытом и семейными заботами, в минуты, когда хотят показать и доказать, что не зря прожили жизнь, вдруг заводят речь о лагере, тюрьме. На серой унылой равнине одно чахлое деревце, да и то с колючками, напоминающими о проволоке вокруг зоны...
Вот и сейчас Андрис по кличке Котис (Кот) живописует своим новоявленным друзьям по несчастью быт и нравы Рижского изолятора:
— Из Даугавпилса в Ригу, в СИЗО, везли меня в знаменитом «столыпинском» вагоне — на окнах решетки, купе, как клетка, ремни, чтобы привязать, если вдруг понадобится. Одет я был неплохо, так соседи, такие же, как я, раздели, забрали что получше, а мне дали какую-то рвань. Все равно, говорят, в тюрьме раз- дероанят, так пускай нам достанется. Я не сопротивлялся, их больше, да и какая мне разница, в чем в камере сидеть или в чем выйти!.. Без одежды я, вор, не останусь никогда...
Слово «вор» он привычно, без лишнего нажима и какой-либо рисовки. Видимо, убедил себя, что это его профессия, которая и прокормит, и оденет.
— ...У вас здесь, в Минске, тюрьма не такая страшная, как у нас,— продолжал тем временем Андрис.— Когда мне в камере устроили приемку, я почти неделю голову не мог повернуть, так опухла шея. Всем телом поворачивался, как волк. И живот,— он показал на брюшной пресс,— долго болел.
— За что били, провинился в чем-либо? — спросил я, на мгновение отвлекшись от книги, которую читал. Во- обще-то многое из рассказов ребят я пропускал, как говорят, мимо ушей, научившись внутренне сосредоточиваться, концентрировать внимание на своих проблемах, и их байки и правдивые истории были как бы неизбежным звуковым фоном, чем-то вроде постоянно включенного радиоприемника. Но рассказ Андриса о боли, об избиении в изоляторах Риги вынудил меня принять участие в разговоре, будто я предвидел, что сам через некоторое время окажусь там же и увижу нравы, царящие в рижских застенках.
— Ни в чем я не успел еще провиниться,— удивленно посмотрел на меня Андрис.— Просто так принимают в камеру. А тебя что, еще не прописывали?..
— Ты рассказывай,— поторопил его Сергей,— раз начал. Про нас еще успеешь узнать, будет время.
— Ладно. Если по порядку, то вначале меня два раза заставили писать дурацкие заявления. Ну, не заставили, а посоветовали, а я и попался на удочку. Потребовал, чтобы выдали молоко за то, что сдавал кровь на анализ. Потом попросился на дискотеку... Мне сказали, что по субботам в женском корпусе бывают танцы, и надо лишь написать заявление. Пришел воспитатель, говорит: «У тебя что, с головой не все в порядке? На пляже находишься, в Юрмале?» Все смеются, конечно, купился я...
А вечером и началась приемка. Опять-таки задают дурацкие вопросы. А ты не знаешь, как надо отвечать. Скажешь неправильно — бьют по шее и животу. Лицо не трогают, чтобы воспитатель не увидел. Я не такой дурак, но отвечал плохо, неправильно. Били, пока не упал на пол. Тогда заставили выпить десять кружек воды. Она не лезет, идет назад... Началась... как это?.. Да, рвота, заблевал весь пол. Тут сказали: «Вот тряпка, будешь все время мыть в камере пол».
— Но есть же контролер, тот же воспитатель... Да и старшой в камере, такой, как я, например...
— А им до лампочки. Взрослые не лезут. Зачем им надо? Нас же больше... А начальству главное, чтобы в хате чисто было, на остальное наплевать. Вот я пол мыл, кто еще дурнее оказался, тот за парашу отвечал. И пыль вытирали, на столе порядок наводили. И еще «петухи» есть, это кого за людей не считают, кого за стол не пускают... В общем, вместо девочек они, если кто их захочет...
Командует всем в хате первый стол, те, кто сидят и спят на удобных местах, начиная от окна. Они делят передачи, забирая себе все лучшее, задают вопросы на приемке, назначают наказания.
— Молодые «паханы», что ли?
— Пусть так. Если кого выдергивают из камеры, то его место занимает кто-нибудь со второго стола. Даже «парашник» может попасть за второй стол, только «петухи» на всю жизнь остаются «петухами», куда бы они ни попали. Про них все и все знают...
— У нас такие же порядки,— махнул рукой Сергей Лопоухий.— И меня воду заставили пить, аж три кружки. Правда, бить — не били.
Рассказы Андриса о нравах Рижского изолятора взбудоражили ребят, перед ними как бы приоткрылась дверь в неведомую пока страну со своими дикими и жестокими законами. Они стояли на пороге, на границе, и сделать первые шаги по опасной земле им хотелось хоть с каким-то багажом, пусть это будут лишь тюремные легенды и далеко не безобидные шутки. Андрис оказался неплохим экскурсоводом и лектором, а его медленная речь придавала особую экзотику описанию тюремных традиций.
Запомнил и я несколько вопросов из своеобразных экзаменационных билетов, которые предлагаются каждому, кто попадает в камеру. Оговорюсь сразу, что доморощенные тюремные экзаменаторы, следуя неписаным уголовным законам, довели так называемую приемку до абсурда, потому что именно в бессмысленности и заключается смысл этой процедуры. Каждый должен быть избитым, обязан проиграть (почти как в обычном, «свободном» суде). Действует незыблемый принцип: «Я хозяин — ты дурак», и нечего тщиться доказать свою правоту или остроумие.
Вот некоторые примеры из традиционного набора вопросов «на засыпку». Кто-либо из авторитетов спрашивает, указывая на полотенце: «Что это?» Любой из знатоков клуба «Что? Где? Когда?», хоть он семи пядей во лбу, будет в результате избит, потому что полотенце по абсолютно непостижимой логике может превратиться в портянку, половую тряпку, шарф, галстук... Вернее, своя логика здесь есть: любой предложенный вариант «приемная комиссия» бракует, и «абитуриент» получает порцию болезненных ударов.
Пересчитывают ребра и после такого провокационного задания: на железную решетку, которая закрывает окно, ставится «заначенный» кем-то спичечный коробок. Новосела заставляют попасть в него плевком. Отказаться ни в коем случае нельзя, и испытуемый превращается в животное — верблюда. И тут же следует жестокое наказание: «Ты что, гад, на свободу плюешь?!»
Доведены до идиотизма и камерные «олимпиады», конкурсы, чем-то напоминающие игру в фанты. Если кому-то выпадает быть шофером, он должен до одури, до потери голоса изображать рычание автомобильного мотора, вращая перед собой, будто руль, тазик для помоев. «Шахтер» обязан забраться под шконку и метелкой, будто кайлом, несколько часов «рубить уголь». И все это сопровождается животным бессмысленным ржаньем.
Таковы нравы среди несовершеннолетних, лишь вступивших на преступную дорожку. По законам джунглей, причем более жестоким, чем у зверей, живут и правят взрослые преступники. Характеры здесь, понятно, более крутые, кулаки поувесистее, изощренная и извращенная фантазия побогаче. Уголовный мир как бы принимает эстафету от официального правосудия, перед которым обычный, рядовой гражданин бесправен и беспомощен. Унизить, подавить волю, превратить в пыль на ветру — эту задачу обе стороны решают почти одними и теми же средствами и методами, добиваясь одной и той же цели.
Чего стоит, например, один только торжественный ритуал, который обязан пройти всякий, кто согласился жить по камерным законам (попробуй не согласись!): «Я, имярек, обвиняемый по статье... свято клянусь, что не буду крысятничать (воровать) у зэков, восьмерить (уходить от вопросов, которые будут задавать первостольники), шестерить (что-либо делать для кого-нибудь, кроме первого и второго стола), козлить (рассказывать что- либо администрации). Если я нарушу эту клятву, пусть каждый меня ... («опустит»)». Любое отступление от этой догмы — и ты изгой, тебя загоняют на парашу, а то и дальше...
И все это происходило (и происходит) опять-таки с молчаливого согласия и одобрения (а нередко — и поощрения) администрации изоляторов, в частности Рижского. Принцип «разделяй и властвуй» как нельзя лучше устраивает заинтересованные стороны: рецидивисты хозяйничают в камерах, создавая видимость порядка. Персоналу же только это и нужно. Не открою секрета, если скажу, что нередко объединяет их и прямая корысть: вещи нижних слоев — «петухов», «парашников», проигравших в карты или домино, зачастую переходят к «паханам», а от них — и к стражам порядка. Как это ни дико, но случается... На любой же протест или жалобу следует безапелляционный ответ: «Здесь тюрьма, а не санаторий. Пусть преступник на себе испытает, что значит быть в шкуре потерпевшего. Наука на будущее...» Вот и вся «философия». А разговоры о перевоспитании, о правах человека, которым был и остается заключенный, все это сказки про белого бычка, фрагмент для выступления с высокой трибуны или строка в очередной отчет или рапорт. А ведь через изоляторы проходят сотни тысяч людей, многие из которых после этого чистилища так и не могут восстановиться, адаптироваться в повседневной жизни.
Мои доводы и выводы, конечно, субъективны, возможно, официальная статистика, любящая все приукрасить и пригладить, говорит об обратном. Но сошлюсь опять-таки на собственный опыт, поскольку рассказываю я только о том, с чем столкнулся сам, и о тех, с кем меня свела судьба.
ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ...
ИСПЫТАНИЕ "КИЧЕЙ"
КТО ВЗЯЛ БАСТИЛИЮ?
ХОМУТ НА ШЕЮ
В середине января 1987 года я все еще продолжал читать материалы своего уголовного дела — следователь Прошкин размахнулся широко собрал против меня все мыслимые и немыслимые улик», пытаясь любыми средствами добиться желаемого результата: «впаять» мне обещанные восемь-девять лет. В камере, таким образом, я бывал мало — уходил утром, затем меня приводили на обед, а потом снова напряженное чтение документов. Несовершеннолетние сокамерники мои оставались одни, я не мог уже защитить Юрку Сопливого, встать между готовыми к драке Сергеем и Андрисом (они как-то не поделили найденный окурок). И хотя у меня и своих забот было предостаточно, судьба ребят не была мне безразлична. Задерганные, полуголодные, они могли беспричинно взорваться, нахамить, впасть в истерику. Благо еще, что из камеры удалили Шустрого, который мог спровоцировать их на любой безрассудный поступок. В «хате» наступило временное безвластие. И когда я увидел еще одного новичка, сразу подумал, что появился мой конкурент, новый лидер. Высоченный, под два метра, атлетично сложенный, рукопожатие при знакомстве по- мужски крепкое:
— Колька!
— Что ж привело тебя к нам, наш новый друг?
— Да я, считай, на «Жигуленке» на Володарку въехал,— отшутился он.
— Во дает! — восхищенно ахнул Юрка.
— Соседка и месяца еще не покаталась на нем. Стоит во дворе — новенький, будто приглашает: «Садись дорогой, прокатись». Вот мы с Вовкой, корешем, и решили его обкатать. Я отверткой окно опустил — это раз плюнуть. Сели, завели (зажигание — провода напрямую). Выехали кое-как из Жодино и газуем на Минск. Километров полета проехали, погасли фары. Вовка говорит: «Давай исправим, в то в темноте еще врежемся в кого». Я не хотел, как-будто кто подсказывал, что останавливаться не следует. Но кореш уговорил. Остановились, копаемся, а сами ни хрена не сечем в технике (я, по правде, и водить толком не умею). Тут тормозит машина, мужики говорят: «Давайте поможем, если надо». А у нас мандраж, руки-ноги трясутся. Они и усекли, что рановато нам за руль садиться — молодые, зеленые, да и «Жигуль» явно не наш. Отвезли нас в райотдел, мы и раскололись. А что было делать — с поличным попались...
— И что, сразу арестовали? — удивился я.— Могли бы взять подписку о невыезде, родителей предупредить.
— Так я уже второй раз здесь. На мне уже висят три года, только с отсрочкой исполнения...
— Когда ж ты успел?
— Дурное дело — не хитрое. Там — грабеж и хулиганка, сейчас — угон и кража. Все свалят в кучу, получится под самую завязку.
Читая после обеда свое дело, я время от времени вспоминал этого Кольку, которому самой природой было суждено, предписано, как мне казалось, стать высококлассным спортсменом: гребцом, волейболистом, теннисистом, боксером — да из такого парня любой тренер сделает чемпиона. А вот второй раз удосужился попасть в тюрьму; видимо, уже и он выбрал дорогу.
То, что Николай далеко не случайно стал клиентом СИЗО, все мы удостоверились вечером, когда после ужина наступило традиционное время воспоминаний и разговоров о несложившихся судьбах.
— Тебя, Длинный, воспитатель еще с прошлого раза запомнил,— с неподдельным уважением сказал Юрка.
— У него память хорошая, — подтвердил Колька, сразу отозвавшись на кличку Длинный.— Он и батьку моего знает, тот тоже здесь не раз бывал...
— А где он сейчас?
— В Глубоком, на особом режиме,— чуть ли не гордо, явно рассчитывая на эффект, ответил Николай. И убедившись, что результат достигнут, добавил: — Я родился во время его второй ходки, а теперь, по-моему, у него четвертая или пятая, я со счета сбился. Лет четырнадцать сидит...
— Да...— только и смогли выдохнуть сокамерники.
— Любит он подраться, хлебом его не корми. Вот и последний раз: завалил он в Борисове в кабак, сидит, квасит, как положено,— только три месяца на воле, душу отвести хочет. А тут подгребает один кореш, с которым батька был на зоне, но не кентовал, что-то не поделили они. Вот мой батяня и полоснул его тупым столовым ножом. Хоть хреновое «перышко», но еле откачали того кореша... А мой старик снова загремел...
Рассказывал он об отце с гордостью, смакуя каждое слово, будто речь шла не о поножовщине, не о возможном убийстве, а об обычном дружеском разговоре за столом. Родитель был для него кумиром:
— Перед его арестом мы классно погуляли. «Капуста» у него всегда была, откуда — не мое дело. Берет он меня с собой, и катим мы то ли сюда, в Минск, а то поближе, в Борисов. Гудим на пару, как короли. Батька копеек не жалеет, официанты так и бегают. А если что не так, у него разговор короткий. Отметелит любого, кто полезет.
Все пацаны придвинулись поближе к нему, даже у невозмутимого Андриса заблестели глаза. А Длинный продолжал:
— Прилично поддали в кабаке, идем к гардеробу одеваться. А тут каких-то пять хмырей стоят, мешают нам. Ну, мой старик и базарит: «Отвалите, мужики, пока я добрый». Они полезли в бутылку, тут и началось... Отметелили мы троих, особенно батька старался — он злой в драке, убить может. Пока те сопли красные вытирали, мы на пяту, на вокзал тягу дали. Менты прискочили... Ну, думаю, повяжут нас... Тут товарняк идет, ход набирает. Батька прыгнул, за поручень уцепился, меня зовет. А я струсил, боюсь... Поддатый к тому же. А он на меня матом: «Прыгай, цепляйся, мать твою...» Зацепился и я... Потом он долго надо мною смеялся: «Что, сынок, наложил в штаны?..» Зато ушли от ментов.
— Колька, а как на все ваши художества смотрела мать? — вернул я его на грешную землю.— Ведь ты же несовершеннолетний, хоть и Длинный, но пацан еще.
— А они с отцом развелись,— отмахнулся он.— Вначале жил с ней, а потом, в классе седьмом я был, меня забрали дед с бабкой, отцовы родители. Пошли на пенсию и попросили отдать меня им. Батька — единственный сын, по зонам ошивается, так они хоть внука воспитать хотели. А мне это на руку, чуть что: «Вернусь к матери!» Лафа, а не жизнь была...
— Вот именно — была,— подчеркнул я.— Что же,так и решил в СИЗО да в зонах годы молодые сгубить?
— А черт его знает! Думал, после первого суда завяжу, а вот снова сорвался... Видно, проложил мне батька дорожку, по ней и пойду. Хотя, по правде говоря, страшно... Знаю, каким психованным отец стал, чуть что — за нож, в драку. Да и спивается уже быстро, отключается после двух-трех стаканов, не то, что раньше было — ведрами пил...
Николай выговорился, видимо, устал; сколько ни хорохорился, а зона его, конечно же, пугала. Умолк, глаза потухли, красивое лицо стало угрюмым, кулаки сжались... И я живо представил себе его отца в молодости, когда тот, как сегодня сын, готовился к бесконечной дороге по изоляторам, пересылкам, этапам, лагерям. Что это — наследственность, гены? Или прав итальянский судебный психиатр Ломброзо, объяснявший преступность врожденными биологическими свойствами конкретного человека, не зависящими ни от родителей, ни от окружения. Не вдаваясь в теоретические рассуждения, возьму на себя смелость утверждать, что растит, формирует малолетнего преступника все-таки среда общения, во многом — семья. Статистика по этому поводу, как обычно, весьма относительная, но и она не скрывает, что дети из семей, в которых один из родителей был ранее судим, встают на преступную стезю в десятки раз чаще, чем те, чьи отец и мать не преступали Закон. И любое общество, которое думает о своем будущем, обязано уделять неблагополучным семьям особое внимание. Если это, конечно, цивилизованное общество.
...Ребята притихли, думая каждый о своем. А я, как обычно перед отбоем, начал размеренно ходить по камере: девять шагов от двери к окну, девять — назад. Юные сокамерники вначале подшучивали надо мной, порой злились: «Что, старшой, маячишь перед глазами», потом перестали обращать на меня внимание. Мне же эти час- два ходьбы были просто необходимы. От непрерывного сидения за столом в кабинете следователя или в камере начали атрофироваться мышцы, ноги дрожали, стал дряблым брюшной пресс. Из вполне здорового, тренированного молодого человека я превращался в немощного старика. Правда, эти мои «прогулки» имели и обратную сторону — после них снова хотелось есть, а ужин, увы, уже прошел. Кстати, чувство голода (я уже писал об этом) преследует человека в СИЗО круглые сутки. Вот что входит в так называемое меню, которое не меняется в течение долгих месяцев. Утром — традиционная каша из перловки, реже — из пшена или овсянки, причем каша эта сварена на воде, без добавления хотя бы одного грамма жира. Днем, в обед, опостылевший всем прокисший рассольник из ослизлых огурцов, которые, скорее всего, выбрасывают из-за негодности овощные магазины. Как праздник, один раз в неделю эту вонючую бурду заменяют жидким гороховым супом или красным борщом. Хуже всего обстоит дело с ужином: сушеная картошка всегда недоварена, колом стоит в горле, а кусочек сгнившей рыбы только тюремное начальство и может в своих отчетах назвать селедкой... Даже при постоянном недоедании, почти дистрофии, мы зачастую выбрасывали ужин в парашу. Юношей спасала полагающаяся им добавка — утром им еще выдавали кусок белого хлеба, пятнадцать граммов масла и тридцать граммов сахара. И надо было видеть, с какой жадностью набрасывались они на эту обычную, в общем-то, пищу, как блестели их глаза, как они блаженствовали после...
Ради справедливости следует вспомнить о ларьке, в котором раз в месяц можно отоварить заработанные деньги, четыре-пять рублей. Но так получалось, что эта мизерная сумма была на счету только у меня и Валерия: ни Юрка, ни Сергей не справлялись с несложной работой, все деньги забирал, как там выражаются, «хозяин». И как ни растягивали мы приобретенный сахар, маргарин или свиной жир до очередного ларька, как ни урезали пайки, все равно несколько дней сидели на одной баланде. Но зато когда кому-либо приходила посылка, передача, один день «кутили» до отвала. Не могу забыть, как радовался единственной за все время передаче Юрка. Сжалилась над ним его тетка, та, которую он с братом обворовал. Горько было смотреть на этого маленького оборвыша, когда он со слезами на глазах разворачивал свертки, нюхал их, как звереныш, дрожащими руками отрезал тоненький ломтик сала, чтобы попробовать самому и угостить сокамерников. Как мало надо было этому забытому Богом и людьми человеку, чтобы испытать счастье, как мало добра увидел он в свои восемнадцать неполных лет!
— Дурень был, что тетку грабил,— ни к кому не обращаясь, сдавленно проговорил он.— Она ж мне и постирает, и накормит меня. И матке она помогала, и брату. Пень я, вот кто...
Никто не поднял его на смех, не стал, как обычно, подкалывать. Подавленно молчал Сергей — ему родители так и не сделали ни одной передачи, продолжая свою воспитательную линию; Валера, видимо, подсчитывал, когда придет посылка ему; Андрис вообще не думал у нас задерживаться и ни на какую «подкормку» не надеялся, Николай был новичком...
Пировали вечером все, и насколько вырос в своих глазах Юрка от сознания, что наконец-то и он может угостить, пусть не деликатесами, пусть салом, но присланным именно ему. И как нахваливали теткин гостинец ребята, даже не подозревая, что это звездный Юркин час, что он стал равным всем им, а может, даже чуточку выше их. Ему так хотелось этого...
...Во время размеренной ходьбы хорошо думается: автоматически делаю девять шагов, даже не глядя на дверь поворачиваюсь, будто маятник с заданным шагом. Но вдруг ловлю себя на мысли, что кого-то напоминаю, что кто-то где-то уже так ходил, будто заведенный, и я был тому свидетелем. Память подсказала...
...Гостиничный номер в Витебске. Поздним вечером после утомительной работы систематизирую сделанное за день, анализирую, готовлюсь к очередному допросу Адамова. Но сосредоточиться до конца не дает какой-то странный звук, исходящий сверху. Прислушиваюсь. Впечатление, что стучит метроном, только паузы между ударами не совсем одинаковые. На этажах тихо, час поздний, только этот раздражающий звук. Не выдерживаю, поднимаюсь наверх, стучу в дверь.
Немолодой мужчина с усталыми глазами виновато объясняет:
— Понимаете, недавно освободился из тюрьмы. Три года пробыл. И вот осталась проклятая привычка: не могу уснуть, пока не отсчитаю свои километр-полтора.
— Вы бы на улицу вышли, на набережную Двины.
— Отвык от природы, от свободного пространства. Боюсь машин, сторонюсь людей, опасаюсь собак, кошек, даже деревьев. А вот в стенах чувствую себя нормально... Вы уж извините, пятый месяц так маюсь.
В ту ночь я был зол на неспокойного соседа со странными, как мне показалось, привычками. Теперь же, в камере, я его хорошо понимал. Только вот удастся ли мне отвыкнуть от тюремных манер? Заключение бесследно не проходит.
Вскоре мы временно расстались с Юркой Сопливым. Ему предстояла недальняя дорога в Крупки, на место совершения преступления, а после, по всей видимости, у него не за горами был и суд. Не стану говорить за сокамерников, но мне явно не хватало его.
Оставшийся квартет был примерно равным и по физическому и по умственному развитию. Этот паритет объединял Сергея, Валерия, Андриса и Николая, но одновременно оставлял открытым вопрос: кто из них главнее, кому принадлежит пальма первенства? Подростковая, молодежная среда не может обойтись без лидера, а борьба за этот титул, за этот неофициальный пост бывает довольно острой и жестокой.
Как ни странно, первым заявил о своих правах на роль вожака «чужак» Андрис. Он то и дело, будто невзначай, цеплялся к Сергею, почему-то (по-моему, беспочвенно) предположив, что тот еврей по национальности. Лопоухий вначале отшучивался, не брал, как у нас говорят, до головы эти выпады, но Андрис переходил грань дозволенного, а это в нервозной обстановке СИЗО далеко не безопасно.
Столкновения возникали из-за найденного сигаретного бычка, из-за куска хлеба, по любому пустяковому поводу. По какой-то немыслимой логике, вернее, вопреки логике, юный латыш считал, что в постигших его бедах виноваты русские, евреи, белорусы, пришлые, как он говорил. К тому же попался он на краже в Беларуси, в пограничном с Латвией районе, и традиционную у преступников ненависть к милиции перенес на всех людей. Мне неоднократно доводилось разводить драчунов в буквальном смысле слова по углам, чтобы уберечь их от больших неприятностей — карцера, кичи. Однако вспышки неприязни повторялись, и тогда пример тюремного воспитания продемонстрировал Николай:
— Вот что, Котис, если хочешь, чтобы ребра были целыми, заткнись со своими национальными хохмачками. Тут у тебя это дело не пройдет, понял?
Андрис соизмерил свои и чужие возможности, обиженно умолк, замкнулся в себе. Сергей, обрадованный неожиданной поддержкой, уже готов был верой и правдой служить Николаю Длинному. Вот так, вроде бы случайно, определился новый предводитель юнцов. И он не замедлил вскоре продемонстрировать свои полномочия и мне, правда, маленьким штрихом, но все же...
Мы с ним сели за шашечную доску. Это был своего рода матч за звание чемпиона камеры: и я, и он играли сильнее других. К тому же Николай любил рассказывать ровесникам, что в первое свое попадание в СИЗО он вообще не проиграл ни одной партии. У меня же он не выиграл ни одной, я побеждал его вчистую, да еще запирал шашки, «устраивал сортиры». Обозленный экс-чемпион резко отодвинул доску, так что шашки посыпались на пол:
— Задницей побеждаешь! Сидишь, думаешь, а я люблю в темпе играть...
— Думать — дело всегда и всем полезное. Вот думал бы раньше, не сидел бы тут...
— А иди ты!.. Умник нашелся...
— Шашки собрать надо, раз проиграл...
— И у тебя руки не отсохнут,— с вызовом ответил Николай, явно готовый к ссоре.
Юнцы притихли, ожидая, как же отреагирую я, втайне надеясь на мой срыв и опрометчивый шаг. Пришлось их разочаровать:
— Злость — не лучший помощник. Выигрывать надо с ясной головой. Тогда и раскаиваться не придется.
Провокация сорвалась, но стрелка весов в любую минуту могла качнуться в сторону молодого наглеца — сверстникам он был явно ближе, чем я, взрослый. Окончательное выяснение отношений было не за горами. Возвратясь после обеда в камеру раньше обычного, я увидел, что все четверо моих сокамерников... за обе щеки уминают сало. Это было грубейшее нарушение взаимной договоренности, что маленькие бутерброды мы съедаем вместо ужина или вместе с ужином. Тем более, что похозяйничали они в мое отсутствие, распотрошив мою же передачу.
— Крысами стали? — вспомнил я один из пунктов камерной присяги.— Я с вами делюсь поровну, а вы крадете и пожираете... Совесть-то у вас есть?
— У меня вместо нее третья нога выросла,— как ни в чем не бывало попытался сострить Николай. Правда, поддержки не нашел, остальные были явно не в своей тарелке.
— Жрать хочется,— подал голос Сергей.— Вот мы и отрезали по чуть-чуть...
— Ничего, не победнеет... Подумаешь, одним куском меньше стало,— получил я неожиданный удар от Валерия.— Скоро мне передача будет, рассчитаюсь...
Посылки получали только мы с ним (одна убывшего Юрки не в счет), и всегда делили на всех поровну, тут же он явно выбрасывал меня из компании, обособляясь со сверстниками.
— Ладно, друзья. Посмотрим, как вы проживете с одной передачей. Только предупреждаю: замечу, что крадете у меня, пеняйте на себя. Вы уже не дети.
Испугал волк кобылу — оторвал хвост и гриву, ебрежно произнес Николай, поднимаясь во весь свой гренадерский рост и поводя широкими плечами.
— Не учили тебя еще, парень, на рожон лезешь, не церемонясь, пригрозил я.
— В папу пошел...
— Это и видно. Только крыс на зоне не очень любят, живо зубы посчитают.
— Не твое... дело,— через паузу ответил Николай, побоявшись сказать «собачье», но явно желая продолжить перепалку и утвердить себя в глазах дружков.
— Поживем — увидим,— закончил я бессмысленный спор и занялся своими делами.
Если честно, то мне было жаль голодных ребят, и, будь у меня возможность, я бы отдал каждому и даже тому же Николаю все съестные припасы. Но тут налицо была демонстрация силы, попытка подчинить себе молодых сокамерников, да и меня тоже. Недаром он выбрал себе в союзники Валерия: тот, получив посылку, мог подкормить Сергея и Андриса, а мог, при желании, и оставить без дополнительной пайки. В общем, расче был на кнут (кулаки Длинного) и пряник (еда из посылки Валерия). Я же решил, по-прежнему делить свои припасы на всех, предоставив им самим дать оценку своему поступку. Два бунтовщика стали в позу и от своей доли отказались, зная, что вскоре действительно должна быть передача Валерию. Я сократил число паек до трех.
Отделившись, распределяли полученную вскоре посылку, будто меня и не было в камере, не забыв, правда, Сергея с Андрисом. Торжествовали недолго — изголодавшись, они буквально проглотили продукты и вскоре, с завистью глотая слюну, смотрели, как я делю сало на троих.
— Слушай, старшой, я виноват,— сдался Николай.—Не держи на меня зла...
— Что, голод — не тетка?
— Понимаешь, я думал, что ты козлишь, на кума работаешь, вот и решил тебя наказать,— выкручивался А ты мужик ништяк, с тобой жить можно... Искушенный читатель может резонно заметить,что тема, о которой я сейчас говорю, далеко не нова, что проблема физического выживания теперь стоит перед миллионами малоимущих людей. Согласен, но лишь с одной существенной поправкой. Не следует забывать, что я рассказываю о людях, совершивших преступления, обозленных на окружающий мир, готовых на самый отчаянный поступок. И если тюремной, лагерной администрации дано право поощрять или наказывать с помощью передач, посылок, ларьков, это означает, что человека «перевоспитывают» через животные инстинкты, которые и так у этой категории людей зачастую являются главными. Эти же принципы использует и преступная «элита», получив полуофициальное право делить пайки, распоряжаться присланными продуктами, отбирать заработанные деньги. Попавший в заключение находится под двойным прессом — и администрации, и рецидивистов, причем обе силы стараются превратить его в послушного раба. И наиболее остро ощущают на себе это давление несовершеннолетние.
...Николай Длинный, получив от меня наглядный урок элементарной порядочности, на время притих, но чувствовалось, что спокойной жизни в камере ожидать не приходится. Он начал учить своих менее опытных «коллег» тюремному телеграфу: как вызвать кого-либо из соседней камеры на разговор, как предупредить об опасности, как оскорбить, если есть причины. Система давно отработана, совсем несложна и постичь ее может каждый. Это упрощенный вариант азбуки Морзе — перестукивание через определенной длины паузы. Как это ни странно, вынуждает пользоваться «телеграфом» сама администрация. Заключенный предельно, до абсурда, ограничен в контактах с внешним миром. Официально эти ограничения объясняются интересами следствия, сохранением его тайны. Но под этой «крышей» следователи получают право по своему усмотрению контролировать переписку с родными и близкими, оказывать давление, ставить порой далеко не правовые условия. Если же учесть, что адвокат начинает работать лишь после завершения следствия, то становится ясным, в каком вакууме находится человек, попавший в изолятор. Вот и стараются обитатели СИЗО пробить брешь в этой блокаде, нарушая режимные требования.
Мои сокамерники, с подачи Николая, начали откровенно хулиганить, пользуясь азбукой Морзе для собственного развлечения, совсем не думая о последствиях.
Я им, к сожалению, не мог помешать, ибо заканчивал чтение обвинительного заключения и большую часть дня отсутствовал в камере. И они, в конце концов, доигрались.
— Длинного забрал Рыжий на беседу,— испуганно бросился ко мне Валерий, лишь я переступил порог.
— А что стряслось?
— Мы состучались с верхней камерой, там кореша сидят, попросили закурить. А они нам спустили на простыне через окно записку: «Меняем табак на сало». Я своего сала отрезал, послали, ждем сигареты. Только забрать собрались, а тут заскакивает в хату корпусной: «Не двигаться!» Забрал табак, конец простыни к решетке привязал — и наверх. Застукал и тех. Ну, Длинного и повели к воспитателю...
— Допрыгались! Твои штучки, связался с Длинным,— не стал я утешать Валерия Лиса.— Ищешь приключений на свою шкуру!..
— Контролеры с дубинками были,— уточнил детали Андрис.— Злые как собаки...
— Черт с вами! — не сдержался я.— Не хотели слушать меня, получайте, что заслужили.
В эти мгновения, признаюсь, я больше думал о себе, чем о них. Как-никак, я числился старшим в камере, и любой беспорядок мог отразиться и на моей судьбе, причастен я к нарушению или нет. Здесь разборы бывали простыми...
Воспитатель привел в камеру Николая, зло ткнул пальцем в грудь Лису:
— Пойдем, красавец, со мной!
— Ну, как? Пронесло? — с опаской поинтересовался Андрис.
— Как бы не так! — Николай задрал рубаху и показал длинный красный рубец на спине.— Дубины попробовал...— И он сморщился от боли.
— Значит, заслужил! — Я не думал церемониться с ним: и пацанов втянул в авантюру, да и мне, судя по всему, нагадил.
— Рыжий воспитывать начал, я его и послал на три буквы. Он ошалел — и ко мне. Я хотел отмахнуться, злость накатила, а тут казак сзади палкой как перетянет... Я и сел на пол. Закрутился, как пескарь на сковороде...
Скажи спасибо, что у Рыжего нервы крепкие,—добавил я.— Лезешь в бутылку и других за собою тащишь...
Через полчаса вернулся Валерий: глаза заплаканные, руки дрожат, все время шмыгает носом. Увели Сергея.
— Чуть уломал, чтобы на кичу не садил,— размазывая по лицу слезы, выдавил из себя Лис.
— Не распускай нюни, пацан,— пренебрежительно бросил Длинный.— Я вот после дубины — и то ничего, задницу ему лизать не буду.
— Ага, пять дней в холоде и на воде... На кой хрен мне это надо! Умный в гору не пойдет...
— Ничего, у тебя еще все впереди! — У меня в эти минуты не было никакого сострадания к Валерию. Он недаром носил свою кличку — заварив кашу, пытался выкрутиться, разжалобить воспитателя, представить себя без вины виноватым.
— ...Спрашивал, кто предложил табак достать. Я сказал, что не знаю. Увидел простыню — и все...— Сергей не чувствовал за собой вины и говорил, по-видимому, правду.
— Ты ни при чем, Котис тоже, конечно, не виноват. Что, нам двоим отвечать? — бросился к нему Лис.
— Заткнись! — не выдержал я.— Что заслужил, то и получай.
— Я сказал только, что это не моя работа,— ободренный поддержкой, впервые проявил характер Сергей.— А вообще-то, на окно полез ты...
— Козлишь, Лопоухий! Смотри!..
Наконец вызвали и меня. Воспитатель понимал, что совладать с такой пестрой публикой нелегко, и поэтому читать мне мораль не стал.
— Длинного Николая давно пора в карцер,— подытожил он.— Весь в отца пошел, нянькаться с ним я больше не намерен. Дружка его, Валерия, лишу передачи и ларька, чтобы на дальнейшее наука была.
— Если можно, гражданин воспитатель, накажите по-другому. Они плюс ко всему еще от голода буквально звереют. Только две посылки на камеру — моя и его. Все-таки жалко их, возраст такой...
— Если до них ничего не доходит через голову, дойдет через желудок! — старший лейтенант не собирался идти на уступки, но потом смягчился и добавил: — Ладно, подумаю...
Николая забрали от нас к вечеру. Больше наши пути не пересекались. Слышал только, что вскоре его осудили на три года лишений свободы и отбывал он наказание во взрослой колонии в Орше, так как к тому времени ему уже исполнилось восемнадцать лет. Вот так он начал сознательную жизнь, повторяя почти в точности путь своего отца.
— Свято место пусто не бывает,— невесело пошутил я, увидев в проеме двери сначала матрац, а затем и новобранца.
— Здравствуйте,— несмело переступил он порог и застыл в нерешительности, будто ожидая разрешения хозяев пройти дальше.
— Привет, залетный,— опередил всех Валерий, ушедший вчера от справедливого наказания и потому пребывавший в отличном настроении.— Проходи, гостем будешь.
Однако новичок топтался на месте, испуганно и жидающе поглядывал на меня: видимо, его предупредили, что главным в камере является старший по возрасту.
— Занимай вон то место,— указал я на койку, где еще вчера располагался Николай.— А Валера расскажет тебе, как надо правильно застилать...
— С большим удовольствием.— Лис, ухмыляясь гримасничая, пошел навстречу новичку.— И приемку устроим как положено.
— Опять за свое? — строго оборвал я его.— Парашу захотел драить или все-таки на кичу решил попасть? Короткая у тебя память, как я вижу.
— Я — что, я — ничего,— умерил он пыл,— уже пошутить нельзя.
Подросток благодарно кивнул мне головой и протиснулся к своему месту. Лис, как бывалый армейский старшина, быстро и сноровисто заправил койку, затем свернул постель и потребовал, чтобы новичок повторил процедуру. Тот оказался смышленым учеником, и через минуту на одеяле не было ни одной морщинки, подушка располагалась в изголовье, а рядом лежало сложенное треугольником полотенце.
— Молодец,— похвалил я паренька, который сраз же отчаянно покраснел. Его щек еще никогда не касалас бритва, васильковые глаза смотрели испуганно, толе детские губы готовы были то расплыться в улыбке, то скривиться от обиды. «Как же ты попал к нам, херувимчик?» — подумалось мне.
Расспросами занялся бывший в приподнятом настроении Лис. На этот раз он решил сыграть роль следователя.
— Имя? Кличка?
— Зовут Олегом, а клички нет...
— Ничего, придумаем. Откуда родом?
— Местный я, из Серебрянки.
— Сколько лет?
— Пятнадцать...
— Да он же еще малолетка, братва,- Валерий к сокамерникам.— Будет кого уму-разуму учить.
— Брось выпендриваться,— снова придержал я Лиса.— Воспитатель обещал взяться за тебя самого, забыл разве?
Напоминание подействовало, самозваный наставник притих, а Олег начал, постоянно вздыхая, рассказывать о своих приключениях:
— На краже я попался. Одну квартиру со Славкой, дружком, обчистили — все шито-крыто. Полезли во вторую — тут нас и накрыли.. Сутки в райотделе, на Велосипедном переулке, продержали и привезли сюда... А все из-за кольца...
— Какого кольца?
Да обручального, из первой квартиры. Во второй ничего не успели взять, повязали нас. А шмотки, что в первый раз украли, у меня дома были. Следователь говорит: если отдашь все вещи — арестовывать не буду. Приехали домой, я все отдал — что на антресолях спрятал и в кладовке. А кольцо найти не могу. От испуга забыл, что младшему брату отдал, а тот как раз в школе... Вернулись в милицию, мать с нами поехала. Она плачет, я вместе с ней...
— Что ж правду не сказал, где кольцо?..
— Да я ж говорю: забыл от страха. А следователь отстает: какие еще квартиры грабил, спрашивает, кто напарник. А я ж только второй раз залез, и то попался А следователь не верит, главное, кольца нет... Повез к прокурору, а я и там вспомнить не могу. Отбило память... Вот и доставили сюда...
— Вызовут на допрос, расскажи, как все было: и про и про брата. Должны поверить,— успокоил я Олега.— Если, конечно, не врешь...
— Вот честное слово! — Он опять залился краской и чуть слышно добавил: — Маму жалко.
Наверное, это непедагогично, но мне хотелось снять ремень (если бы его не забрали у меня) и выпороть Олега, чтобы запомнил на всю жизнь. Юный воришка балансировал на краю пропасти, стихия вседозволенности еще не успела захлестнуть его. Хорошо было (в первую очередь — для него самого), что попался он в самом начале опасного пути. И тут очень важно, чтобы следствие и возможный суд не перегнули палку, не толкнули неоперившегося юнца в компанию к таким, как наши недавние сокамерники Шустрый и Длинный. Их уроки не проходят бесследно...
Кстати, как ни пытались старшие ребята показать себя все познавшими и все постигшими, как бы далеко ни переступили за черту Закона, они довольно часто, помимо своей воли, вспоминали о школе, о том, как проходили уроки, об одноклассниках. Приход Олега дал новый толчок этим воспоминаниям.
Как-то за работой (мы продолжали возиться с заготовками детских игрушек) Олег спросил меня:
— Старшой, а если меня к маю выпустят отсюда, экзамены можно будет сдавать, допустят?
— Трудно сказать,— не нашел я точного ответа.— Все-таки ты пропустишь много, месяца четыре...
— Это ерунда! Мой дружок месяц в школу не ходил, а за четверть все равно оценки выставили...
— Месяц — это что, вот у нас в школе один кореш три месяца прогулял, в бегах был. Пока нашли, то да сё... Думал, на второй год оставят, а его запросто перевели... Так что не боись, пацан,— покровительно похлопал Олега по плечу Валерий.
— В параллельном классе у нас две девицы учились,— вспомнил и Сергей.— Так они неизвестно где время проводили. Скорее всего, с мужиками... Если и умели что сосчитать, так сколько поддача стоит... А в астрономии, химии, географии — что свинья в апельсинах. И ничего, из школы не выгоняли.
— И училки разные бывают,— свернул все-таки на свою любимую стезю Валерий Лис.— Мы у одной из журнала письмо сперли, что она хахалю писала. Всем классом потом читали... Опытная бабенка, мы против нее сопляки.
— А в нашу классную почти все пацаны влюбились. Письма ей писали, записки. Она красивая была,— мечтательно проговорил Сергей и неожиданно покраснел.
А я на русский язык и литературу неделю ходить не мог.— Олег начал было рассказывать, потом умолк,взглянул на старших, будто оценивая, стоит ли говорить, не поднимут ли на смех. Все-таки решился: — Пришел я к ней, училке по русскому, домой. Книжку надо было отдать. Бабка ее открыла дверь, впустила меня, а сама на кухню пошла. Стою в прихожей, никто ко мне не выходит. Открыл дверь в комнату, а она голая перед зеркалом, в одних плавках. Я назад, к двери. А она халат накинула, выходит как ни в чем не бывало. Забрала книжку, улыбается... Я до сих пор как погляжу на нее — краснеть начинаю.
— Вот дурак! — Валерий сел на любимого конька.— Надо было остаться в комнате, не теряться. Я бы на твоем месте...
— Молчи уж, герой-любовник,— осадил я Лиса.— Вот за такие подвиги и сидишь здесь, а что дальше будет — не знаешь. И себе жизнь искалечил, и девчонке...
— Плевать я на нее хотел! Не надо было идти с нами... А сидеть, конечно, не хочется. С голодухи подохнуть можно.
— Да, теперь бы пирожок с повидлом в буфете купить, а потом сигарету с фильтром,— размечтался Сергей.
— С табаком вопросов не было,— согласился Лис.— В туалете у корешей стрельнуть можно было, если своих нет. А вообще-то у чувих всегда сигареты были. Директриса гоняет их, а все равно дым столбом...
Ребята, исключая Андриса, были горожанами, и их школы, в общем-то, мало чем отличались,— что в Минске, что в Борисове. Ему же запомнилось другое:
— Мы на переменах в сады лазили. Рядом хутор был, а там яблоки, груши, сливы. Набьешь карманы и рубашку, так что над ремнем живот вырастет, а потом выбираешь, что повкуснее... Сейчас бы пару яблочек съесть... А домой придешь — молоко свежее, сыр... Красота!..
— Что ж не остался дома, если так нравится?..
—Черт попутал.— Андрис вообще-то не очень распространялся о своих похождениях. Мы только и знали, что он обокрал магазин на какой-то небольшой белорусской станции, где и попался.— А дома у меня хорошо, свободно.— Он мечтательно прикрыл глаза и начал размеренно перечислять: — Дом у нас огромный, вокруг постройки — сараи, погреба, навесы. Хозяйство большое: две коровы, овцы, свиньи и поросята, куры, гуси. Рядом речка, лес. Земли почти гектар своей... До соседнего хутора — метров триста, никто не мешает, никто в окна не заглядывает... Сад отличный...
— А за чужими яблоками лазил,— не утерпел и подначил Сергей.
— Чужие вкуснее,— отшутился Андрис.— А захочешь своего — открывай окно и рви Любое, что на тебя смотрит...
Непривычно было видеть всегда чуть ироничного высокомерного юного латыша таким размягченным и латыша сентиментальным. Видимо, и его вконец замучила наша беспросветная камерная жизнь, и ему опостылели вонючая баланда и гнилая селедка, хотя вначале он держался довольно стойко, терпеливо перенося тюремные невзгоды. Его, да и всех нас, можно было понять. Наступил февраль, мороз доходил до минус двадцати-тридцати градусов, прогулки из краткосрочного удовольствия превратились в сущую муку — ребята мерзли в подбитой ветром тюремной униформе, стоптанные ботинки не грели... Сбившись в жалкую кучку, мои соседи, не найдя ни одного окурка, потихоньку матерились, ожидая, пока разрешат возвратиться в камеру. Тут, в хате, оттесняя друг друга, старались занять место у батареи отопления, согревая то застывшую спину, то оледеневшие ноги. А потом, хотя до ужина еще было далеко, с вожделением поглядывали на кормушку, напряженно ожидая, когда откроется заветное окошко и там появится хоть какая-то, но еда... И если не было доппайка — мизерного кусочка сала с ломтиком черствого хлеба, камера погружалась в угрюмое молчание. И не дай Бог кому-нибудь даже нечаянно затронуть в чьей-то душе больную струну, косо осмотреть на соседа... Сокамерники вспыхивали, как орох, вспоминались мнимые и действительные обиды, ыпались грязные оскорбления, яростно сжимались кулаки. И мне стоило немалого труда, а порой и просто физической силы, чтобы не,дать скандалу перерасти в драку.
После отбоя, забравшись на койки, они по инерции продолжали переругиваться, а затем, стене, чтобы не мешал яркий свет, потихоньку засыпали. Трудные дети, чьи-то будущие мужья и отцы...
Наутро они хмурились, угрюмо молчали, искоса поглядывая на вчерашних обичиков.
Однажды, желая разрядить обстановку, я решил рассказать им школьный анекдот. Компания оживилась:
— Давай, старшой. Убьем время до завтрака.
«Учительница истории спрашивает в седьмом классе:
— Дети, кто взял Бастилию?
Все молчат, только хулиган Вовочка, преданно глядя в глаза, клянется:
— Марьиванна, честное слово, я не брал!
Раздосадованная учительница идет к завучу и возмущается:
— Что за странные дети! Спрашиваю, кто взял Бастилию, а ответа получить не могу.
Завуч безнадежно машет рукой:
— Это же 7-й «Б». Они никогда не признаются.
В это время в кабинет завуча входит отец Вовочки, вызванный за старые грехи сына.
— Ваш сын не брал Бастилию? — спрашивает завуч.
— Не знаю. Он если что и украдет, так никогда не скажет, оболтус.
Молодая учительница хватается за голову, а завуч ее успокаивает:
— Ничего, Марья Ивановна, я поеду в РОНО и выпишу новую Бастилию.
Марья Ивановна ищет аптечку с валерьянкой, а завуч звонит заведующему РОНО:
— Николай Николаевич! Выпишите нам новую Бастилию, а то наша пропала.
— Вечно у вас что-нибудь случается... Ладно, сейчас спрошу у методиста, есть ли у нас на складе.
Через минуту звонит:
— Сейчас Бастилий нет, как только получим, пришлем вам».
Бывшие школьники слушали внимательно, только вот смеха я так и не услышал. Пришлось повторить вопрос:
— Так кто же взял Бастилию?
— Может, все-таки Вовочка? — несмело переспросил восьмиклассник Олег.
— А что это такое? — пожал плечами Валера.
— По-моему, это город или местность,— ближе всех подошел к истине Сергей.
— Я вообще про это не слышал,— отмахнулся Андрис.
— Вот так вы и учились в школе, дети мои,— покачал я головой.— Не знаете, что это знаменитая тюрьма- крепость в Париже, которую разрушили восставшие парижане... Да, не тому вы учились...
— А наш мастер в училище тоже повторял,— попытался выкрутиться Валерий,— «дети, мой совет, всему учитесь: водку пить вы не страшитесь...»
И компания весело расхохоталась — эта дурацкая присказка была им ближе.
...Воспитатель изолятора, как мне кажется, мог бы без труда найти себе работу на киностудии. Есть, насколько я знаю, такая должность: ассистент режиссера по подбору типажей. И наш старший лейтенант направлял в камеру несовершеннолетних преступников, не похожих друг на друга как по характеру, так и внешне, создавая таким образом обобщенный портрет молодого зэка. Вот и новосел Василь резко отличался от остальных. Приземистый, с длинными мускулистыми руками, он выглядел старше своих семнадцати лет. Обветренное лицо, на котором выделялись толстые нос и губы, бесхитростные глаза, мозолистые ладони — все выдавало в нем крестьянского парня. А стоило ему произнести несколько слов, как сомнения и вовсе отпадали — «вясковец», причем, скорее всего, Юркин земляк, уж больно похожей была их речь. Так и оказалось — тракторист из Крупского района.
И его не обошла всеобщая беда — пьянство. По пьянке и преступление совершил. Вместе с двумя дружками ехал на санях по лесу и...
... — Едет нам навстречу лесник. Дорога в лесу узкая, зацепились передками. Он на нас матом, мы — на него. Все пьяные, и он тоже. Смотрим, у него бензопила. Давай, решили, заберем, пригодится в хозяйстве, может, поменяем на самогон, добавим. Он, конечно, не отдает. Ну, я ему и заехал в лоб ручкой от той пилы. Разбил голову, кровь течет. Он очухался, за шапку — и в лес. Я еще его кожух прихватил, а Колька спьяну коня распряг и хомут забрал. На что он ему — и сам не знает... Мы перед тем пять бутылок чернил выпили...
— Партизаны,— сострил Сергей.
— Лесные братья,— уточнил Андрис.
— Бандиты! — поставил точку я.— Так же и убить человека можно...
— Холера его помнит, что я делал... Зла на лесника у нас не было, попался просто на дороге...
— Лесник-то хоть не очень пострадал?
— Что ему сделается... Не успели мы в деревню приехать, а нас уже ищут. Он где-то машину достал, собрал мужиков и давай хаты обходить. А что нас искать — вся деревня видела, что мы вернулись веселые, как паны. Дали нам хорошо по ребрам и отпустили. Набыток наш — хомут, кожух, пилу — забрали.
— Повезло еще...
— Это как сказать... Чего ж я тут? Лесник в милицию пожаловался, оттуда приехали и меня с Колькой в район повезли. А Рыгора отпустили под расписку, малой еще да и бился меньше, чем мы...
— Да, хорошего мало...
— Конечно,— Василь по-мужицки тяжело вздохнул.— Одна надежда, что председатель колхоза выручит...
— А он-то при чем?
— Наш председатель — мужик в районе известный. Если попросит суд, чтоб условно дали, те и послушают его... Правление характеристику мне хорошую написало...
— За что это тебе такая характеристика? Ты же пьяный был...
— Так у нас все пьют, а самогон почти в каждой хате...
— Наверное, и председатель такой же?
— Не, он за самогон всем шею мылит, не дай Бог, увидит, что гонят... Его и сам участковый боится...
— У вас что, в деревне и участковый есть?
— А как же. Деревня у нас большая, дворов двести, центр колхоза,— Василь даже плечи расправил, показывая, что он не из какой-нибудь глухомани.— И клуб есть, все, как у людей...
— Как у людей,— передразнил его Валерий.— Сидишь там в навозе по уши, по лесу с дубиной шастаешь...
— Успокойся, шпана борисовская,— приструнил я его.— Опять хвост поднял, забыл, как недавно ужом вертелся?
— Я — что, я — ничего,— стушевался Лис.
— А участковый у нас хороший,— почему-то решил продолжить тему Василь.— Сам чарку любит, так что мы его особенно не боимся. Свой мужик, родня его там. Только говорят, что выгонят скоро. Штрафов мало за самогон выписывает и сам пьет. Я ж говорю, он председателя боится...
— Значит, тебе на председателя и надеяться нечего...
— Не, он мужик справедливый,— продолжал гнуть свою линию Василь.— Я ж работать умею, он у меня права тракториста еще не забирал, как у других...
— Постой! — перебил его Сергей.— При чем здесь права?
— А при том! Он как пьяного на работе накроет, так сразу права отбирает, и на три месяца на коровник гной убирать... Я еще ни разу не попадался...
— Зато сразу сюда, в СИЗО,— снова не сдержался Валерий.
— Конь на четырех ногах — и то спотыкается, а я же с пьяных глаз,— продолжал стоять на своем Василь.— Матка обещала председателя попросить, чтобы заступился, чтобы на поруки взяли...
— И от лесника многое зависит,— пришел я ему на помощь.— Если простит, не будет настаивать, чтобы непременно срок дали, может, и обойдется все...
— Я знаю. Батька с маткой ходили к нему, просили. Он вроде мужик неплохой.
Все у него были неплохими мужиками: и председатель, и участковый милиционер, и пострадавший от него же лесник. Да и он, пользуясь его терминологией, был, по сути дела, неплохим хлопцем. Во всяком случае, таким, как тысячи его сельских сверстников. Восемь классов школы, сельское ПТУ, права тракториста, работа в поле и, к сожалению, пьянка...
— Мы то с дружками выпьем, то со взрослыми с получки,— как-то буднично рассказывал Василь.— На танцах, конечно, на праздники». Не за чужие ж гроши, за свои. Я зимой, как сейчас, рублей сто получаю, а летом — по двести-триста. На бутылку хватает, еще и матке отдакх А батька — тот до восьмисот на комбайне выгоняет...
— Я за такие бабки и сам бы поишачил,— Лис не мог остаться равнодушным при разговоре о больших по тем временам деньгах.
— Так приезжай к нам,— простодушно пригласил Василь.— Ты говорил, что строитель, плиточник. Работы для тебя море».
— Нет, я лучше шабашить пойду,— отмахнулся Валерий.— Если, конечно, выпустят отсюда...
— Размечтался! — подколол его Сергей.— Сам сказал, что паровозом идешь по 117-й.
— А иди ты, Лопоухий! — Напоминание о 117-й статье (за изнасилование) сразу же сбило с Валерия спесь, которая так и сквозила в каждой его издевке над простаком Василем.
Василь же, инстинктивно почувствовав, что сокамерники не приняли его в свое блатное братство (даже самый младший из них, Олег, и тот не упускал случая поиздеваться над ним), стал искать защиты у меня. Причем делал это настолько неуклюже, что дистанция между ним и старожилами камеры еще больше увеличилась. У него была неприятная (тем более — для СИЗО) привычка: подслушивать, о чем секретничали другие и затем рассказывать (по сути дела, доносить) мне. Как мне кажется, делал он это по двум причинам. Во-первых, воспитатель сказал ему, что он должен выполнять мои требования, что я старший в камере. Значит, со мной выгодно дружить, я, хоть и сам подневольный, но все- таки начальник, вроде бы тот же председатель колхоза или бригадир, пусть и с меньшими правами. Заслужив мое доверие, он надеялся защитить себя и через мое посредничество выглядеть хорошим в глазах Рыжего. Вторая цель, которую преследовал Василь, была не столь явной, но все-таки очевидной: он хотел хотя бы как-то насолить этим пижонам-горожавам, которые открыто издевались над его корявой речью (смесь белорусского с русским), замедленной реакцией на подколки, неказистой внешностью. А поскольку подлизывался он ко мне по-деревенски прямолинейно (в тесной камере все на виду), то и заслужил самую обидную кличку — Шакал.
— Чего это они меня так? — пожаловался мне.
— Сам виноват,— не стал его жалеть и я.— Пойми: твои доносы на ребят мне абсолютно не нужны, я их и без тебя изучил неплохо. И запомни самое главное — за это в тюрьме и лагере бьют беспощадно. Неужели ты там, на воле,— я показал на зарешеченное окно,— тоже продавал дружков? Пил вместе, а после бегал к председателю или участковому закладывать?..
— Не, ты что, старшой! — Василь даже побледнел от обиды.— Чтоб я своих продавал?.. Не в жисть...
— Смотри, тебе же хуже будет! — нагнал я на него страху, но потом, увидев, что он совсем растерялся, перевел разговор на более близкую и приятную для него тему: — Расскажи, браток, лучше, с чем без тебя зимуют родители твои, ты же все-таки опора семьи...
— Батька и мать без меня со всем управятся. Старый у меня комбайнер, механизатор, матка на ферме работает дояркой. Одного кабанчика под Новый год закололи, еще пара подсвинков осталась. Корова есть, телушка... Не пропадут, а вот я тут загнуться могу... Во дурень, так дурень...
— Наконец-то сам признался,— услышав его последние слова, рассмеялся Сергей Лопоухий. Его дружно поддержала вся камера; глядя на ребят, разулыбался и сам Василь — на этот раз в шутке не было ничего обидного.
...Вскоре, пробыв десять дней на этапе, вернулся Юрка. Мне показалось, что он посвежел, поправился, даже повзрослел за этот короткий срок. Наверное, повлияла смена обстановки, а может, были и другие причины. Как бы ни относились к нему сокамерники, но все они уже считали его своим, и поэтому расспросам не было конца. Почувствовав себя в центре внимания, Юрка чуть заважничал. Застлав койку, он небрежно бросил на одеяло целлофановый пакет.
— Ого, кусковой сахар! — Валера Лис на правах завхоза высыпал содержимое на стол.— Откуда?
— Тетка передала. Там еще кое-что было... Слюнки аж потекли.
— Что ж ты не довез? — обиделся Сергей.
— В Борисове, в КПЗ, хлопцы голодные сидели, как увидели передачу, все размели сразу. И брат мой не помог.
— А ты что, с братом виделся?
— Нас вместе и в Крупки, и в Борисов возили. Дома, в Крупках, в КПЗ вдвоем только были, больше никого. Так мы гвоздем дверь открыли, вышли, пошлялись по улицам. Могли совсем смыться, только куда? Холодно, мороз под двадцать. Подумали-подумали и вернулись в КПЗ. Никто и не заметил...
— Врешь, наверное...
— Вот истинный Бог,— Юрка даже попробовал перекреститься.— Было б лето, тогда другое дело... А в Борисове человек пять нас сидело. Один мужик чай принес, у другого сигареты были. Как люди сидели... А когда везли назад, сюда, то думал, что околею. В «воронке» холодно, колочусь, как осина... Так мы все сбились в кучу, как овечки, греемся один около другого... Шофер и конвойные смеются, они в кожухах, да и в кабине печка греет, им что... А мы чуть концы не отдали.
— Ладно, живой остался — и то хорошо,— похлопал его по плечу Валера Лис.— Расскажи, как там мой Борисов выглядит?
— Это я по Крупкам погулял, а Борисов только через стекло и решетку видел,— разочаровал его Юрка.— И то окна в машине замерзли, ногтем лед отколупнешь, смотришь в дырочку: дети на санках катаются, люди ходят... Да и везли нас быстро.Суета в камере немного улеглась, и только тогда смог доступиться до своего подопечного я:
— Какие новости привез? Что следователь говорит? (Юрка совершил кражи в Крупском районе и в Борисове, его и возили на места преступлений.)
— То же самое: отправят в «Новинки», на экспертизу...
— Оно и без экспертизы видно, что ты дурной,— Лис, по-видимому, обиделся, что Юрка не смог ничего рассказать о его родном городе и поэтому вспомнил свой старый репертуар.
— Дурной так дурной,— Юрка отнесся к выпаду совершенно безразлично,— быстрее выпустят. Вы лучше поглядите, что у меня еще есть...
Он начал выворачивать карманы, доставая оттуда сломанные сигареты и папиросы:
— Когда переодевали, успел стрельнуть у мужиков. Всех обшмонали, а меня пушкарь сам подтолкнул: «Иди, малой, не путайся под ногами». Вот я и побогател...
— За это ты молодец, Юрка! — Сергей готов был расцеловать сокамерника; трудно было поверить, что это он недавно называл его Сопливым, злился, что тот не смог принести еду.— Будем корешить!
— Только две самокрутки! — предупредил я.— Чтобы дыма не было, а то влипнете, шпана...
По заранее разработанному сценарию были распределены роли: Лис курил первым — он полез под шконку, Сергей стал у двери, закрывая глазок, рядом с ним пристроился Василь, Олег и Андрис взяли полотенца и начали разгонять дым, Юрку в знак благодарности на этот раз освободили от работы.
Минуты блаженства кончились, когда пришла очередь курить Андрису. Едва он забрался под шконку, как загремел дверной засов. Неудачливый курильщик пробкой вылетел назад, ребята мгновенно поправили смятые одеяла, а Василь (он был дежурным) приготовился отдать рапорт...
Внимательно оглядев подопечных, воспитатель повел носом:
— Почему пахнет дымом?
— Дежурный, я тебя спрашиваю!
Василь молчал, но тут ему пришел на выручку Валера Лис:
— Это Сопливый с этапа приехал весь прокуренный...
— Опять ты за свое? Сколько раз я говорил, что клички надо забыть! Не доходят до тебя слова, придется другие меры принимать,— он не скрывал своей неприязни к Валерию и, пожалуй, имел основания — неприятностей тот доставлял больше всех. Секунду поразмыслив, принял решение:
— Дежурному и тебе,— он указал на Лиса,— выучить наизусть раздел из Правил. Не можете вспомнить, кто курил, так потренируйте память, тра проверю. Понятно?
— Понятно!
— Вот и хорошо,— Рыжий еще раз прошелся по камере от двери до окна, проверил, хорошо ли заправлены койки, остановился возле меня:
— Прошу ко мне.
В кабинете воспитателя было тепло и уютно. Телевизор, книжный шкаф, стол с бумагами — все эти обычные предметы настолько отличались от скудной обстановки камеры, что мне показалось, будто я нахожусь в другом мире, хотя это было одно и то же здание на улице Володарского.
— Мне кажется,— прервал старший лейтенант мои размышления,— что вы не совсем правильно понимаете ту роль, которую вам отвела администрация. Мы в какой- то мере помогаем вам, избавляя от соседства рецидивистов, но одновременно требуем, чтобы в камере для несовершеннолетних поддерживался самый строгий порядок. Нет, я не даю вам права применять силу (у меня, по сути дела, тоже такого права нет), тем более, что вы — такой же подследственный, как и они... Но ваши соседи — далеко не дошколята, им по семнадцать-восемнадцать лет, за спиной у каждого преступление, а то и не одно. Если их не смогли воспитать и перевоспитать семья и школа, то мы за те недолгие месяцы, что они находятся здесь, наставить на путь истинный, конечно, не в силах. Дисциплина — вот что им требуется, иначе они на голову сядут. Впрочем, вы уже сами могли убедиться в этом — ножами вам угрожали, не так ли?..
— В принципе я с вами согласен... Но перегнуть палку тоже опасно, согласитесь. Они сейчас настолько растеряны, обозлены на себя и на весь белый свет, что любая несправедливость здесь, в изоляторе, может навсегда толкнуть их в уголовный мир. Если уж наказывать, то конкретного виновника, а не всех вместе, огульная кара лишь сбивает их в стаю с ее волчьими за нами..
— Попробуй разберись со всеми, их больше сотни, а я один,— не стал спорить воспитатель.— Здесь, как на вокзале, публика меняется каждый день, где тут распознаешь, кто чем дышит. Так что дисциплина, как в армии, все-таки лучшее средство. Держите их в ежовых рукавицах,— напутствовал он меня и добавил: — Лично к вам у меня претензий нет.
Подростки явно ожидали моего возвращения и, едва я переступил порог, уставились на меня. Я же, будто не замечая их беспокойства и волнения, поправил и без того аккуратную постель, взял книгу и уселся прямо под лампочкой.
— Не тяни, старшой. Что там Рыжий говорил? — не выдержали нервы у Лиса.
— Сказал, чтобы я вас в кулаке держал. Особенно тебя.
— Разогнался... Много хочет, да мало получит!
— Это ты сейчас смелый, а при нем молчишь, только хвостом виляешь...
— Кто, я?!
— А кто же? Дрожишь, как осиновый лист...
— А пошел ты ... !
Иногда матерщина оставалась безнаказанной — на каждый чих не наздравствуешься, но сейчас я решил ее решительно пресечь и покарать виновника по всей строгости.
Андрис, выполни приговор: десять щелбанов! Да по первому разряду.
Долго упрашивать «палача» не пришлось. Придержи я стриженую голову Лиса, Андрис с нескрываемым удовольствием приступил к экзекуции.
— Раз,— начал отсчитывать удары Сергей.— Два... три... четыре...
— Ты не очень старайся,— взмолился Валерий.
— По высшему разряду. Как сказано,— «палач» вошел во вкус.
— Пять, шесть, семь, восемь...
— Попадешься ты мне, будет и на моей улице праздник..;
— А теперь на. закуску,— Андрис сам перевел дух, старательно загнул средний палец правой руки, чтобы получить большой рычаг, и будто выстрелил в лоб провинившемуся. Звук получился громким, как от удара по пустому кувшину, и все расхохотались.
Потирая покрасневший лоб, Лис хмуро поглядывал в мою сторону, но открыто высказывать недовольство не решался: сам подписывал «конвенцию», сам уже не раз выполнял приговор. Так что винить можно было только себя. Правда, теперь худо придется тому, кто следующим нарушит договор, грубо выругается. Тут уж Валерий не пощадит, в этом не стоит сомневаться. Может, мы придумали (вернее, я) не совсем безобидную забаву, но воспитательный эффект был налицо — мат в камере прекращался на неделю-две. И то хорошо.
Лису и Василю предстояла еще одна процедура, гораздо более неприятная для них, чем щелчки по лбу. Воспитатель обязал их выучить наизусть разделы из Правил содержания заключенных в СИЗО. Не выполнить приказ было нельзя, учить было лень, да и перед ровесниками стыдно, особенно Валерию. Но выхода не было, и Василь Шакал начал медленно, почти по слогам, читать:
«Заключенные обязаны:
Точно соблюдать установленный в следственном изоляторе порядок, выполнять требования администрации изолятора. Быть вежливыми с работниками изолятора и друг с другом. Вставать при входе в камеру лиц начальствующего состава и контролеров и именовать их: «гражданин начальник», «гражданин контролер».
При следовании в помещении и по территории изолятора не разговаривать, не курить и держать руки в положении «сзади».
Бережно относиться к инвентарю, оборудованию и другому имуществу следственного изолятора.
Соблюдать санитарно-гигиенические правила, иметь опрятный внешний вид, постоянно поддерживать чистоту в камере. Ложиться спать и вставать в установленное время. После подъема производить заправку своих коек. Мыться в бане или под душем четыре раза в месяц в установленные администрацией изолятора дни. Соблюдать правила во время прогулки и чистоту на прогулочных дворах.
По назначению администрации изолятора поочередно нести дежурство по камере».
Он перевел дух, облизал губы и продолжил:
«Дежурный по камере обязан:
следить за сохранностью камерного инвентаря, оборудования и другого имущества;
следить за соблюдением чистоты в камере;
подметать и мыть полы;
выносить, чистить и дезинфицировать парашу, производить уборку в туалете после оправки заключенного в камере;
подметать прогулочный двор и опоражнивать урну по окончании прогулки заключенных камеры;
при входе в камеру сотрудников изолятора докладывать о количестве заключенных, содержащихся в ней».
Чтение давалось Василю с трудом, он делал паузы, несколько раз повторяя непривычные, незнакомые слова. Пацаны то и дело поправляли его, довольно зло вышучивали его произношение, но в общем-то держали себя в рамках дозволенного. Они понимали, что от такой участи не застрахован никто из них...
— Язык сломаешь,— пожаловался Василь.— Я после школы столько много никогда не читал...
— Это и видно,— Валерий бесцеремонно отодвинул его с удобного места.— Теперь я свой раздел почитаю. Где это тут?
Он поискал глазами необходимые строчки и, глубоко вздохнув, начал:
«Заключенным запрещается:
нарушать установленный порядок и тишину в изоляторе;
вступать в пререкания с сотрудниками изолятора; переписываться, переговариваться и перестукиваться с заключенными других камер;
кричать или выбрасывать что-либо из окон, взбираться на подоконник, высовываться в форточки, подходить вплотную к «глазку» двери, закрывать «глазок»;
делать надписи или пометки на стенах, книгах и других предметах и вещах, выдаваемых в пользование, а также наклеивать на стены фотографии, рисунки, вырезки из книг, журналов, газет;
иметь при себе и хранить в камере деньги, ценности и предметы, не разрешенные к хранению в камерах;
употреблять спиртные напитки и наркотические вещества;
изготовлять карты и играть в них и в другие азартные игры;
обмениваться или отчуждать любым способом в свою пользу либо в пользу других лиц вещи, разрешенные к хранению в камере, а также изготовлять различные предметы;
наносить на тело себе и другим лицам татуировки; развешивать белье, класть продукты и другие предметы на окно и отопительные приборы, а также хранить их под постельными принадлежностями;
передавать и получать при свиданиях какие-либо предметы, а также вести разговоры на языке, непонятном для работника охраны или переводчика, либо условные разговоры;
отправлять письма, жалобы, заявления независимо от их содержания в нарушение установленного порядка; курить в больничных палатках (камерах); подавать групповые жалобы и заявления, а также жалобы и заявления за других заключенных».
Несомненно, я грешил, но не мог скрыть ироничной улыбки, глядя на эту необычную картину. Василь морщил лоб, шевелил толстыми губами, от напряжения и усердия у него по вискам и вдоль носа стекали капли пота; Валерий нервно подергивал головой, прочитав абзац, закрывал глаза, повторяя строчки про себя, но дело у обоих шло туго.
— Чтоб этот Рыжий... - Лис, видимо, хотел выругаться, но, вспомнив недавнюю кару, сдержался, сдержался.— Эту муру за месяц не выучишь, а тут надо к завтрашнему..
— Ты половину сейчас, а остальное — ночью,— пряча усмешку, посоветовал Сергей.
— А спать когда?
— Подумаешь, не выспишься. Зато на исичу не попадешь, Рыжий пожалеет.?
— Идет, я так и сделаю,— нашелся Валерий. — Только я вслух читать буду, чтобы и ты на будущее выучил.
— Вы и так надоели,— поморщился Андрис.— Дудите в две дудки, даже у меня голова заболела.
— Можешь не слушать, никто не заставляет,— раздраженно ответил Лис.— А свои порядки здесь не устанавливай, не у себя дома, будешь в Риге командовать.
Андрис насторожился, внутренне подобрался — он очень болезненно воспринимал любое пренебрежительное упоминание о его Латвии, хотя сам частенько провоцировал соседей на опасные для него разговоры о национальности, отпуская едкие замечания в адрес Юрки и Василя, высмеивая их корявую речь.
— Чем тебе не нравится моя Рига? — ступил он на скользкую дорожку.
Задираться ему, конечно, не следовало — юные белорусы в такие моменты неожиданно забывали о взаимных обидах и выступали заодно, в пять глоток доказывая, что его Латвия — ничто в сравнении с Беларусью. А если было мало словесных аргументов, могли пустить в ход и кулаки.
Разрядить обстановку пришлось мне:
— Спокойно, Андрис. Ты же сам недавно рассказывал, какие дикие нравы в Рижском изоляторе. Так кому там может понравиться?
Убедительного ответа дать он не смог, напряжение спало, а тут и ужин подоспел. Распаренная сушеная картошка издавала такую вонь, что даже нос к миске поднести нельзя было.
— Мы дома свиньям и то лучшую бульбу варим,— сморщился еще не привыкший к тюремному рациону Василь и вывалил месиво в парашу.
Пример оказался заразительным, все пацаны бросили ложки и начали приставать ко мне:
— Старшой, выдели по пайке сала. Жрать хочется!
Сала в запасе оставалось немного, но устоять перед изголодавшимися подростками я не мог. К тому же и у самого сосало под ложечкой, кормили меня ведь еще хуже, масло и батон, как юнцам, по утрам мне не были положены. Нарезав сало маленькими — граммов по двадцать — порциями, мы организовали свой ужин. Конечно, насытиться таким мизером было нельзя, но не ложиться же спать на совсем пустой желудок...
Вечная для всех обитателей СИЗО проблема еды, а точнее — голода, лично для меня оборачивалась чуть ли не трагедией. Уж и не знаю как, но к своим тридцати с небольшим годам я сумел нажить себе гастрит, причем хронический. Возможно, дали рецидив сухие армейские пайки, сказалась холостяцкая жизнь, свою лепту внесли частые командировки... Как бы то ни было, острые боли в желудке постоянно не давали мне покоя. А тюремный рацион даже при самой богатой фантазии никак нельзя было назвать лечебной диетой. Протухшая селедка, гнилые бураки, капуста, бульба являлись катализаторами прогрессирующей болезни.
...— Да, у вас хронический гастрит,— поставила и без того известный мне диагноз терапевт СИЗО.— В таких случаях обычно предписывается щадящий режим, диетическое питание. У нас же, увы... Единственное, что могу вам посоветовать, это побыстрее выйти отсюда, иначе последствия могут быть самыми плачевными...
— И так хуже некуда. Боли такие, что я уснуть не могу.
— Могу назначить сеанс уколов...
— А это поможет? Я согласен.
— Скорее всего — нет...
— Не понимаю! Где же логика?
— Я же объяснила, что вам необходимо для лечения.
— Да это я и сам знаю! Я прошу помощи у вас, врача!
— Ничего, у нас тут и с язвами сидят...
— Говорят, что и безногие есть...
— И безногие.
— И бессердечные...
Врач нервно хрустнула суставами пальцев, зло поджала тонкие губы и коротко бросила конвоиру:
— Уведите этого умника!
Этот визит к врачу испортил и без того отвратительное настроение, а тут еще в камере мне подготовили очередной сюрприз. Самый младший — Олег — сидел на отшибе, прикрыв ладонью лоб, и с обидой смотрел на остальную публику, которая пребывала в отличном расположении духа.
— Покажи, что там у тебя? — Я отвел Олегову ладонь. На лбу красовалось багровое пятно, которое вот- вот должно было превратиться в огромный синяк.
— Чья работа? — Нервы были напряжены до предела, и меня так и подмывало от души врезать кому-нибудь из этой банды истязателей.
— Он сам согласился, чтобы ему приемку сделали,— ни в чем не бывало ответил за всех Валерий. Смотри, Лис, допринимаешься. Кича без тебя явно скучает...
— А что я сделал, чего ты, старшой, сразу ко мне? Мы спросили, хочет ли он посмотреть «Семнадцать мгновений весны». Малой сказал, что хочет, кино ему нравится... Так было, Олег?
— Так, только я не знал, что лупить ботинком будете...
— Чем, чем?
— Подметкой от ботинка... За каждую серию один раз в лоб...
— Варвары,— только и смог я проговорить, как загремели запоры и в камеру вошел Рыжий. Не думаю, что воспитателя вызвал контролер, тот и сам бы прекратил по сути дела избиение Олега. Наверное, у старшего лейтенанта была хорошо развита интуиция, подкрепленная постоянным общением с несовершеннолетними преступниками.Как и требуют правила, все встали. При всем желании Олег не мог спрятать вещественную улику, выделявшуюся на лбу. На немой вопрос воспитателя пострадавший промямлил:
— Поднимался и об верхнюю койку ударился, не пригнулся.
— Все понятно.— Рыжий, не раздумывая, приказал Лису: — Пойдешь со мной!
В камере установилась гнетущая тишина, прерываемая лишь покашливанием простудившегося на этапе Юрки.
— Не должен закозлить,— не выдержал напряжения Андрис.— Сам три раза ударил.
Ему никто не ответил, все не сводили глаз с двери.
— Кажется, пронесло. Поверил — не поверил, но отпустил. Вижу, что зуб на меня точит, но зацепиться не может. Только бы Шакал не заложил,— расхаживая по камере, тревожно говорил возвратившийся Лис, опасаясь теперь, что не выдержит и расколется Василь, которого вызвали на беседу вторым.
— А он начинал приемку, если что ляпнет, сам загремит под фанфары,— успокоил его Сергей.— Он хоть и лапоть, но должен же сообразить...
Василя не было долго. Еще полчаса назад веселившиеся юнцы присмирели, будто нашкодившие коты, вздрагивали от каждого звука, доносившегося из коридора. Хотя провинность по местным меркам была, конечно, небольшой, они понимали, что терпение у воспитателя не беспредельное и возиться с ними он не намерен. Особенно дорого грозили обернуться художества Лиса: он был заодно с Шустрым и Амбалом, организовал обмен сала на табак, а теперь вот эта прописка...
Он же и бросился первым к вернувшемуся Василю. А тот, как нарочно, не торопился, тяжело отдувался, будто провел целый день за плугом. Хотя, собственно, этому сельскому парню вспахать полгектара, пожалуй, было проще и легче, чем отвечать на непростые вопросы Рыжего.
— Заездил он меня,— наконец подал он голос.— Чтоб эти Правила сгорели...
— Да наплевать на эти Правила,— взорвался Лис.— Что ты про малого говорил?
— Что надо, то и говорил... Сказал, что головой сам стукнулся...
— Какого же хрена ты, деревня, резину тянешь! Я тут......В штаны наложил,— продолжил я за него, давая понять и ему, и всем остальным, что вся их недавняя бравада — шелуха, что каждый боится только за собственную шкуру.
Крыть было нечем, да они, пожалуй, и не заметили вызова. Главным в тот момент для них было то, что они ушли от наказания, победили, как им казалось, воспитателя.
— Ты, малой, молодец,— похвалил Олега Андрис.- Не продал нас Рыжему.
— Что я, козел? — тот, явно польщенный вниманием, сразу же залился румянцем.— За кого ты меня принимаешь?
— Вот сейчас ты настоящий кент,— поддержал Андриса и Лис.— И прописался, и не закозлил. Одного тебе только не хватает...
А что такое? — явно ожидая нового подвоха насторожился Олег.
— Кликухи у тебя нет. Все тут люди как люди, все кореша — Сопливый, Лопоухий, Лис, Котис, Шакал... Один ты — какой-то Олег..
— Валера! Что-то память у тебя короткая, только что открутился от карцера, а теперь снова туда просишься?
— Брось ты, старшой, мы классную кликуху придумали. Как раз подходит, ему самому понравится...
Спорить, переубеждать было бесполезно. Тем более, что сам Олег явно не противился, чтобы его приняли в блатное братство. Его интересовало только, что пришло на ум сокамерникам: не очень ли обидное или унизительное...
— Отныне и навеки,— Лис повторял услышанные где-то слова,— быть тебе... Бегемотом.
Олег не ожидал такого удара, он едва не стал доказывать, что это несправедливо. Но вопрос, говорят, был решен окончательно и бесповоротно: Бегемот.
— Ты толстый, круглый, любишь пожрать и поспать,— вроде бы объяснял, а на самом над ним Лис.— Один к одному.
Пришлось еще раз убедиться, что чувство благодарности, если оно и было у моих соседей, то давно атрофировалось. Ведь только что Олег спас их от заслуженного наказания, а того же Лиса — даже от карцера. Но это для них уже был вчерашний день...
— Не переживай, Олежка,— успокаивал я поскучневшего подростка.— Не пристанет эта кличка. Да и никакая другая тебе не нужна. Выйдешь скоро отсюда, экзамены будешь сдавать, все наладится. Ты вот рисуешь хорошо, захочешь — художником станешь...
Я не льстил и не говорил понапрасну, лишь бы расшевелить паренька. Он в самом деле неплохо владел карандашом: портреты его сегодняшних обидчиков были довольно близки к оригиналам, ребята даже оставляли эти наброски на память, а рисунок камеры отразил и ее пропорции, и мрачную убогую обстановку. Ему бы ться...
— Вот если выпустят отсюда, не посадят, в самом деле попробую поступать в художественное училище,— доверительно говорил он мне.— Когда малым был, неплохо получалось. Потом забросил и карандаш, и кисточки, в «металлисты» подался. Цацки разные нацепляем на себя — браслеты, цепочки, ходим, шумим под магнитофон. Нас много в Серебрянке... Надоест на этой стороне озера, пойдем в Чижовку... Бывает, всю ночь гуляем...
— Просто у тебя все выходит: пойдем, всю ночь ляем... А как же домашние твои? Ты же школьник, по вечерам дома должен сидеть, уроки учить. Мама тоже так говорила, а я отмахнусь к дружкам. Их у меня полным-полно.
— Ремнем тебе по заднице, чтобы не шлялся подворотням.
— Некому, батька собакам сено косит, - со злостью сказал Олег.— Бросил он нас, какую-то бабу в Курасовщине нашел.
— Тем более о матери думать надо, вон какой вымахал...
— Вырас пад неба, а дурны, як трэба, — вставил Василь, присевший возле меня, чтобы послушать исповедь Олега.
— Ты не лучше, деревенский бугай,- не остался в долгу тот.— С дубиной на людей бросаешься.— Он не мог забыть, что Василь лупил его батинком по голове.
— Оба одинаковые, -не дал разгореться я ссоре.— Что у одного ума нет, что у другого.
Олег, искоса поглядывал на Василя, молчал, как бы продолжать рассказ о своих злоключениях или нет.
— Я б такого батьку, что семью кинул, сразу под суд отдал,— неожиданно подыграл Василь.
— Ездили мы с младшим братом к нему. Так он от нас деру дал, только его и видели. Он всю жизнь так — от одной бабы к другой. Попьет, пожрет — и смоется. Мать говорила, что ни копейки алиментов не заплатил. Только устроится на работу, получит аванс и зарплату — и в запой. Она уже и рукой махнула на него, никаких денег, говорит, мне от него не надо.
Рассказ о беспутном отце давался ему трудно, мне казалось, что он готов вычеркнуть его из своей памяти.
— Вот кончится у меня все хорошо, надо будет ему морду набить,— неожиданно опроверг он мои предположения.
— Мало тебе еще неприятностей, хочешь добавить?
— Это я так, от злости. Сейчас его трогать не буду. Вот приползет на старости лет, тогда поговорим...
Понятно было, что эта злость, даже ненависть, родилась не здесь, в камере СИЗО. Безотцовщина больно ранит детей, особенно мальчишек. Они завидуют друзьям, замыкаются в себе, ожесточаются, становятся готовыми на любые безрассудные поступки. Не стал исключением и Олег. Мать, чтобы прокормить семью, пошла работать в самый грязный цех — литейный. Там и денег побольше, и на пенсию можно, если доживешь, раньше уйти. Накормить, одеть, чтобы не хуже других выглядели,— о чем еще могла думать эта бедная женщина. А сыновья были предоставлены сами себе. К двенадцати (!) годам Олег успел обворовать с дружками курятник (в Серебрянке еще сохранился частный сектор), научился пить из горлышка чернила, курить, материться, стоять по просьбе старших «на шухере»... Растерянная мать отдала его в школу-интернат, но эта школа лишь усовершенствовала приобретенные им навыки. Пришел черед первой серьезной кражи, удачной; затем вторая попытка, которая закончилась арестом. Вот станет ли она последней?.. Будь я на месте следователя или судьи, ни за что не лишал бы Олега свободы, не направлял бы в колонию для малолетних преступников. Только вот кто выведет его на правильную дорогу? К сожалению, как тогда, так и сегодня этот вопрос как был, так и остается без ответа. Зато хитрый Лис уже назвал Олега корешем, дал кличку. За его спиной маячат фигуры Шустрого и Амбала, а где-то в зоне ждет не дождется рецидивист Басмач. Они всегда готовы принять в свои ряды.
Помимо склонности к рисованию у Олега были и другие задатки, как сегодня сказали бы — предпринимательские. Он вполне серьезно рассказывал мне, каким оригинальным способом собирался поправить материальное положение семьи.
— Мы с братом и еще с одним другом сделали самогонный аппарат. Электроплиту старую нашли, трубы достали, кастрюли. Оставалось запустить его, да вот сюда попал...
— Не сочиняй...
— Вот честное слово! А что? Сахар, хлебный квас, дрожжи — и брага готова. В Серебрянке многие гонят, я знаю.
— Опять-таки это дорога сюда, на Володарского...
— У нас подвал такой, что атомную бомбу сделать можно, никто не узнает...
— Все равно. Попался бы на продаже.
— Мы что, дураки? Нашли бы бабку, отдавали бы ей сразу литров десять, что выгнали, а она нам — деньги. А что ей участковый сделает, когда из нее песок сыплется? Да и не трогает он самогонщиков, у него и так дел по горло...
Юный коммерсант, видимо, в самом деле продумал всю технологическую цепочку от изготовления до продажи самогона. Знал он и как распорядиться прибылью.
— Магнитофон купил бы, джинсы себе и брату, кроссовки адидасовские. Матери каждый месяц давал бы, а то живем трое на одну зарплату. Ну, и новую брагу надо ставить...
— В общем, свой маленький завод?
— А что? Знаешь, какие на самогоне деньги заколачивают?.. Машины покупают. Я знаю бабку, так она сыну «Жигули» подарила, а сама давно на пенсии, все возле универсама ошивается с бутылками... А ночью у нее по двойной цене дома купить можно. Меня посылали...
— Винегрет у тебя в голове, друг любезный. Самогонка так или иначе тебя сюда привела бы, да еще и алкоголиком стал бы. Вот Юрка уже побывал в «Новинках», лечился. Спроси, сладко ли там?
Начинающий подпольный бизнесмен почесал стриженый затылок, потом задумчиво произнес:
— Может, ты и прав, старшой. Только деньги все равно нужны.
Вот в этом я с ним был полностью согласен. Родители Андриса вели хозяйство на хуторе, Василь сам уже зарабатывал деньги рядом с отцом-комбайнером, Валерий и Сергей безбедно жили за спиной (если хотите, на шее) у отца и матери. До побега из дома не бедствовал и Юрка, в деревенской кладовке всегда найдется кусок сала, в погребе — капуста, огурцы, картошка, почти круглый год есть молоко. Так что попали они в СИЗО отнюдь не из-за голода.
Вряд ли можно безоговорочно утверждать, что в отличие от них Олега толкнула на воровство только бедность его семьи. Безусловно, забираясь в чужие квартиры вместе со старшим подельником, он не тешил себя мыслью, что помогает матери. Но будь я его адвокато на суде, попробовал бы выстроить несложную логиче скую схему. Во-первых, дома постоянно не хватает денег— мать работает одна, отец не платит алименты. Второй довод вытекает из первого — экономя, мать ходит в обносках, чтобы хоть как-нибудь одеть двух подрастающих сыновей. Третье: то, что мать может купить, все равно гораздо хуже, чем у друзей. Незрелый ум и опытный друг подсказывают выход: надо украсть и та образом решить все проблемы. Я нисколько не хочу оправдать воровство Олега — в пятнадцать лет пора иметь голову на плечах, но подсознательно он рассуждал именно так. А тут еще внешние атрибуты: секретность, риск, доверие кореша, удача, призрачная возможность щегольнуть в обновках. Много ли надо незрелому юнцу, чтобы хоть на время почувствовать себя взрослым и независимым?..
...— «Войди в каждый дом».— Громкий жене лос прервал грустные рассуждения о судьбе Олега, заставил даже вздрогнуть.
Лис, который давно заинтересованно погл нашу сторону (не настраивает ли старшой Бегемота пр тив него?), заметил мою реакцию и расхохотался
— Это, старшой, тебя жена приглашает.
Тут только до меня дошло, что это заработал радиоприемник. Дежурный по СИЗО дважды в день включал трансляцию: с шести и почти до восьми утра, а затем с семи вечера до отбоя. Надо сказать, что радио, особенно вечером, скрашивало наш тяжелый тюремный быт, хоть на немного приоткрывало окно на волю. За долгие недели, а то и месяцы мы научились определять дикторе по голосам, знали, в какой день какая передача выходит в эфир. Думаю, радиожурналистам было бы интер узнать, как интерпретируют их передачи заключе СИЗО.
— «Войди в каждый дом» - это не для старшого, - проявил сообразительность Василь.— Скорее Лопоухому подойдет, он по квартирам лазил.
— Почему только мне? — поддержал игру Сергей.— Бегемот две хаты на уши поставил, Котис магазины чистил. Да и Сопливый самогон не в своем погребе искал...
— Нет, Сопливый и Шакал из передачи «Сельский час», тем более, что они из одного района,— не захотел брать Юрку в компанию Андрис.
— Шакал с дубиной по лесу шастает, ему больше подходит «Встретимся после полуночи»,— вспомнил Юрка, показывая всем, что на экспертизу в «Новинки» его повезут зря.
— А что ж это вы Валеру Лиса забыли? — решил не отставать от молодежи и я.
— У него любимая передача «Давайте познакомимся».— Надо признать, что Сергей не был лишен если не остроумия, то сообразительности.
Версия понравилась, и Лис едва успевал отбивать сыпавшиеся на него довольно злые и едкие шутки, подколки, подначки. Разошедшиеся подростки предлагали Валерию такие невероятные варианты знакомств, что я лишь удивлялся их неисчерпаемой фантазии. Правда, к сожалению, каждое новое знакомство, по их вариантам, все равно заканчивалось изолятором. Не любили они Лиса, что тут поделаешь.
— Не к добру развеселились,— послышался голос из кормушки.— По киче соскучились?
Выждав, пока окошко в двери захлопнется, я как бы подвел итог викторины:
— Вы забыли самую главную передачу, она специально для нас делается,— «Человек и закон». Вон на стене выдержки из нее. А вчера Василь и Валера дикторами были, нам вслух читали
— Ну тебя, старшой, настроение испортил,— оби делся Лис,— людьми побыть не даешь.
Я и сам понял, что зря вернул ребят на грешную землю, то есть в камеру, и попытался скрасить свою в камеру, оплошность шуткой:
— Для вас скоро передадут «Спокойной ночи, малыши». Как там поется? «Глазки закрывай», что ли?
Приняли они мое извинение или нет, не знаю, но разговоры стали затухать, а меня ожидала передача, автором которой и единственным слушателем был я сам,— «Для тех, кто не спит». По ночам я мысленно перелистывал страницы обвинительного заключения, прочитанные днем, еще раз сопоставлял свидетельские показания, вдумывался в формулировки своего следователя Прошкина, выбирал узловые моменты, опираясь на которые собирался строить защиту. Тревожило отсутствие вестей из дома, здоровье немощной мамы, к тому же, будь он неладен, все чаще давал о себе знать гастрит. Так что ночи, как правило, были бессонными — чуть провалишься в тяжелое забытье, как просыпаешься то от боли, то от предчувствия беды.
Не спалось сегодня и Андрису. Он ворочался на койке, вздыхал, что-то бормотал себе под нос по-латышски. Наконец спросил:
— Старшой, какой завтра день?
— Четверг должен быть...
— А этапы бывают по четвергам?
— Чует мое сердце, что выдернут меня завтра от вас.
— Чем быстрее суд, тем лучше. Будет какая-то определенность,— я не стал ни утешать, ни пугать его.
— Построят этап перед выездом и объявят: «Все приказы охраны выполнять беспрекословно (он с трудом выговорил это длинное слово). Всякое неповиновение — шаг в сторону, шаг назад, шаг вперед без команды — будет расцениваться как попытка к бегству. Стреляем без предупреждения»,— он заученно повторял страшные слова, слышанные им уже и в Латвии, и в Белоруссии.— А чего мне бежать? Повезут домой, на Родину.
Он был далеко не сентиментальным, этот юный специалист по ограблению магазинов. Не раз я видел, как сжимались его кулаки, как круто осаживал он приблат- ненного Лиса, как яростно набрасывался на Сергея, которого почему-то считал евреем. В общем, постоять за себя Андрис мог, а тут вдруг в голосе неожиданные мягкие нотки, задумчивость... Его не пугало даже, что с этапа обязательно попадет в страшный Рижский изолятор, о диких нравах и порядках которого он рассказывал. Не знает он и исхода суда, не исключено, что придется пойти за колючую проволоку. Но будет все это уже дома, на Родине. Недаром говорят, что домашняя вода пьянит сильнее заморского меда...
СОЦСОРЕВНОВАНИЕ ПО-ТЮРЕМНОМУ
МЫ "ПЕРО" ЕМУ ВОТКНУЛИ...
ЗУБ МУДРОСТИ
НА РИНГ ВЫЗЫВАЮТСЯ
МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
Будто хмельные, возвращались мы после первой весенней прогулки. Еще вчера мои пацаны ежились, сбивались в кучу, переминались с ноги на ногу, устраивали «петушиные бои», чтобы как-то согреться на крепком морозе, не могли дождаться, когда окончатся положенные распорядком шестьдесят минут, торопились заня1 в камере место у батареи. А сегодня природа слов» расщедрилась и пустила на землю тепло. Несмелые . пробивались сквозь пелену туч и косо упирались в с прогулочного дворика. Внизу, у нас под ногами, на щербленном бетоне, еще стоял полумрак, было и неуютно, а выше, на уровне поднятой руки, уже ост ло свой автограф солнце. Сергей подобр, и, поднявшись на цыпочки, отметил тепла и холода, весны и зимы.
Хотя воздух еще не успел прогреться, весенний уже проник в прямоугольную яму, затянутую толстой металлической сеткой. Мы жадно вг. в редще голубые пятна на небе, обостренный ловил звон первой капели и шум оборвавшейся сосульки. А главное — наши легкие прямо-таки распирало от избытка кислорода. Мы хватали его вп] лись на целые сутки, готовы были стоять во дворике до темноты, но голос контролера был неумолим: «Ппогулка окончена».
Медленно, нога за ногу, поднимаемся мы щим ступенькам к себе на этаж, затем идем по коридору — гуськом, заложив руки за спину, как того требует инструкция, останавливаемся у обитой железом двери. Так не хочется переступать порог, за которым ненавистная камера со зловонием из неисправного унитаза, скользким, сколько его ни вытирай, цементным полом, глухими мрачными стенами и толстыми решетками на окнах. Чтобы продлить ощущение призрачной свободы, надышаться весной, ребята толпятся у окна, просовыва- ют руки через решетку, подставляют ладони нечаянным солнечным лучам. Слезы навертываются на глаза, перехватывает дыхание, сердце уже в который раз сжимает спазм...
На волю тянуло всех. Сергей и Василь связывали свои надежды на освобождение с предстоящим скоро судом, Юрка, как бы это странно ни звучало, с тем, что психиатры признают его умственно неполноценным, Олега мог спасти совсем юный возраст... Меньше всего шансов на благоприятный исход было у Валерия Лиса, в полной неизвестности находился и я сам, хотя уже заканчивал чтение обвинительного заключения. Наша компания волею судьбы разделилась на две полярные группы: четверо были в преддверии перемен, двое оставались во взвешенном состоянии. Произошло разделение и по «территориальному» принципу — земляки Юрка и Василь подолгу вели разговоры о родных деревнях, по-моему, нашли даже общих знакомых. Минчане Олег и Сергей тянулись ко мне, будто школьники к учителю. Особняком стоял Валерий — он и по характеру отличался от других, и нагрешить успел побольше. Наказание грозило всем, но если другие могли обойтись условным, то инициатора группового изнасилования ожидал, конечно, лагерь.
Это расслоение нашего «коллектива» порождало непредвиденные конфликты. Сидят, скажем, сельские вспоминают...
— Прошлой весной я первый раз на тракторе в поле выехал. Навоз вывозили,— начинает Василь. - Как врубил четвертую скорость, аж гай зашумел. Бригадир после ругался даже...
— Помню, я на ферме коня взял да в лес... Бульбу прихватил, шкварку, костер разложил... Только к вечеру коня пригнал, там уже с ног сбились — надо силос развозить, а коня нету. Мать кричала, кричала, заведующий фермой тоже... Заставили помогать после.
— Наверное, сок березовый пошел уже... Хотя, кто его знает? Сидишь тут, не видишь ничего,— Василь задрал голову, глянул в зарешеченное окно.— А если пор то батька столитровую бочку поставит. Корок хлебных, поджаренных, кинуть туда — никакого магазинного напитка не надо. Выпьешь кружку-две, аж здоровья добавляется.
— Мы в молочном бидоне ставим. Мать с фермы принесет, а я сливаю из банок трехлитровых что задень натечет. Около дома берез много, да и лес недалеко...
— Лес и у нас близко. Зверей развелось, к самой деревне подходят. Прошлой зимой, в пилиповку, на огородах волчьи следы видели. Собаки аж охрипли, так лаяли...
— А я на рысь напоролся. Пошел за сушняком сосновым, что летом наготовил. Снег глубокий, санки застревают, запарился совсем. Сел отдохнуть, закурил, а тут с соседней елки снег как шахнул. Гляжу — а там что-то рыжее, голова круглая, на ушах кисточки. Аж мороз по коже... Откуда и силы взялись, как дал лататы, санки с дровами бросил... Только через день забрал, с соседом ходил...
— Тот лесник, с которым мы побились, про медведя рассказывал,— совсем буднично продолжил Василь.— Говорил, что из Березинского заповедника к нам пришел...
— Медведь из заповедника, а вы из джунглей,— ни с того ни с сего вдруг вмешался в мирную беседу земляков Сергей.— Пускаете тут сопли: навоз, дрова, кони, бидоны... Ну и сидели бы там, в своем говне.
— Ты чего это, Лопоухий? — даже подпрыгнул на скамейке Юрка.— Мы тебя не трогаем, не лезь к нам...
— Заткнись, Сопливый! — не упустил момента показать свою силу и Лис.— Надоело твое вяканье. Давно на параше не стоял?..
— Стоп! — не раздумывая, я взял за шиворот Лиса.— По тебе карцер давно плачет, ты знаешь... А вот Лопоухий (я не стал щадить самолюбия Сергея) что-то рано хвост поднял...
— А чего эта деревня душу травит: «солнце, весна, лютики-цветочки». Ему что: признают дураком, и гуляй, Вася...
— Если говорить о дураках, то все вы одного поля ягоды,— жалеть на этот раз своих сокамерников я не собирался.— Были бы умнее, не сидели бы тут.
— И ты, старшой, значит, не лучше,— Лис и Сергей явно не хотели уступать.
— В моих делах разберусь сам. Вы наполовину моложе, проживите еще с мое,— обрезал я их.— Но сгонять злость на других вам не дам. А что касается параши, то ты, Лопоухий, там был недавно... Забыл уже?
Стычка, не успев разгореться, затихла. Но неожиданно возобновилась на лестнице, по дороге на прогулку. Казенные ботинки сваливались у Юрки с ног, он ступал неуклюже, спотыкался и нечаянно толкнул Сергея. Этого было достаточно, чтобы тот в прогулочном дворике коршуном налетел на «обидчика»:
— Нарочно подножку дал? Думаешь, раз старшой заступился, можно и наглеть? Дохлятина колхозная...
— Да я не нарочно, ботинки сваливаются,— Юрка хотя и не чувствовал за собой вины, но решил не ввязываться в ссору.— Бывает...
— Оттырю я тебя на прощанье, чтоб запомнил...
— Отцепись ты...
— Ты еще и выступаешь? Ну, гнида! — Сергей, быстро глянув вверх — не видит ли контролер, ребром ладони рубанул Юрку по шее.
На помощь Юрке уже спешил Василь, вот-вот могла начаться драка... Пришлось опять вмешиваться мне:
— Как бы тебе перед судом на киче не оказаться,— крепко взяв Лопоухого за локоть, выговаривал я.— Узнает следователь о твоих художествах, скажет прокурору — и пошло-поехало. Никаких смягчающих обстоятельств не найдет судья, допрыгаешься...
— Пусть Сопливый знает свое место.
— Тебе бы свое место определить, а берешься другим указывать. У него с детства жизнь не заладилась, а ты сам дорогу выбирал...
Испорченной оказалась та прогулка. Набычившись, смотрели друг на друга противоборствующие партии «крестьян» и «горожан», а я, вместо того, чтобы заниматься традиционной зарядкой, вынужден был выполнять роль своеобразного пограничного столба. Нервная система у всех нас была истощена до предела, и любое неосторожное слово, косой взгляд могли привести к непредсказуемым последствиям. В арсенале моих подопечных были только отрицательные эмоции.
Они прорывались наружу даже в обычной, совсем не экстремальной обстановке. Поводом для очередного мини-бунта стали... пластмассовые танки или бронетранспортеры. Два ящика этих детских игрушек притащили, тяжело дыша и вытирая пот, заключенные из хозбрига- ды. Воспитатель объяснил, какие дефекты надо устранять, шутливо пожелал трудовых успехов на благо младших братьев и сестер, выдал шесть ножей...
Как только за ним закрылась дверь, Лис недовольно заявил:
— Рыжий решил нас доконать. Самые сложные игрушки подсовывает.
— Это точно. Я видел, когда заносили ящики, что в соседнюю хату дали крупные заготовки,— сразу же отозвался Сергей.
— Тут деталей, что блох у собаки,— проявил солидарность с ними Юрка, разглядывая бронемашинку.— Мы и до ночи не справимся.
— А соседскую работу за один час сделали бы, ну за два,— «заводил» камеру Лис.
— Обнаглел Рыжий, что мы ему — кони? — не остался в стороне Василь.
Только Олег — самый младший — вертел в руках иг рушку, с интересом разглядывал ее.
— Кинь, Бегемот, а то заработаешь! — в голосе Лиса слышна была явная угроза.
— Уже и посмотреть нельзя,— совсем обиделся Олег, но положил игрушку в ящик.
Назревала забастовка. А причина, между тем, была явно надуманной. Нам приходилось выполнять и более сложную работу; Сергей, к тому же, никак не мог видеть, какие заготовки дали в соседнюю камеру,—за дверь выходить было нельзя; воспитатель, что бы ни говорили юнцы, никого из них еще ни разу не наказал...
— А что, с пистолетами разве меньше возни было? — осторожно забросил я удочку, надеясь, что приятные воспоминания разрядят обстановку.
— Пистолеты — это другое дело,— сразу клюнул на нехитрую уловку Юрка, доставая из-под матраца игрушку.— Тут хотя бы есть что в руках подержать...
— Смотри, найдет Рыжий, тогда уже не скажешь, что он придирается...
К моему удивлению, игрушечное оружие оказалось у всех: то ли заготовок отправляли с фабрики навалом, без счета, то ли пацаны смогли как-то «схимичить», но факт был налицо — вся камера была «вооружена».
— Ну, артисты! — У меня не было никакого желания читать им мораль, они все-таки оставались большими детьми, несмотря на все свои прегрешения. Однако нас ждала «бронетехника», и я предложил:
— Давайте договоримся так: пистолеты замаскируем среди танков, если что — фабрика прислала несколько «чужих» деталей. А чтобы не скучно было работать сегодня, устанавливаем три приза. Кто больше всех сделает, тому три куска сахара. За второе место — два, за третье — один. Я же недавно получил передачу, вы знаете...
Лис и Сергей раекуеили мой маневр, но остальные (мы проголосовали даже) согласились — материальный стимул сработал. Вне конкуренции оказался Олег: он и до, и после обеда отремонтировал больше всех, вторым шел Василь, за ним — Валерий. Последним, как обычно, был Сергей...
Вечером, при раздаче призов (сам я подчищал пропущенные огрехи), вновь возникло напряжение: Сергей и Юрка сделали вид, что их нисколько не интересует происходящее, даже отвернулись от стола... К счастью, победители оказались великодушными, разделили награду.
— В следующий раз, когда буду отовариваться в ларьке, закажу конфеты, там, кажется, карамель есть,— подогрел я интерес к «соцсоревнованию».
— «Клубника», я читал в списке,— даже облизнулся Олег.
— А я скоро, может, шоколадных попробую,— сказал и сразу же сам испугался сказанного Сергей. Помолчал, затем с надеждой продолжал: — Суд скоро. Я обвинительное заключение семнадцать дней назад подписал...
— И у меня уже на третью неделю пошло,— подсчитал Василь.— Я через два дня после тебя ходил к своему следователю.
— Значит, долго вы здесь не задержитесь,— поддержал я их.— Если только судья не загружен делами, больше месяца никто не ждет...
— И тут осточертело, и страшно на суд идти,— с надрывом, чуть не плача, выкрикнул Сергей, который болезненнее всех переносил тюремные тяготы.
— Ничего, не психуй, все будет тип-топ,— решил выступить в роли утешителя Олег.— Сам говорил, что у твоих стариков связи есть, подмазать могут. Это же не то, что у меня: одна мать, и та из литейки... Скоро опять по Зеленому Лугу гулять будешь...
— Не сглазь, Бегемотик...
— За Бегемота я с тобой на воле рассчитаюсь, встретимся где-нибудь в парке Челюскинцев.— У Олега было хорошее настроение: он выиграл первый приз, щедро разделил его, впереди светили даже конфеты, и вообще сегодня он был королем.— А пока слушай анекдот...
— Во, разошелся наш малой,— удивился Василь.
— Не мешай, лесной брат,— Олег явно был в ударе.— Значит, так: судят грузина. Там, у них. Дали ему последнее слово, а он и говорит: «Отпустите дамой, граждыне судьи. Виноград снять, лимоны. Двадцать пят тысяч». Судья объявляет: «Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения приговора». А подсудимый снова: «Зачэм в савещатэльный комнат? Двадцать пят тысяч каждому». Судья посмотрел на заседателей и тоже спрашивает: «Подсудимый! Вы признаете себя виновным?» — «Нэт».— «На «нет» и суда нет...»
Глядя на оказавшегося в центре внимания Олега, я еще раз убедился, сколько хорошего заложено в нем, насколько тонко организована его душа. Шутливая угроза отомстить за обидную кличку на нейтральной полосе, в парке, пусть примитивный, но пришедшийся к месту анекдот, исход которого 1— освобождение прямо в суде. На такие экспромты способен далеко не каждый. И с ра- ботои он управляется лучше других, и искусству чужд не был. Не получилось бы только, что Бог дал, а потом забрал...
Ожидания Сергея оправдались: через несколько дней ему приказали собрать постель, остальные казенные вещи. И увели. Вернулся он минут через десять совсем другим человеком: осенние сапоги, штроксовые брюки, вельветовая куртка — все было добротным. Правда, одежда висела на нем мешком — он похудел килограммов на пять. Дополняло его гардероб модное пальто.
— Пижон! — восхищенно проговорил Олег, оправившись от шока.— Настоящий пижон! Я такого никогда не носил.
Юрка подавленно молчал, а Василь, примерив пальто, никак не хотел его снимать и все повторял то ли для себя, то ли для других:
— Вот выйду, себе такое же куплю. А что? Заработаю ка посевной или уборке — и куплю. Слабо?
Спокойнее отнесся к наряду Сергея Валерий. Он деловито щупал ткань, рассматривал торговые знаки, рассуждал о фирмах «Левис», «Штраус», «Пума», «Адидас», «Саламандра», «Сафари», вспоминал цены на их товары... Он был в своей стихии — сказывались и семейный достаток, и амплуа короля танцплощадок. Сельские пацаны знали об этих дефицитах понаслышке — их униформой почти круглый год были кирзовые или резиновые сапоги да телогрейка; Олег планировал модно одеться лишь с помощью самогонного бизнеса. Объединяло их, пожалуй, одно — неодолимая тяга к зарубежным шмоткам с яркими, броскими наклейками. Магические слова «Made in...» звучали для них райск я музыкой, служили пропуском в недостижимый доселе мир, ради «лейбы» на заднице стоило рисковать головой.
Возбужденный, взъерошенный, растерянный Сергей суетился в камере, записывал адреса ребят, давал каждому свой, но упорно не замечал Юрку.
— Ты что же это, дружок? — отвел я его к самому окну, заслонив спиной от других.— Не годится так. Целоваться с ним тебя никто не заставляет, но ведь сколько баланды вместе съели. Вот тебе ни разу посылки не было, а он одну-единственную передачу от тетки на всех разделил и тебя не обидел. Будь человеком, Сергей!
— Воротит меня от него! Глаза бы не видели...
— Не захочешь видеть после — не надо, твое дело, ко я бы тебе дал совет: попроси родителей, чтобы организовали Юрке передачу. Тебя, скорее всего, освободят в зале суда, я так чувствую. Так оставь о себе хорошую память. Это тебе зачтется.
— На том свете, что ли, старшой?
— Не выступай. Пусть родители купят сала, сахара, еще чего-нибудь, сам подскажешь. Согласен, сделаешь?
— Ладно, так и быть,— Сергей хотя и упирался для проформы, было видно, что ему хочется выступить в роли благодетеля. Да, в конце концов, не успел же он растерять все человеческое в себе... В списке с адресами появилась и Юркина фамилия.
Уходивший на суд Сергей был уже у двери камеры, когда Лис неожиданно ударил его сзади ногой. Тот растерянно и возмущенно обернулся.
— ???
— Это чтобы ты сюда больше не возвращался. Такой обычай у зэков,— с видом знатока пояснил Валерий.
Сергей, потирая ушиб, даже благодарно улыбнулся:
— Бывай, кореши! Бывай, старшой! Увидимся на воле...
Ребята поскучнели. Даже Лис не приставал больше к Юрке, Василь не рассказывал о своем тракторе, Олег не брался за карандаш. Мысленно они были в суде, па месте Сергея, отвечали на каверзные вопросы судьи, каялись, обещали, что «больше так не будут»...
Назавтра работали медленнее, чем обычно. Останавливались, вспоминали кореша, лениво подкалывали Юрку. Лис утверждал, что Лопоухий, даже если его освободят, ни за что не принесет передачу, не такой он, мол, человек, наплевать ему на всех. Где-то в полдень открылась кормушка, и мы, будто по команде, повернули головы к двери. «Мамка» назвала фамилию Юрки. Тот, растерянный, чуть не свалился со скамейки, в спешке сбросил на пол несколько заготовок, потом, не веря в услышанное, переспросил, нагнувшись к кормушке:
— Кому?
— Тебе, парень. Распишись...
Юрка торопливо нацарапал на листке свою фамилию, обернулся. Я еще не видел на его лице такой широко и счастливой улыбки.
— От Сергея,— справившись с волнением, хрипло проговорил он.
Все мы, не сговариваясь, посмотрели на Лиса. Он отвел глаза...
Дождался своего часа и Василь. Насколько разными были он и Сергей, а реакция на казенную фразу «собирайся с вещами» оказалась одинаковой: засуетился, за махал руками, будто крыльями мельница, за считанные секунды убрал постель, уселся на голую койку и уставился на дверь. Через минуту вскочил, подошел к глазку, будто что-нибудь можно было увидеть изнутри. Понял, что выглядит смешно, вернулся на шконку, облокотился на свернутый матрац, подпер голову кулаком, замер в ожидании... Услышав в коридоре какой-то звук, обхватил постель двумя руками, направился к выходу. Подождал мгновение — тревога оказалась ложной. Так и остался посреди камеры в нелепой позе, с рулоном под мышкой.
— Успокойся, Василь,— пришел на выручку Юрка.— Раз сказали, чтобы собрал вещи, так скоро заберут.
— Выдернут,— подтвердил Валерий и съехидничал: — Только ненадолго. Получишь срок и перед этапом на зону к нам вернешься, отдохнешь перед дальней дорогой.
— Не каркай,— остановил я Лиса.— Василя скорее всего на стройки народного хозяйства направят.
— За грабеж так легко не отделается,— стоял Лис на своем.— Забрал у лесника хомут, вот пусть и носит его на шее.
— Это ты от злости, что он скоро дома будет, а тебе за девку сидеть придется,— Юрка не хотел давать в обиду земляка.
— Заткнись, Сопливый.— Лис понял, что Юрка разгадал причину его раздражения и перенес огонь на остающегося в камере.— У тебя права голоса нет...
Земляки не стали заводиться, а Лис, увидев, что его наскоки остаются без ответа и скандал не вырисовывается, предложил Олегу сыграть в шашки. После двух- грех партий с стер ники сложили доску — игра не клеилась у обоих, причем Лис начал жульничать... Наконец Василь ушел из камеры, чтобы вскоре вернуться уже в своей одежде. Скептически разглядывали юнцы его наряд — уж слишком контрастировал нехитрый гардероб сельчанина с импортными шмотками Сергея Лопоухого. Дешевый костюм «в яблоках» — пятнах от машинного масла, стоптанные полуботинки, застиранная рубашка, болоньевая куртка с отвисшими карманами — в таком облачении Василь мог быть и в кабине трактора, и на танцах.
— Сразу видно, что деревня,— начал новую ата ку Лис.
— А что мне — шлюбный костюм в тюрьму наде вать? — отмахнулся Василь.
— Можно думать, что он у тебя есть...
— Не твоя забота, надо будет — куплю!
Василя трудно было вывести из себя, все подколки Лиса отскакивали от него, как горох от стенки. Мыслями он был на суде, в Крупках, а то и еще дальше — у себя дома, в родной деревне.
— Ты перед судьей клянись, что больше не будешь, а у лесника проси прощения,— как заправский адвокат, давал советы Юрка.— Надо, так на колени стань.
— Москва слезам не верит,— у Валерия было явно плохое настроение.— Вот если родители подмажут...
— Да я готов на того лесника весь век ишачить, только бы не в тюрьму...
— На зоне вкалывать будешь, там такие нужны...
— Слишком часто ты про зону вспоминаешь, Валера,— решил я остепенить Лиса.— Видно, место для тебя там уже приготовлено, вот и икается тебе. А Василь, если суд на стройки пошлет, повкалывает на совесть и освободится досрочно. Профессия у него есть, здоровья хватит.
— Я день и ночь из кабины вылезать не буду, мне не привыкать. Лишь бы решеток не было и колючки...
— Таким, как ты, кирпич на голову упасть может. Или бадья с раствором.— Валерий никак не хотел смириться с мыслью, что у Василя близка свобода, пусть даже условная.
— У дурного соловья дурные песни,— оборвал я бессмысленную перепалку и, чтобы показать, что я на стороне Василя, отдал ему свой ватник — он должен был еще переночевать с нами, а постель уже сдал. Последовали моему примеру и остальные, так что в последнюю ночь мы в полном смысле слова отдали ему свое тепло. В изолятор Василь не вернулся. Я как-то невзначай спросил о нем воспитателя, и тот ответил, что после суда больше его не видел. Значит, зона его миновала, вернее, ему посчастливилось обойти ее стороной.
...— Федя! — Высокий плотный парень щелкнул каблуками, внимательно обвел глазами камеру, сделал для себя какой-то вывод и направился ко мне, успев по дороге бросить на пустую койку матрац. Церемонно пожав мне руку, поздоровался с Валерием, Олегом и, чуть помедлив, с Юркой. Завершив ритуал знакомства, уселся на скамейку и наигранно вздохнул. Мы спокойно наблюдали за новичком, пока никак не реагируя на его театральное появление. Разочарованный довольно холодным приемом, тот сделал еще одну попытку растопить лед недоверия:
— Влип я, мужики, по самые уши. Подруга сдала в ментовку, это же надо. Статья самая страшная!
— Что, по 100-й идешь?
— Хуже, по 143-й,— Федя явно обрадовался, что Лис вступил с ним в разговор.
— Ого! Это же разбой, по-моему, что-то с убийством связано,— показал свое знакомство с Уголовным кодексом Валера.
— В больнице лежит, хотя бы коньки не откинул...
— Ты не пудри мозги: то подруга сдала в ментовку, то кто-то в больнице лежит при смерти... Говори по порядку!
— А вдруг вы заложите меня?
— Сдурел ты, что ли? Кому мы тебя заложим?
— Да, я вам расскажу, а вы следователю передадите...
— За кого ты нас принимаешь? Что мы — козлы?
— Ладно, была не была... Хотя я то же самое и на допросе говорил... Пырнули мы с корешем одного фраера, еврейчика, ножиком. Он в реанимации теперь.
— Не бойся,— философски заметил Лис.— Больше десяти все равно не получишь. Ты же несовершеннолетний.
— Почему же? — решил дать консультацию и я.— Если совершено несколько убийств, да еще отягчающие обстоятельства, можно и пятнадцать лет схлопотать. Президиум Верховного Совета СССР в порядке исключения может ужесточить наказание вплоть до высшей меры.
— Нет, мне это не подходит. С «перышком» был мой подельник, я только присутствовал. Да и жив потерпевший.
— Тогда больше десятки тебе не светит,— успокоил я Федю.— Хотя и это, конечно, не сахар.
— Не сахар, я знаю,— быстро согласился он и вдруг стал ощупывать свои карманы. Вытащив из одного целлофановый пакет, успокоился: — Мамаша успела с собою собрать кое-что, чтобы не подох с голоду. За четверо суток в КПЗ все умял, вот остатки...
Новичок выложил на стол граммов триста сала и несколько кусочков сахара:
— Налетай, братва!
Старожилы камеры потянулись к угощению, но я остановил их:
— Мы что, отменяем договор? Вы же знаете — дополнительная пайка выдается вечером... Если Федор отдает продукты в общий котел, порядок нарушать не будем. Хочет за один раз брюхо набить — его дело...
— Я — как все,— присмирел Федор.— Вот только червячка заморю,— и он быстро бросил в рот два куска сахара.
Поесть он любил — это мы увидели за первым же ужином. Опротивевшую нам картошку проглотил, как говорят, в мгновение ока, подобрал со стола крошки и отправил в рот, чуть ли не облизываясь поглядывал на наш «схрон» — место под шконкой, где мы хранили сало. Не прожевывая, расправился с дополнительной пайкой, похлопал себя по животу и первым вылез из-за стола — боялся, что придется убирать.
Надо признать, что освоился он в камере быстро, нашел свое место за столом, запомнил имена и клички, успел прочитать Правила содержания, попробовал даже выматериться...
— Следующий раз получишь десять щелбанов,— предупредил я.
— Ваше высокоблагородие, за что? Разве я в женский монастырь попал?
— Ради тебя отменять договор не будем!
— Подчиняюсь воле большинства...
Юнцам нравилось это выкаблучивание Федора, заковыристые обороты речи, пусть даже применяемые не к месту. А он, по-видимому, уже привык к роли провинциального конферансье, направо и налево сыпал плоскими шутками-прибаутками... Вот так, со смешками и ужимками, рассказал он и о том, что привело его в нашу компанию.
— Вот до тебя, Лис, никак не может дойти, что общего между подругой, которая сдала меня в ментовку, и тем жидовским хмырем, который лежит в больнице. Объясняю популярно: у меня с ними были мимолетные встречи, и та, и другой, к моему несчастью, запомнили мое фотогеничное лицо и, что еще хуже,— мое редкое имя: Федя. И этого было достаточно, чтобы я оказался в кругу новых друзей,— Федор положил руки на плечи Валерию и Олегу, будто в самом деле был несказанно рад знакомству с ними.
— Будь попроще, Федя, и народ тебе поможет,— в тон балагуру заметил я.— А красноречие пригодится на следствии, еще больше — на суде.
Понятно, ваше высокоблагородие. Для широкой публики поясню: сгубила меня любовь к сладкой жизни. Парень я, как видите, на все сто — и собою хорош, и язык подвешен. В любой компании меня принимают. В школе был на хорошем счету — в табеле только четверки и пятерки, в секции «Динамо» — один из лучших, чуть не дотянул до мастера спорта по фехтованию. В общем, все дороги мне открыты. А выбрал я, как оказалось, не ту.
Федор по инерции продолжал кривляться, но видно было, что за пижонством он пытается скрыть испуг, страх; чувствовалось, что его веселье — лишь защитная маска. Если он не врал, то ожидаемая 143-я давала мало повода для оптимизма. Вести рассказ в юмористическом ключе было трудно, и он незаметно для себя перешел на обычный тон:
— После восьми классов решил поступать в медучилище. Хоть и говорят, что там одни девки учатся, мне на это наплевать — после училища легче в институт попасть, а там, знаете, какой конкурс? Узнал, что в Минске невпротык, несколько человек на место, поехал аж в Архангельск. Мать с отцом отговаривали, а я уперся: «Поеду и все!» Устроился неплохо: дали общежитие, рядом библиотека. А я, дурак, попер не в ту сторону — пошел по местным красавицам. С одной переспал, с другой... Деньги родительские кончились, начал грузчиком в порту подрабатывать, сила же есть... Короче говоря, на два экзамена меня хватило, на третьем засыпался...
— И стоило ехать аж на Север? — посочувствовал Олег.
— Вот и родители навалились: потерял, мол, время, дурь свою только показал. Виноват, говорю, исправлюсь. Отец на завод устроил. Но это дело явно не по мне: утром зайдешь — до вечера не выйдешь. А у меня дружки в парке гуляют, «капусту» фарцовкой зарабатывают, меня приглашают. Не выдержал, бросил работу. Кого грабанем легонько, кого припугнем — сам деньги отдаст. Правда, контора на хвост села, пришлось смываться из парка. А тут как раз бильярдная в нашем районе открылась. Я наблатыкался, стал клиентов поддатых шпарить: на полтинник, на рубль... Глядишь, за вечер и наберется на поддачу. Но и тут менты покоя не дают, несовершеннолетний, говорят, пора в постель, «Спокойной ночи, малыши» смотреть...
— Болтаешься, в общем, как говно в проруби,— подытожил я, справедливо считая, что это грубое слово не подпадает под запрет, установленный мною же, на брань.
— Так точно. Вот тут и подвернулся один знакомый. Поставил бутылку и предлагает авантюру. Ему, базарит, один клиент, еврейчик, не отдает долг. Мое дело припугнуть, и стольник у меня в кармане. Взял я аванса два червонца, нашел дружка... Караулим в подъезде, а тот, будто по заказу, вываливает из квартиры. Мы к нему, а он, не будь дураком, назад, за дверь. Ничего, думаем, Никуда не денешься, выловим...
Сокамерники, напичканные подобными историями, слушали Федора, тем не менее, раскрыв рты: вирус уголовщины уже поселился в них, и упоминание о вине, девочках, деньгах, корешах возвращало их в прежнюю жизнь, где они, по их мнению, были сами себе хозяевами.
— Выловили мы должника через два дня. Идет, дипломатом размахивает, чистенький такой пижончик. Мы заволокли его в подъезд, друг мой приставил «перышко» к ребрам: «Отдавай бабки!» А тот, хоть и плюгавый на вид, как врежет мне под глаз. Может, от страха сила появилась, может, денег жалко стало. А дружку надоел этот базар, он и засадил ему «перышко» в бок...
Рассказчику понадобилась пауза. Видимо, он представил кровавое пятно, расплывшееся на пиджаке потерпевшего, недоуменные глаза, услышал стон... Не проронили ни слова и слушатели.
— Приехали за мной через два дня. Я кричу, плачу: «Не знаю ничего, не виноват!» А меня под белые руки — и в больницу. Тот в реанимации открыл глаза и шепчет: «Он».— Федор даже изобразил, как проходило опознание.— Память у него оказалась хорошая. И фоторобот помог составить, и запомнил, что мой кореш крикнул: «Федя, бежим». Ментам оставалось пройтись с карточкой по району, молодых поспрашивать, знают ли похожего Федю. Вот тут чувиха одна, с которой я пару раз имел дело, и заложила меня... И подельник загремел под фанфары, видели вместе со мной, сцапали и тоже в больницу, на опознание... Вот так за два червонца две молодые жизни пропадут...
Он был далеко не дурак, этот Федор, и понимал, смягчающие обстоятельства в этой кровавой истори наити вряд ли удастся. Мучило ли его раскаяние, сказать трудно; вслух сожалел лишь о том, что не признался в преступлении сразу. Может, это и зачлось бы ему.
Привычка быть со всеми на короткой ноге, по поводу и без повода острить, вставлять, как говорится, свои два гроша, когда об этом не просят, приносила Федору немало неприятностей. Уже с первой встречи он сумел восста новить против себя воспитателя. Тот зашел в камеру не в лучшем, как оценили пацаны, настроении. Придравшись к мелочи, отчитал дежурного — Юрку. (Я в это время был у следователя.) Юрка смолчал, безропотно выполнил указание Рыжего. Но тут черт дернул за язык Федора:
— Что вы, гражданин воспитатель, нашего заморыша прорабатываете? Ему и так дна дня до смерти осталось, а после вашей морали — и вообще сутки...
— С ним я без тебя разберусь. А твой язык, видимо, придется укоротить, больно ты его распустил. Здесь камера изолятора, а не подворотня, где можно трепаться... И я не твой дружок. Пока не спрошу, изволь мол чать!
Обозленный старший лейтенант неожиданно прика зал поднять матрацы. То ли он заметил какой-то мусор под койками, то ли видел подобное в других камерах, на сетках кроватей обнаружил картон и плотную бумагу. Пацаны доставали эти обрывки из ящиков, в кот нам приносили детали игрушек, и клали под чтобы тот не проваливался.
— Может, еще перины прикажете принести? А под подушку подарки положить?.. Если не нравятся постели, могу определить в карцер, там вообще спать не на чем. Тогда эта камера раем покажется...
Все четверо молчали, недовольно поглядывая на Федора. Прикусил язык и он, понимая, что попался под горячую руку и что его болтовня может выйти боком. Так и получилось — Рыжий забрал его с собой.
Обо всем этом пацаны сразу рассказали мне, едва я вернулся в камеру. Следом появился и растерянный Федор:
— Ну и прилипчивый же ваш Рыжий. Все жилы вытянул. Сказал, что поставил на особый учет. Только мне все это...
Услышав забористую брань, я кивнул Олегу: Отпусти ему десять «горячих»!
— Каких еще горячих, за что?
— Не прикидывайся. Тебя еще вчера предупредили, что материться в камере не положено. Так что готовь свой лоб.
— Пусть только дотронется. Я ему такие щелбаны покажу!
— Хорошо. Тогда мы лишаем тебя общего котла. Живи без дополнительной пайки.
— Без жратвы я загнусь. Согласен, пусть Бегемот бьет щелбаны.
Экзекуция состоялась. Федор подчинился общему решению, мы же показали, что исключений из правил быть не может. Его надо было сразу поставить на место, сбить спесь, не дать сесть на голову. Правда, он скоро забыл о наказании, вновь собрал вокруг себя публику.
— Меня три дня в КПЗ продержали. Сидел там с каким-то дедом, старый зэк, со стажем, двадцать семь лет на «хозяина» отпахал, говорил. Наслушался от него баек — на всю оставшуюся жизнь хватит.
— У тебя еще все впереди,— не удержался от подколки Валерий.— На зоне не то еще услышишь.
— Тебе шесть лет выпишут, мне столько же, может, встретимся, — моментально нашелся Федор.— Так что не вякай, Лис.
— И правда, не мешай человеку,— Олег недовольно глянул на Валерия.— Пусть рассказывает про деда.
— Устами младенца глаголет истина,— Федя сделал реверанс в сторону самого младшего.— Этот дед, доложу вам, хитрый из хитрых был. С виду дохлый — маленький, тощий, беззубый, лицо, как печеное яблоко. Замухрышка, в общем.
Кантуется он один раз в СИЗО, вот как мы. А сидят с ним молодые, по первому разу попали, но корчат из себя зэков со стажем. Кто в своих шмотках пока, кто уже в робах. Начали над дедом издеваться: подначки разные, подколки... Вот как Лис, например... Дед молчит, что ему со шпаной связываться. А те достают и достают... Посылают ради хохмы за чаем и водкой. Деду надоело, согласился, говорит: «Давайте деньги». Те говорят, что денег, мол, нет, возьми вот пиджак кожаный, костюм спортивный. Поведут на прогулку, а ты и смойся... Ржут, аж заходятся от смеха. А дед шмотки в торбу сложил, ждет, когда на прогулку поведут. Тут дверь открывается и деда с вещами на выход зовут. У пижонов варежки открылись я закрыться не могут... Так и уплыл дед вместе с пиджаком и костюмом...
Сочинил ли Федор историю, был ли такой дед на самом деле — не столь важно, но подростки оценили его сообразительность по высшему разряду. Особенно долго не мог успокоиться Юрка:
— Думали, что малой и дохлый, так на нем и ездить можно. А он им фигу показал,— сделал он неожиданный вывод, поставив себя и деда на одну доску. И хотя сам рассказчик такой параллели не проводил, Юрка посчитал себя вечно обязанным нечаянному заступничеству и безропотно сносил с этой минуты все художества Федора.
А тот все не мог отказаться от привычки перечить всем и каждому. Очередное ЧП случилось с ним в кабинете фельдшера. Ему предстояла неприятная процедура — сдать мазок из анального прохода.
Эта доля не минула никого, все прошли через тот кабинет, все, вернувшись, кляли на чем свет стоит медичку. Для Федора же визит в санчасть закончился очередной взбучкой от воспитателя. Оказывается, он решил позаигрывать с фельдшером, женщиной лет двадцати пять. На ее просьбу повернуться к ней спиной и нагнуться, наш «герой- любовник» нагло заявил, что «он привык с женщинами иметь дело передом». Та, конечно, пожаловалась Рыжему. И вот теперь «шутник» находился в шаге от карцера: еще одна выходка, пообещал воспитатель, и место на киче обеспечено. Но винить Федору было некого.
Камера изолятора была тесной для каждого из нас, каждый старался вырваться из этих глухих стен. Новичок Федор, разболтанный и не признающий никаких ограничений, превратил ее в арену каких-то кошмарных представлений, рожденных его буйной дикой фантазией. Объектом своих дурацких розыгрышей он выбрал бедного Юрку. Тот смотрел на него, как кролик ва удава, испытывая страх и одновременно стараясь подражать его выходкам. Как это уживалось в нем, одному Богу известно, но он безотказно играл роль дурачка в поставленной Федором комедии.
Обращаться к своему мучителю Юрка должен был только с прибавлением титула «ваше высокоблагородие», стоять перед ним навытяжку, держа руки по швам, подходить только строевым шагом. Любое нарушение этого ритуала каралось или щелбанами, или, что еще хуже, принуждением пить воду. Мне при всем желании не удавалось оградить Юрку от издевательств — я часто отсутствовал в камере, да и невозможно было уследить за каждым шагом развлекающихся таким образом юнцов.
Одна из «шуток» едва не закончилась для Юрки трагически. Проиграв Федору какой-то спор или не точно выполнив очередной дурацкий приказ, он обязан был выпить три поллитровые кружки воды. Такое количество отдающей хлоркой жидкости Юркин ссохшийся желудок вместить не мог, вода пошла назад, это извержение сопровождалось рвотой, конвульсивными подергиваниями всего тела. Лицо бедного паренька позеленело, глаза закатились, ноги елозили по скользкому цементному полу. Картина была просто ужасная. Приподняв потерявшего сознание, мы уложили его на койку, забыв о всех инструкциях и запретах. Минут пять спустя он пришел в себя, виновато улыбнулся через силу...
Не лучше выглядел в эти страшные минуты и инициатор затеи. Побледневшее лицо, напрягшиеся скулы, испуганные глаза выдавали страх, боязнь расплаты. Но лишь Юрка очухался, Федор включил старую пластинку'.
— Что с тебя возьмешь, недоносок. Хвалился, что самогон пил стаканами, а тут от воды чуть концы не отдал.
— Прекрати! Еще один твой фокус — и вылетишь из камеры, как пробка! Эксперименты ставь на себе, других не трогай.
Мой взрыв напугал Федора не меньше, чем Юркин, по сути дела, припадок. Он непривычно замельтешил, будто уменьшился в размерах, заискивающе спросил:
— Что, оклемался, Юрка? Легче стало? Сказал бы, что вода не лезет. Разве я не понимаю.
— Отстань от него! Пожалел волк ягненка.
Но на прогулке Федор держался поближе к пострадавшему, чуть ли не поддерживал под локоть, а когда возвращались в камеру, то на лестнице даже подставил плечо. Правда, тут же заработал замечание от конвойного:
— Не в парке под ручку прогуливаетесь! Тоже мне — друзья-подружки! Сообщу воспитателю!
— Да, парком тут и не пахнет,— потянул носом Валерий, первым зашедший в камеру.— Кто последним уходил?
— Я,- смущенно признался Олег.— Забыл открыть окно в суматохе. На Сопливого загляделся.
— Загляделся... А теперь дыши блевотиной и вонью из параши...
Действительно, после улицы, после голубого, хоть и в клетку, неба, воздух в камере да и вся атмосфера в ней были настолько противными, что невольно хотелось хоть на ком-нибудь согнать злость, тем более, что Олег был действительно виноват.
У Валерия был еще один, более серьезный повод для раздражения: у него разболелся зуб. Зубная боль и в нормальной жизни доставляет массу неприятностей, без медиков не обойтись, а уж в камере изолятора муки удесятеряются. Лис записался на прием к врачу с утра, но уже приближался вечер, а о помощи и слышно не было. А тут еще дружки рассказами запугивают. Юрка вдруг припомнил, что кому-то из соседней камеры вместо больного зуба здоровый вырвали...
— Не бреши! — прикрикнул Олег.
— Вот те крест!
— А что, может быть,— поддержал Федор.— Кому ы здесь нужны?.. Врачам наша боль до лампочки...
Валерий держался за опухшую щеку, раздраженно ходил от окна к двери. Не выдержав, нажал кнопку для вызова контролера.
— Что такое? — показалось в кормушке красное лицо сержанта.
— Зуб болит. К врачу на прием с утра записался, а все не вызывают...
— Когда надо, вызовут. Потерпишь.
— Перегаром, как из бочки пивной, несет,— нашел еще силы прокомментировать Лис.— Вот бы мне сто граммов на зуб.
— Многого хочешь. Если тебе кто поможет, так это я,— Федор вновь завладел вниманием,— Знаю способ, гарантия — сто процентов.
— Отцепись, мне и без твоих хохмочек жить не хочется...
— Нет, без трепа. Все просто: к больному зубу приставляешь торцом карандаш. К другому концу карандаша, что торчит наружу, приставляешь книгу. Просишь меня, я бью кулаком по книге, зуб вылетает с корнем. Одна секунда — и операция закончена! Проверено не один раз...
— Ну тебя, Федька, я думал, ты серьезно...
— Давай попробуем. Тебе же легче будет, а то где та врачиха. Уже вечер, а она и не думает идти...
— Перестаньте дурачиться. Пропорешь рот человеку. Тебе что, дураку, лишь бы зубы поскалить.
На этот раз я сам подошел к двери и вызвал контролера. Из кормушки в самом деле пахнуло таким сивушным духом, что я даже закашлялся.
— Что надо?
— Позовите дежурного врача. У парня зуб болит, щека опухла, места себе не находит.
— Ладно.
Когда спустя час вновь открылась кормушка, Валерий уже корчился от боли.
— Кто это тут такой нежный? — раздался недовольный женский голос.
— Скоро на стенку полезу. Терпеть больше не могу,— еле ворочая языком, промычал Лис.
— Покажи рот!
Валерий присел на корточки, чтобы его голова была на уровне кормушки, широко раскрыл рот, ткнул пальцем в больной зуб.
— Ничего страшного, выживешь до утра. А пока возьми таблетки,— врач протянула Лису какое-то лекарство...
Грех было смеяться (да и было ли над чем?), но картина со стороны действительно выглядела комично: сложившийся вчетверо Валерий с широко открытым ртом по эту сторону кормушки, а там, в коридоре, в такой же позе дежурный врач — женщина. Наверное, даже зверей лечат по-другому, не отгораживаясь от них железной дверью. Но у тюрьмы свои законы, свои нравы. И обе стороны достойны друг друга.
Обрадованный Валерий не успел разогнуться, как последовал приказ:
— Набери воды в кружку и запей таблетки при мне.
Пришлось подчиниться и выполнить процедуру в скрюченном состоянии. Все это здорово попахивало маразмом, причем инициатором этого дикого представления была женщина-врач. Не с лучшей стороны показала себя медицина СИЗО и назавтра, когда Валерий наконец то попал к стоматологу. Несмотря на слезные просьбы, зуб лечить не стали, хотя было достаточно его почистить и поставить пломбу. Церемониться с заключенным здесь не принято: у Лиса, ничтоже сумняшеся, зуб удалили, «выдрали с треском», как он со злостью сказал.
— Я бы тому козлу всю его бороду выдрал,— не мог успокоиться он в камере,— Безнадежный зуб, говорит, что время терять. А сам лыбится, сволочь.— Характеристика хирурга была составлена, правда, в более крепких выражениях, но я не стал применять к Валерию штрафные санкции, потому что всецело был на его стороне. По сути дела, был применен тот же способ, что предлагал и Федор, только ему придали статус врачебной помощи.
Местная медицина не церемонилась с подневольными пациентами. Наш же Юрка ожидал этапа на психиатрическую экспертизу, в знаменитые «Новинки». Мне довелось бывать там, когда вел следствие по обвинении Адамова. В стражном отделении, куда помещали подозреваемых или подследственных, действовали столь же строгие законы, как и в изоляторе, и решетки были на кнах, и охрана. Но для многих моих несовершенно- етних сокамерников (за все время у меня их было около тридцати) попасть в «Новинки» было чуть ли не голубой мечтой. Одни надеялись, что их признают умственно неполноценными и освободят от уголовной ответственности, другие планировали «закоситы», т. е. симулировав болезнь, но в первую очередь все они предвкушали, как растянутся на чистых простынях, как отъедятся на больничных харчах. Юрке месяц в «Новичках» виделся прямо-таки медовым месяцем, и он с нарастающим нетерпением встречал каждую среду, когда в изоляторе форми- решали этапы.
И этот день наступил. Накануне вечером, во время обязательной проверки, работник изолятора произнес наконец долгожданную фразу:
— Завтра собирайся с вещами.
За четыре месяца, за бесконечных сто двадцать дней, что провел с ним в камере, я привык к этому сельскому пареньку. Круг его интересов был предельно ограничен: еда, спиртное, табак, причем очередность этих трех компонентов, составляющих жизненные потребности, менялась в зависимости от ситуации, в которую он попадал. На воле он всеми правдами и неправдами добывал самогон, затем нехитрую закуску, а если еще удавалось после этого и закурить, то он чувствовал себя на седьмом небе от счастья. В изоляторе, как и большинство здешних обитателей, Юрка блаженствовал, когда перепадала дополнительная пайка хлеба с салом. На прогулке пределом мечтаний был брошенный кем-то окурок сигареты. Даже естественные в его возрасте разговоры о девушках, женщинах вроде бы не волновали его. Хотя ради точности стоит сказать, что у меня с ним перед самым его отъездом в .«йовищ.и» произошел неприятный инцидент. Может быть, слишком щепетильному читателю покажется лишним этот эпизод, но... из песни слов не выбросишь.
Койки в камере располагаются вдоль стен: три двухъярусные с одной стороны, две — с другой. Мыс Юркой спали в длинной секции, оба на нижних койках пятки к пяткам; Валерий, Олег и Федор — у другой стены. Спал я все ночи плохо, просыпался от любого звука, шороха, лая собаки за окном, сирены машины. В ту ночь меня вывело из тяжелого забытья непонятное подергивание койки и скрип панцирной сетки. Сквозь прищуренные веки я увидел (свет в камере горит круглосуточно), что Юркины руки бугрятся под одеялом как раз в том месте, где находится признак его мужского достоинства. Юрка занимался тем грехом, которому подвержены многие заключенные,— онанизмом.
— Сейчас же перестань! — шепотом приказал я ему.— Стыдно!
Он моментально повернулся к стенке, притих, засопел носом. Потом я услышал ровное дыхание — сон сморил юного грешника. Конечно, рассуждать и теоретизировать на эту непростую тему — дело довольно скользкое и неблагодарное. Но факт остается фактом, как ни закрывай глаза — половые извращения процветают и в лагерях, и даже в изоляторах. Так называемые «петухи» — изгои уголовного мира — являются разносчиками венерических заболеваний, а теперь и чумы двадцатого века — СПИДа. А вербуют в эту касту отверженных вот таких безвольных юнцов, как Юрка, которые не могут за себя постоять, дать отпор. Из рассказов сокамерников да и работников изолятора знаю, что в СИЗО негласно существуют камеры «петухов», куда могут за любую провинность определить подследственного, чтобы получить необходимые показания. Пусть обойдет стороной чаша сия любого человека...
Наутро Юрка отводил глаза, старательно прибирал в камере после завтрака, сам вызвался убрать возле унитаза.
— Догадливый ты, Сопливый. Забирай свою вонь с собою,— так и не нашел добрых слов на прощанье Федор.— Жалко, что не заставил тебя вчера носки постирать.
Юрка терпеливо сносил оскорбления, всеми помыслами он уже был в больнице: в светлой палате (пусть и с решетчатыми окнами), в чистой пижаме (пусть и не по росту), ел котлету (!) с картофельным пюре и запивал компотом (!). Умиротворенный вид уходящего не давал покоя Федору и Валерию Лису. Без всякой на то причины они неожиданно влепили сидящему рядом со свернутым матрацем Юрке по затрещине. Это не были традиционные проводы, принятые в уголовном мире, это была какая-то спонтанная злость, пожалуй, даже выражение собственного бессилия.
Пришлось вступиться:
— Вы прямо-таки проситесь в карцер, считайте, одной ногой уже там...
— Закозлишь, старшой?! — Федор буквально повторял все выходки и даже слова Шустрого, испытывая мое терпение.
— Нет. Скажу в вашем присутствии, что никакие уговоры на вас (в первую очередь — на тебя) не действуют, что вам надоело в камере и вы хотите попробовать карцерного хлеба. Если не помнишь, могу прочитать...
Я подошел к стене, где вывешены Правила содержания и медленно процитировал:
— «Горячей пищей в карцере обеспечиваются через день по пониженной норме. В день лишения горячей пищи выдается только хлеб, соль и кипяток». Как, нравится?
— Не хватало еще за какого-то Сопливого на кичу попадать,— пренебрежительно сморщился Федор, но пошел на попятный.— Пусть только знает место, не высовывается из своего навоза.
— Можно подумать, что у тебя графская или княжеская кровь,— не давал я ему сесть на любимого конька.— Такой же, как все.
— Мой отец все-таки инженер, а не чистит коровник,— не сдавался он.
— Сейчас инженеры работают и на больших фермах, на комплексах. И заметь, получают они сто пятьдесят — сто семьдесят рублей, как, наверное, и твой отец, а хорошая доярка больше двухсот. Так что еще подумать нужно, у кого родители более важный пост занимают.
Приводя эти цифры, я, конечно, понимал зыбкость своих доводов. Во многом из-за обесценивания творческого труда и сидит наше общество в луже, но это тема для другого разговора. Федора же разница в заработке сбила с привычного тона, он стушевался:
— С тобой, старшой, каши не сваришь. Чувствую, что ты не прав, а доказать не могу.
— Правда дополнительных доказательств не требует,— назидательно закончил я ликбез сокамерников, услышав, что открывается дверь,— это пришли за Юркой.
В камере стало просторней. Мы начали чаще открывать форточку на улице стояла настоящая весна, воздух наполнился пьянящими запахами оттаявшей земли, пробуждавшихся от зимнего сна деревьев; все громче за окном орали дерущиеся воробьи. Там, за толстыми стенами и решетками, шла жизнь, к нам доносились лишь ее слабые отголоски, но и они радовали нас.
После очередной прогулки, возбужденные и немного очумелые, юнцы сбросили мокрые ботинки, пристроили их на батарее и вдобавок засунули ступни ног в щели радиатора. В таком положении и застал их воспитатель.
— Опять нарушение! Правилами категорически запрещено что-либо ставить на батарею или под нее. Пора мне вас действительно наказать, распустились совсем. Наверное, новенький мутит воду,— и он неприязненно посмотрел на Федора.
— Нет, гражданин воспитатель, пока с ним все в порядке,— неожиданно даже для самого себя вступился я за Федора.— Находим общий язык.
— Надо только, чтобы у него этот язык был покороче,— подвел черту под разговором старший лейтенант.— А ботинки от радиатора убрать. И немедленно.
...— Злопамятный,— недовольно протянул Федор.— Надо с ним поосторожнее, а то он на меня зуб имеет. А ты, старшой, ничего мужик. Не заложил меня за Сопливого, не стал козлить... Хочешь, в шахматы сыграем?
Переменам в его настроении можно было только удивляться. Переход от беспричинной злости к нормальному человеческому тону совершался в мгновение ока, так что собеседник часто терялся, не зная, как реагировать на такие пируэты.
— Что ж, расставляй фигуры, - после паузы согласился я.
Обыграл он меня довольно быстро — провел несколько комбинационных ударов, и моему королю было некуда деться.
— Думать надо, шевелить серым веществом, если оно есть,— не скрывал удовлетворения победитель.
Поражение от юноши задело меня, и во второй партии я был более внимательным, осторожным, но и то лишь смог свести ее вничью. Третью, контровую, Федор отказался играть: «Устал, давай отложим на вечер».
Победа над старшим по возрасту подняла его настроение, но и тут проявилась неровность его характера. Нам, как обычно, дали работу, но Федор всячески отлынивал
— Тут руками надо скрести и ножом, а я больше головой привык работать, у меня лучше получается. Правда, старшой? — с издевкой спрашивал он у меня.
Я отмалчивался, а Валерий с Олегом подгоняли его, нe давая филонить.
— Мы за тебя пахать не будем. Оставим твою до хоть до отбоя возись.
Тогда у Федора родился «гениальный», но его словам, вариант. Он предложил оставить на дне ящика необработанные игрушки, прикрыв их сверху доведенными до кондиции.
Играешь с огнем, Федя! И сам залетишь, и пацанов под монастырь подведешь,— не дал я развить ему дею.— Да и у Рыжего к тебе отношение особое, ты же знаешь.
— Это ты проигрыш в шахматы никак не стишь,— нашел выход бездельник.— Не можешь работать головой, работай руками, а я и так проживу.
— В шахматы мы с тобою, как и договорились, сыграем вечером. А игрушки надо довести до толку сейчас. Халтуру начальство не пропустит, к тому же представь, что эта игрушка с браком попадет к твоей сестре. Заусенцы острые, приятно будет ей?
Вряд ли я переубедил его, но и Олег и Валерий продолжали работать, так что пришлось и Федору вновь взяться за нож, хотя он и бурчал недовольно о рабском труде, о мизерных копейках, которые платят за него.
Матч-реванш в шахматы закончился моей победой: то ли у соперника пропала охота играть, то ли он переоценил свои силы; возможно, что и я выглядел более собранно — счет оказался полтора на пол-очка.
— Задницей выиграл,— обиженно проговорил Федор.— Сидишь, будто корову проигрываешь. У меня терпения не хватает, ты и пользуешься.
— Плохому танцору всегда что-нибудь мешает,— не стал я щадить его самолюбия.— Привык все с наскоку делать, пыжишься, как петух гамбургский.
Сказав последнюю фразу, я тут же пожалел, что она вырвалась у меня в запальчивости; в такой среде слово «петух» — наибольшее оскорбление. Федор с угрозой проговорил:
— На воле я бы с тобой за «петуха» рассчитался, старшой. А так, не хочется на кичу попадать...
На прогулке он все-таки решил отомстить мне и стал назойливо предлагать побоксировать с ним. Я отказывался, но его приставания становились все нахальнее. Надо было поставить наглеца на место, и я принял боксерскую стойку. Добрый десяток лет не вспоминал я спортивное увлечение своей молодости, но старое не забывается, и вскоре ноги начали привычно приплясывать, помогая то сокращать, то разрывать дистанцию; руки прикрыли подбородок. Кулаки Федора рассекали воздух или чуть дотрагивались до моих предплечий. Время от времени я подставлял под удары ладони, будто тренер специальные перчатки — боксерские «лапы». Когда мой соперник выдохся и движения его стали беспорядочными, он начал «проваливаться» при ударах на опасную для него дистанцию. Тут-то я и решил прощупать его легкими ударами по корпусу, изредка переводя серию на голову. Он, по сути дела, превратился в тренировочную грушу, но я щадил его, зачастую лишь обозначал удары, не акцентируя их. Но и этих «поглаживаний» оказалось вполне достаточно, чтобы Федор стал хватать ртом воздух, трясти головой.
— Сдаюсь,— наконец хрипло выдохнул он.
Зрители — Валерий и Олег, естественно, были на стороне своего ровесника, но затем смогли оценить мою игру на тюремном ринге и начали болеть за меня. А когда Федор сам признал поражение, мой авторитет стал безоговорочным. Правда, Федор не был бы самим собой, если бы чуть спустя не попытался найти оправдание своему поражению:
— Я, старшой, в два раза младше тебя. Нас вместе и на ринг выпускать нельзя, если по правилам...
— Вот тут ты не прав, дружок. Слышал про такого Мохаммеда Али?.. Правильно, был чемпионом мира среди боксеров-тяжеловесов. А теперь слушай и запоминай: он выиграл Олимпийские игры, когда ему было столько лет, сколько тебе, а потом перешел в профессионалы.
Крыть Федору было нечем, он, морщась и вздыхая, незаметно для других массировал покрасневшие скулы, поглаживал ребра — мои удары хотя и были вполсилы, но оказались довольно чувствительными. Конечно, поддерживать престиж таким образом было с моей стороны не совсем педагогично, но я не сбился на обыкновенный мордобой, наоборот, показал и Федору и сокамерникам, что сила — не главный аргумент в споре, даже в боксе. Принес тот поединок и совсем уж неожиданный результат: у Федора появилась кличка — Тяжеловес. Валерий Лис подметил его неуклюжесть, а Федор и не стал сопротивляться, когда его перекрестили по тюремным правилам. Впрочем, он, будто невзначай, вспомнил, что прежние дружки именно так и звали его в своей компании.
Надо сказать, что Федор Тяжеловес основательно готовился к долгой жизни в изоляторах и на зоне. Преступление у него было одно из самых опасных, суровое наказание неминуемо, и он то ли сознательно, то ли интуитивно вырабатывал в себе качества, которые позволили бы ему не опуститься на лагерное дно. Помогали незаурядные природные данные — сообразительность, аналитический ум, немалая физическая сила. Склонность к шахматам предполагала успех в карточной игре, внушительные бицепсы, которые он регулярно «качал» в камере, невольно вызывали уважение. Был у него и еще один козырь, один из главных в тюремной жизни,— нахальство. И вот в нашей, в общем-то относительно спокойной, камере Федор как бы моделировал свое поведение в будущей жизни: задирался со мною, старшим по возрасту, пытался терроризировать более слабых, искал способы обмануть работников изолятора. Получив отпор от меня, тут же попытался отыграться на сокамерниках. Повода долго ждать не пришлось. По субботам в камере проводилась генеральная уборка, в которой участвовали все «жильцы», но самая грязная работа выпадала дежурному, им оказался в ту субботу Тяжеловес.
Как обычно, свернули матрацы и положили их на верхний ярус коек. Там же нашлось место и коробу для хранения продуктов. Я вылил на пол несколько тазиков воды, Валерий и Олег, сбросив ботинки, стали намыливать его (для этого специально выдается несколько кусочков хозяйственного мыла). Новым веником, дерка- чом, я загонял воду под койки, насколько мог достать, тер цементное покрытие, благо, выбоин там было меньше, чем на середине камеры — на проходе и под столом. Федору предстояло мыть санузел, но он, будто забыв об обязанностях дежурного, стал босиком шлепать по мыльным лужам на полу, делая вид, что помогает ребятам. — У тебя своя работа есть,— напомнил я.— Они без тебя управятся.
— Бегемот самый младший, пусть и драит...
— Нет, дежурный ты, нечего отлынивать!
Унитаз располагается в углу камеры, справа от входа.
Это самое вонючее место в камере, и не только из-за своего прямого предназначения. Водопроводная труба постоянно покрыта противной слизью, стены, сколько их ни вытирай, «плачут», из жерла унитаза несет испражнениями. В день генеральной уборки для приведения в порядок этого хозяйства выделяется граммов двадцать стирального порошка. Пришлось Федору, как он ни морщился, взяться за работу. Однако и здесь он решил поступить по-своему. Обычно вначале чистили два крана — для слива воды в унитаз и другой, для умывания, доводя их до блеска отбитыми кусками штукатурки. Тяжеловес, чертыхаясь и грозя неведомо кому, сразу вымыл унитаз. А мы еще не управились с полом, и ребята то и дело отжимали в белую раковину грязную тряпку.
— Вы что, гады, издеваетесь?
— Не надо спешить поперед батьки,— Лис вылил очередную порцию воды.
Кулаки Федора сжались, еще секунда — и он набросится на невольного обидчика.
— Сам виноват. Злость — плохой помощник,— пришлось вступиться уже мне.
Мыльная тряпка полетела за унитаз. Тяжеловес, оглянувшись на глазок в двери, отбил пластину побелки и начал яростно натирать краны. Довольный Лис хотел снова подколоть Федора, но я вовремя остановил его — драка назревала, и во второй раз удержать Тяжеловеса было бы трудно. Мы уже закончили уборку, уселись на свободную койку и, болтая босыми ногами, отдыхали. Федор же повторно мыл унитаз...
Сколько ни пытался я скрасить свой да и сокамерников однообразный серый быт чтением книг, ежедневной физзарядкой, как ни старался убедить подростков в необходимости сохранить человеческий облик, не дать развиться животным инстинктам, тюрьма регулярно напоминала, где мы находимся и каково наше положение. Причем больнее всего задевали человеческое самолюбие мелочи, на которые в другой обстановке и не обратил бы внимания. Для меня, например, настоящей мукой стала процедура бритья.
Всем мужчинам в СИЗО два раза в неделю было положено бриться. Открывалась кормушка, и высохший, будто осенний лист, старик лет семидесяти протягивал прибор для бритья. Конечно, надеяться на «Жилетт» было бы слишком, но то, что нам выдавали, было пригодно разве что для свиньи, да и то уже заколотой. Разболтанный, без многих необходимых деталей станок и главная мука — лезвие марки «Нева». В то время «Невой» были завалены все прилавки галантерейных магазинов — мужчины начисто игнорировали эту продукцию ленинградского завода, настолько низким было ее качество. Вот МВД, видимо, и выручило бракоделов, закупив оптом миллионы лезвий для своих исправительных заведений. Но и этого было мало — «Неву» пускали в оборот несколько раз, в результате бриться приходилось тупым и выщербленным куском жести. Мои молодые сокамерники, которым, слава Богу, было еще рано испытывать подобные муки (они разве что для форсу подправляли еле пробивавшиеся усы), каждый раз с нескрываемым любопытством наблюдали, как я скребу свою жесткую щетину. Комментарии их были довольно злыми, но я прощал их, лишь иногда в сердцах напоминая, что впереди у некоторых из них зона, а там порядки те же. Острословы умолкали, я же продолжал почти бесполезные попытки выбрить подбородок. Хозяйственное мыло не растворялось в холодной воде, не пенилось, лезвие скрежетало, кожа краснела, будто от ожога, появлялись порезы. Контролер, которого я однажды попросил заменить лезвие, выдать популярный «Спутник», отмахнулся:
— Завяжи ... на узел, не ты первый, не ты последний...
Глядя на сытую, ухмыляющуюся физиономию, я чуть не посоветовал побрить «Невой» тот орган, который он мне предложил завязать. Но вовремя сдержался: «он — начальник, я — дурак...»
...О том, что за окнами бушует настоящая весна, мы узнали от невысокого симпатичного юноши — нашего нового жильца. С первых же мгновений он держался на удивление спокойно, без подобострастия и без высокомерия. В общем, пришел, как равный к равным.
— Владимир. Из Борисова.
— Здорово, земеля! — бросился к нему Лис.— А я-то думал, что загнусь тут, а своих никого не увижу... Ты где живешь?
— В новом микрорайоне, за мостом...
— А я в старом городе. Ну, это ничего... Главное, что свой человек в хате появился...
— По правде говоря, я лучше бы на воле остался,— резонно заметил Владимир.— Мне там неплохо жилось...
— На чем попался?
— На краже,— коротко, не желая откровенничать, ответил новосел и взялся застилать койку.
Учить его не пришлось, он лишь взглянул на соседнюю и вскоре его кровать нельзя было отличить от Олеговой. «Работать будет хорошо»,— подумал я. И не ошибся: когда в камеру принесли заготовки для игрушек, Владимир быстрее всех определил, какие именно дефекты надо устранять, и без всякого понукания взялся за дело. Нож ловко ходил в его руках, игрушки будто сами поворачивались к нему нужной стороной, заусенцы срезались подчистую, без лишних царапин и зазубрин. Старожилы искоса поглядывали на него, Федор иногда недовольно хмурился, но до поры до времени молчал. Лишь когда Владимир особенно тщательно обработал игрушку, чуть ли не отшлифовал ее, Тяжеловес не выдержал:
— Что ты облизываешь каждую деталь. Не церковь строишь...
— Ты церковь не трогай...
— Смотри, задело! — Федору необходима была разрядка, и он рад был возникшей вроде бы из воздуха теме.— Может, ты в Бога веришь?
— Верю,— серьезно ответил Владимир и, расстегнув ворот рубашки, показал небольшой нагрудный крестик.
У пацанов округлились глаза, не смог скрыть удивления и я.
— Тебя что, не шмонали? Или в бане не был? — И шмонали, и мылся. А нашел я крестик в отстойкике, где держали перед тем, как сюда привести. Смотрю — лежит между досок Я поднял — и на шею.
— Сними,— дал совет его земляк Лис.— Воспитатель, Рыжий, если увидит,— сразу хай поднимет, а то карцер загонит.
— А чего он ко мне под рубаху полезет, что я — девка? — попытался перевести все в шутку новичок.
— Каждые десять дней он раздевает всех до пояса и смотрит, нет ли синяков, не появились ли наколки. Осмотр почище, чем у медсестры.
— Тогда другое дело,— согласился Владимир и, сняв с шеи крестик, запрятал его в прореху матраца. Олег и Валерий промолчали, а Федор презрительно фыркнул.
Мне уже доводилось говорить о том, что мои сокамерники постоянно вели то скрытую, то явную борьбу за лидерство. В последнее время на первый план, несомненно, вышел Федор Тяжеловес. Ни Валерий, ни Олег не составить ему конкуренцию, и лишь мое присутствие мешало ему превратиться в настоящего диктатора. Не очень приметный с виду новичок Владимир не стал Федору поперек дороги, но сразу же заявил о независимости, об умении постоять за свои интересы и, возможно, убеждения. Помню, мне показалась безрассудной его попытка победить Федора в борьбе на руках. Он только что сам видел, как Тяжеловес, хотя и с трудом, расправился со мной: как я ни сопротивлялся, моя ладонь оказалась прижатой тыльной стороной к скамейке. У Федора в самом деле были тренированные объемные мышцы, солидный вес и немалая, видимо, практика. Положив мою руку, победитель по обыкновению расхвастался, распетушился- услышал негромкий голос Владимира:
— Давай со мной.
Федор скорчил смешную рожу, прищурился, будто разглядывал что-то маленькое, микроскопическое, затем лениво согласился.
Потрудиться ему пришлось, пожалуй, больше, чем в схватке со мной. Владимир раза в полтора уступал ему в весе, был меньше ростом, плечевой рычаг у него был короче, но сдаваться он не хотел ни за что — настырности у него было на троих. Верх взяла, конечно же, грубая сила. Федор был намного мощнее соперника. Но выходить из борьбы побежденным Владимир не любил. Вначале он предложил скрестить руки Олегу, а когда, отказался, вызвал на поединок Валерия. Нельзя было не позавидовать его характеру и упорству: он опять-таки проигрывал Лису по физическим данным, к тому же только что выдержал натиск Тяжеловеса. Казалось, у него лопнут жилы или вылезут из орбит глаза, вот-вот переломится тонкая кисть — так велико было напряжение. Однако победа была за ним — Валерий расслабил руку, и она прилипла к скамье. И хотя Лис протестовал, что земляк, мол, нарушал правила, привстал, его никто не слушал — победа была безоговорочной.
От моих юных соседей по камере в любую минуту можно было ожидать самых неожиданных сюрпризов. Нередко выходки их были злыми и жестокими, порой заявляла о себе ищущая выход энергия, а то и просто обыкновенная дурь. Одергивать, уговаривать, читать им постоянно нотации мне не хотелось, да и не было у меня таких прав. Не дать ссоре перерасти в драку, поддерживать в камере чистоту — вот тот минимум, который от меня требовался. Попытки же пробудить в их неокрепших и заблудших душах чувство вины перед близкими,— перед потерпевшими от них — это была моя собственная инициатива, своего рода применение на практике теоретических изысканий, которыми я занимался, работая над дипломом юриста в БГУ имени В. И. Ленина. Кое-что мне удавалось, какие-то мои подходы натыкались на глухую стену непонимания. Больше всего недоразумений возникало из-за глубоко укоренившегося убеждения, что все инструкции, правила для того и создаются, чтобы их нарушать. Кстати, такое неуважение к Закону и подзаконным актам характерно для всего нашего общества. Власть предержащие используют их в своих целях, интерпретируя в зависимости от ситуации, а рядовые граждане, не говоря уже о преступниках, ищут всевозможные лазейки, чтобы обойти Закон. Вся наша жизнь — это балансирование на грани между «можно» и «нельзя», а если говорить проще, мы исповедуем два принципа: «не пойман — не вор» и «авось пронесет». Кому не повезет, тот оказывается в местах, не столь отдаленных, другие временно благоденствуют. Климат неправового общества прямо-таки подталкивает к совершению преступлений, и наиболее пагубно он сказывается на молодых людях. Мои несовершеннолетние сокамерники, страшась наказания, раскаивались в содеянном, но в то же время возмущались (и завидовали), вспоминая сами или пересказывая чужие разговоры о крупных взятках, пьяных оргиях, «легальном» воровстве со складов, баз и т. п. Они выросли не в вакууме, они были продуктами общества.
ДУБИНКА-СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
РОМЕО ИЗ АЭРОПОРТА
"ВЕНЧАЕТСЯ РАБ БОЖИЙ"
ШЛИ МЫ РАЗ НА ДЕЛО
В нашей камере инициатором поступать вопреки всем регламентам и даже здравому смыслу был, конечно же, Федор. Умный, хитрый, обозленный, не находящий достойного приложения своим способностям, он мог создать экстремальную ситуацию буквально, как говорят, из ничего. Только я, переполненный невысказанными чувствами, вернулся со свидания с женой, как увидел, что публика что-то затевает, если уже не выкинула какой-то номер. Тяжеловес и Бегемот маячили у дверного глазка, явно загораживая его, Лис сидел на койке в одних трусах, а новичок Владимир с иголкой в руках колдовал над его штанами, зауживая и укорачивая их. На первый взгляд, ничего предосудительного в этом не было — робы действительно висели на большинстве ребят мешком, никто их тщательно не подбирал по размеру. Но ото было казенное имущество, а по инструкции порча его строго каралась. Правда, отрезать куски ткани никто не решался, пользовались только ниткой и иголкой, однако запрет, хотя и бессмысленный, на переделку одежды существовал, все о нем знали. Я не преминул о нем напомнить, желая оградить «модников» от неприятностей.
— Рыжий не заметит,— парировал мои замечания Федор.— Володя сделает, как в ателье «Люкс».
— Боюсь, что вас ждет ателье под названием «Кича». Продолжать нравоучения у меня не было никакого желания, и вскоре Федор и Валерий оглядывали друг друга, оценивая, у кого брюки лучше лежат на «мягком месте». Самодеятельный портной — Владимир — скромно выслушивал похвалы заказчиков. Он и вправду сделал работу аккуратно, выполнив все просьбы.
Торжествовали они недолго. Вскоре за дверью послышался какой-то стук, она открылась, и воспитатель приказал Валерию и Федору внести в камеру ящик с игрушками. То, что выбор пал именно на них, было чистой случайностью, но недаром говорят: «Бог шельму метит». Они нагнулись, чтобы поднять ящик, ягодицы рельефно проявились под грубой тканью, хотя раньше прятались в широких штанинах, особенно у худощавого Лиса.
— Так, ясненько,— идя следом за ними, говорил старший лейтенант,— налицо порча казенного имущества. За причиненный ущерб виновные несут — посмотрите в Правилах — дисциплинарную и материальную ответственность. Придется с вас взыскать полную стоимость костюмов, а о мере наказания я сейчас подумаю.
— Гражданин воспитатель, мы ничего не испортили, сейчас достанем все нитки, сделаем, как было,— Лис не был бы Лисом, если бы не попытался первым загладить вину, покаяться.
Я уже писал, что Рыжий не был педантом-буквоедом, он неплохо изучил психологию трудных подростков, в чем-то даже сочувствовал им, хотя неприятностей они ему доставляли немало, особенно такие «артисты», как Федор.
— Ладно, будем считать, что ничего не произошло. Приведите одежду в прежний вид и заодно еще раз прочитайте Правила...
— Надо же, принесло его на нашу голову,— недовольно бурчал под нос Валерий, с трудом снимая зауженные брюки. Справившись с одной колошиной, он, пританцовывая на свободной ноге, взялся за вторую брючину, но потерял равновесие и с размаху шлепнулся на койку, но тут же с диким воплем подскочил, потирая ягодицу.
Мы недоуменно смотрели на него, только Владимир флегматично произнес:
— Я там иголку положил.
Всеобщий хохот был настолько громким, что контролер сразу же прикрикнул из-за двери:
— Тише вы. Не к добру развеселились.
Он, к сожалению, оказался прав. К вечеру к нам вновь зашел воспитатель, но уже в совершенно другом настроении.
— Не понимаете добра — вам же хуже. На вас, как на зверей, надо намордники одевать и цепями к стене приковывать.
Я удивленно смотрел то на него, то на съежившихся пацанов.
— И вам, старший, нечего из себя дурака корчить.— Так резко и грубо со мной он еще никогда не разговаривал.— У меня один вопрос: кто перестукивался с камерой № 54?
— Даю честное слово, ничего этого не было,— с полной уверенностью заявил я.— Ни стука, ни крика.
— Нечего их выгораживать. Я в той камере уже все выяснил, знаю, кто виноват. Лучше будет, если сами признаетесь.
Не выдержал тяжелой паузы Федор:
— Я.
— Кто еще?
Пауза затягивалась, старший лейтенант нервно постукивал кулаком по столу.
— И я,— наконец выдавил признание Лис, готовый расплакаться.
— Долго же вы собирались с духом. Иди за мной,— кивнул он Федору, резко повернулся и вышел, оставив в камере напряженную тишину.
Лис нервно хрустел костяшками пальцев, облизывая пересохшие губы, настороженно поглядывал на дверь.
— Когда же вы проштрафились? — прервал я молчание, так как в самом деле не знал о происшедшем
— Ты, старшой, на свиданку ходил, а нам курить захотелось. Вот и попросили у соседей... А те и закозлили. Ну, узнаю, кто, жизни ему не будет!
— О себе раньше подумай. Карцер светит, если не сможешь упросить Рыжего.
— На колени стану, если надо. Лишь бы не кича... Что-то Тяжеловеса долго нет...
Волнение Валерия было понятным — на Федора должен был вылиться первый гнев, а после можно надеяться на снисхождение. Надежды, правда, рассеялись, когда тот вернулся в камеру: на щеках потеки от слез, лицо красное, крупные руки не могут сдержать дрожь. Ни слова не говоря, он задрал рубашку и показал нам спину. На ней выделялись две багровые полосы. Валерий даже присвистнул от удивления и, по-моему, от испуга.
— За что он тебя?..
— За красивые глаза...
— Ты не темни. Просто так он дубинкой размахивать не будет. Что случилось? — настаивал я.
— Какая разница! Вот сейчас вызову дежурного по корпусу, пусть врача приведет. Побои сниму. Малолеток бить нельзя, я знаю.— Федор то подходил к звонку, то, раздумав, останавливался посреди камеры, болезненно морщась и поводя плечами.
— Врача вызвать ты всегда успеешь, не пори горячку. Только мне не верится, что Рыжий применил дубинку без причины...
— Ну, я сам в пузырь полез. Стал права качать, а он меня за шиворот хватанул. Я его и толкнул. Он дубинку со стола и давай полосовать...
— Постой. Ты ему что-то сказал, а он сразу тебя за шиворот?
— Не. Он сидел за столом, а я за крышку стола уцепился, приподнял, кричу: «Убью, рыжий пес!» Он вскочил, выхватил дубинку...
— Вот видишь, получается, что ты первым начал ем; угрожать, и не просто, а угрожать его жизни. Можно и так повернуть, если надо будет...
— Мы вдвоем были. У меня на спине улики, а чем он докажет мою вину?
— Хотя бы тем, что ты оставил отпечатки пальцев на столе. Экспертиза сразу установит, просто ты оперся на стол, или хотел его поднять. Это первое. А главное — не забывай, что ему поверят больше, чем тебе. За тобой уже грешки числятся, сам знаешь...
Мои доводы, я видел, охлаждали пыл Федора, но сразу сдаваться он не умел и не любил:
— Все равно напишу жалобу. Пусть разбираются. Я этому рыжему псу попорчу крови.
— Как бы не получилось наоборот. Доведешь его, и он подаст рапорт, что ты покушался на его честь и здоровье. А за это есть статья. Пока идет основное следствие, тебе уже припаяют пару лет за выступление в ляторе. Так что думай, парень.
Такая перспектива не устраивала его, он притих, задумался.
— Не лезь в бутылку. Старшой дело говорит, спасибо ему скажи,— рассудительно заметил Олег.
— Черт его знает, может, ты и прав,— пошел на попятный Федор.— Как же мне лучше поступить?
— Сиди тихонько и сопи в две дырочки. Авось Рыжий тоже молчать будет. Что-то не слышно было, чтобы он кого посадил. А говорят, на него такие, как ты, уже бросались. Но он мужик вроде неплохой, советовать Олег.И будь доволен, что он еще слабо приложился. Бывает, что кожа лопается. Повезло еще, считай,— решил успокоить и Владимир, но сразу напоролся на грубость:
— Тебе бы всю жизнь так везло. Не лезь, куда не просят.
— Надо иметь голову на плечах...
— Заткнись. Еще и ты успеешь попробовать дубинки; побудешь в СИЗО — и до тебя очередь дойдет.
— Не дойдет. Я бывал, где тебе и не снилось. И ничего, обошлось.
Далеко не безобидную пикировку, где Владимир обронил туманную фразу, прервал приход Валерия, который был вызван «на ковер» после Федора. Улыбки на лице не было, но держался он свободнее и увереннее предшественника.
— Покажи спину,— Федор сказал это вроде бы шутку, но с явной надеждой, что и подельнику перепало от воспитателя.
— Надо уметь держать язык за зубами. Молчание золото...
Отмолчавшись или не сказав лишнего у воспитателя, Валерий буквально заморочил всем голову бесконечными вопросами, предположениями, версиями о том, как тот распорядится их судьбой. Как ни старался он подобрать себе алиби, все равно выходило — карцера не миновать.
— Ты лучше молись Богу, чтобы Рыжий не сообщил следователю,— подлил масла в огонь Владимир.— Старшой говорил, что характеристика из СИЗО в твое уголовное дело пойдет.
— Почему только в мое? А что, на Тяжеловеса писать не будет?
— Затребуют характернатику и на него, если тебя так волнует. Только вот что там написано будет...- не стал я утешать нарушителем режима.
Настроение у обоих провинившихся совсем упало, они обреченно ждали развязки конфликта, который сами же затеяли. Но даже в такой экстремальной ситуации Федор не смог удержаться, чтобы не сделать хотя б маленькую, но подлость.
Наутро к завтраку, к перловой каше, я выделил каждому по кусочку сала (благо, недавно была передача). Владимир на мгновение отвлекся, разыскивая свою ложку в кормушке, а когда повернулся, его пайки не было.
Растерянно оглядёв сидевших за столом, он вначале спокойно сказал:
— Кончайте хохмы. Отдайте.
Все пожали плечами, ни в чем не признаваясь. Тогда пострадавший еще раз посмотрел на каждого из нас, подумал и потребовал:
— Тяжеловес, не крысятничай!
— Что ты ко мне прицепился! Ничего я не брал...
— Хуже будет! — обозлился Владимир.
— Ты, сопля, меня еще пугать будешь!
Владимир, долго не думая, схватил солонку и вывернул ее в кашу Федора. Тот явно не ожидал такого поворота событий, оторопел, но уже через секунду набросился на обидчика. Силы были не равны, но Владимир ловко уходил от рассвирепевшего Тяжеловеса, увертываясь от ударов. Дело могло кончиться весьма плачевно. Если Федору и так уже светил карцер, то Владимир мог пострадать, в принципе, ни за что. Пришлось вскочить из-за стола и мне, загородить более слабого. Оба противника сыпали оскорблениями, правда, не переходя на матерщину; особенно изощрялся зачинщик драки, он был вне себя.
— Перестань, щенок! — пригрозил я ему.
— Пошел ты в задницу!
Терпение мое лопнуло, я скрутил его руки, прижал к стене и сунул под нос кулак:
— Еще слово, и схлопочешь по зубам. Все подтвердят, что я вынужден был защищаться.
— Правильно, старшой,— подал голос притихший было Олег.— Раздухарился этот жирный кабан, на всех прыгает.
Как ни странно, эта реплика самого младшего в камере подействовала на Федора отрезвляюще. Зло поглядывая на соперника, он вернулся за стол, но тут показал свой непростой нрав Владимир:
— Давно бы так, жидовская рожа.
Почему он выбрал такое оскорбление, было абсолютно непонятно, но этого было достаточно, чтобы Федор вновь взорвался:
— Ах ты, гаденыш! Сейчас сопли красные глотать будешь!
Хорошо, что ни стол, ни скамейку нельзя было сдвинуть с места, иначе бы все полетело на пол, настолько резко он рванулся к обидчику. Я не на шутку испугался — драка могла закончиться не только мордобоем, но и увечьями. Обхватив Федора сзади, я оттащил его к стене, прижал и приказал уже Владимиру:
— Сядь на место и чтобы ни звука!
— Пушкарь уже два раза смотрел, глазок открывался,— подбросил информацию Олег.
Страх быть пойманным еще раз заставил сесть на койку и Федора.
— Уже Рыжий на работу пришел, скоро девять,— так же бесстрастно высчитал Олег.— Контролер ему доложит.
Дрожащие от злобы, напряженные, драчуны сидели в разных углах камеры, искоса поглядывая друг на друга. Чувствовалось, что, будь они на воле, а не в изоляторе, оба не досчитались бы зубов, причем более слабый Владимир не сдавался бы до конца, настолько яростно отстаивал он свое собственное «я».
Первым нарушил молчание Тяжеловес:
— Старшой, я кашу не ел, дай мне еще кусок сала.
— Нет. Ты и так два съел.
— Но я ведь на кичу иду. Там кормить не будут. Подохну с голоду.
— Не надо красть у других,— наотрез отказал я, давая понять, что воровство поощрять не буду.
— Жалко, что мы в этой клетке, а то бы...
Пудовые кулаки, недобрый взгляд, неприкрытая угроза — все это не оставляло сомнений, что, встреться мы на самом деле где-нибудь в темном подъезде, Федор, не задумываясь, стал бы сводить счеты. Причем не выбирая средств...
Олег как в воду глядел - не прошло и пятнадцати минут минут, и за штрафниками пришел воспитатель.
— Как здоровье? — поинтересовался он у Федора.
— Болит спина. Всю ночь уснуть не мог.
— Сам виноват. Или ты не согласен?
— Извините, нервы не выдержали, гражданин воспитатель.
— У меня они тоже не стальные, ты у меня не один... А чтобы ты успокоился, подумал хорошенько обо всем, собирай вещи и за мной!
Федор бросился собирать постель, то и дело оглядываясь на старшего лейтенанта.
— А тебе что, особое приглашение надо? — Рыжий остановился возле Лиса.— Или ты думаешь сухим из воды выйти?
Валерий стоя навытяжку и бувально съедая глазами начальство, с готовностью проговорил:
— Жду вашей команды...
— Не ждать, а собираться надо! Ясно?
Обойдя камеру, проверив, чисто ли в ней, нет ли лишнего на батарее, подоконнике и под койками, воспитатель подвел итог:
— Остаетесь пока втроем. Телевизор отменяется. Сами догадываетесь, почему. Еще одно нарушение в камере — лишу передач и ларька. Всех.
Дверь с лязгом захлопнулась, послышался скрежет засовов.
— Опять на «собачник» взяли,— прокомментировал Владимир.
Термин «собачник» был из зэковского жаргона, Владимир же употребил его автоматически, как старожил, хотя по стажу пребывания в камере был самым младшим. Вспомнил я и о том, как он в споре с Тяжеловесом заявил, что видел то, что тому и не снилось. Видно, побывал парень в передрягах, хотя, не в пример другим, совсем не кичился этим. Специально расспрашивать, что привело его в СИЗО, я не хотел, а сам он пока не откровенничал. Разговорил его Олег, которому стало скучно без ровесников. После прогулки, надышавшись досыта весенним воздухом, неудачливый квартирный вор мечтательно произнес:
— Сейчас бы на озеро наше, между Серебрянкой и Чижовкой. Кусок колбасы на прутик какой-нибудь — да в костер. Пальчики оближешь..
— Размечтался, раскатал губу... Не надо было сюда попадать...
— А ты вот тоже попал...
— Дурак потому что. Зарекался, что больше за решетку не полезу, а вот не выдержал.
— Значит, ты уже был здесь?
— Не здесь, а в спецшколе, в Могилевской области.
Я невольно прислушался. В спецшколы попадают обычно дети из трудных семей, отбившиеся от рук, совершившие преступления.
— В обычной школе не знали как от меня избавиться. То урок сорву, то морду кому набью, то из раздевалки что уволоку. Поставили на учет в детскую комнату милиции. А мне хоть бы что — вытворяю, что хочу. Три раза предупреждали, а после на комиссии в исполкоме решили отправить в спецшколу. Я и дал из дому тягу. Зима как раз была, холодно. Между теплых труб в подвале зашьюсь и переночую.
— А пожрать?
— Где подвал открою, где сарайчик. Днем у пацанов, школьников, копейки отберу, вот на хлеб и достаточно. А то бутылки пустые найду, сдам — уже в кармане что- то звенит. Там, в подвале, кореша себе нашел, Сашку. Сначала подрались за теплое место, а потом скентовались, что водой не разольешь. Он уже восемь месяцев по подвалам ошивался.
— Сколько?!
— Восемь месяцев; Его менты искали. Вдвоем легче стало. Один на шухере стоит, второй в сарай лезет. Огурцы, помидоры, тушенка попадалась. Не каждый раз, правда, но без жрачки спать не ложились. Да и ночью на пару веселее. Думаешь, приятно, когда крысы по тебе бегают?..
Владимира даже передернуло от отвращения, он зябко повел плечами.
— А за что твой кореш залетел?
— Сашка?.. За то же, что и я. В школу не ходил, брал все, что плохо лежит. Батьки у него не было, так мамаша хахаля привела. Нажрутся чернил — ив постель. А что он голодный — им наплевать. Сам стал себя кормить, школу — по боку. Участковый его выловит, домой приведет. А там такой же бардак. А чтоб он не сбегал, привяжут веревками к голой кровати... Он мне старые рубцы показывал, на всю жизнь остались. На хрена ему такой дом — вот он и смылся...
Рассказчик вновь умолк, задумался, что-то вспоминая, посмотрел на синее небо за окном, перечеркнутое железными пластинами. Потом взглянул на притихшего Олега, подмигнул и спросил:
— Что, весело я жил?
— Ты знаешь, я тоже из дома сбегал. Но больше двух недель не выдерживал. Летом еще можно терпеть, а зимой подохнуть — как раз плюнуть.
— Ничего, мы с Сашкой нюни не распускали. Кореш он настырный, ни разу не подвел. Только вот заметили нас менты и прямо в спецшколу. Мы просились, чтобы в одно место направили, так нам фигу показали. Нечего, мол, дружкам поблажки делать, обойдетесь один без другого. А я и теперь во сне иногда его вижу, Сашку. Клевый кореш...
Видно было, что он не рисуется, а действительно неведомый нам с Олегом Сашка много значит в его нескладной жизни. Совместные скитания по подвалам, голод и холод сроднили этих бездомных пацанов, и Владимир искренно переживал разлуку с другом по несчастью.
— А как там, в спецшколе? — вернул его к действительности Олег.
— Лучше, чем здесь,— без запинки ответил Владимир.— А для многих, с кем я был, лучше даже, чем дома. Были пацаны, которые не знали, зачем выдают простыни — первый раз видели.
— Как Юрка Сопливый,— уточнил Олег.
— Не знаю я никакого Сопливого,— отмахнулся Владимир.— Привозили туда и таких, кто по году-два бегах были. По поездам промышляли, по вокзалам, многие в лесу жили. В пятом и шестом классах из тридцати человек только пять подходили по возрасту, остальные переростки, на два-три года старше. Были такие, что писать совсем разучились...
— Мне учёба давалась легко,— со вздохом вспомнил Олег.— Но это же обычная школа, а не специальная.
— Там жить можно,— стоял на своем Владимир.— Вот тут у меня одна роба, да и та застиранная и висит, как на колу. А там три костюма было — два для класса и один выходной. И еще рабочая форма, для мастерской и для поля. Все это бесплатно.
— Тебя послушать, там, на спецах, рай, да и только...
— Груши околачивать не дают — это факт. Если за учебу не очень гоняют, то в мастерской не пофилонишь. Норма, хотя и небольшая, есть. Только ничего трудного и сложного мы не делали: столы, тумбочки. Это каждый сопляк может. После эту мебель продавали, а деньги — школе. Еще подсобное хозяйство было, свиней выращивали; картошка своя была, помидоры, капуста, огурцы. Так что кормили нас, как на убой — и котлеты, и супы, молоко, сметана, салаты разные. Лопай — не хочу. Не то, что здесь — гнилье вонючее, в горло не лезет...
— Все равно: и там и здесь под стражей...
— Брехня все это. Никакой стражи там нет, ни одного мента. Правда, территория огорожена, на ночь спальни закрываются на замок. Только это для виду, кто захочет дернуть оттуда — никаких проблем. Были дураки, сматывались. А куда? Опять в подвал, к крысам?..
Бывший воспитанник спецшколы говорил в эти минуты, как школьный учитель или инспектор по делам несовершеннолетних, только его своеобразная лекция выглядела-гораздо убедительнее, информация была, как говорят, из первых уст.
— А еще там спортивный зал большой со всяким инвентарем: и для гимнастики, и для волейбола... Зимой лыжи выдают. Занимайся чем хочешь. Кружки разные — фото, радио; игрушки делали... Забыл про самодеятельность: с концертами ездили по всей Могилевской области, даже сюда, в Минск, на конкурс вызывали...
— Все равно — не дома...
— Смотря какой дом... Когда на хате целый день пьянка, хахали с бабами крутятся — на кой хрен там жить. А на спецах у большинства такие родители: кто на зоне, кто в ЛТП, кто сам от ментов бегает. Наплевать им на детей, только и вспоминают, когда пособие какое- нибудь идут выпрашивать. Мне рассказывали...
Подростки разговаривали, я просматривал записи, которые делал при чтении обвинительного заключения. Непривычно тихие, даже печальные голоса не мешали мне; боялся нарушить атмосферу доверия, возникшую между ними, и я. Они были близки по возрасту, не столь ожесточены, серьезно относились к несложной работе, которую приходилось выполнять в камере, не злоупотребляли нецензурщиной, казались нормальными ребятами, встретить каких можно в любой школе, в любом ПТУ. Какой-то злой рок искорежил их судьбы, направил на преступный путь, не дал развиться природным способностям. В их биографиях заполняются только первые страницы, а на каждой из них пестрят слова: прогул, хулиганство, бродяжничество, задержание, кража, следственный изолятор... Кто взвалил на их неокрепшие плечи такой непомерный груз, почему с детских лет на них лежит клеймо неисправимых, отверженных?.. И почему, еще не став полноправными гражданами, они отвечают перед Законом одни, будто не было рядом с ними взрослых, которые должны, обязаны воспитывать их, прививать чувства доброты, справедливости, порядочности, честности? Вопрос, увы, был и остается без ответа, а тысячи и тысячи детей ежедневно делают первый неосторожный шаг к пропасти.
...Перед ужином вновь залязгали дверные запоры, и на пороге появился капитан. В отличие от воспитателя, Рыжего, он был редким гостем, наша «хата», по тюремным меркам, жила довольно мирно. Букет нарушений Федора и примкнувшего к нему Валерия пошатнул эту репутацию.
— Распустил ты их,— обратился он ко мне.— Эту публику надо в ежовых рукавицах держать, а то на голову сядут.
— Смотря кого вы к нам подселяете,— осторожно заметил я, увидев, что за спиной опера стоит с матрацем новый жилец.
Опер отступил в сторону, пропустил новичка вперед и чуть подтолкнул к нам:
— Это Дмитрий. Прошу любить и жаловать. И не давать особой воли.
«О какой воле ты говоришь, капитан,— подумал я. - И так в клетке сидим». А вслух заверил:
— Будем стараться, гражданин начальник.
За ужином Дима, едва попробовав опостылевшую всем нам сушеную картошку, отложил ложку в сторону:
— У меня гастрит. Желудок не переварит эту гадость.
— Живот и у меня болит, который день уже,— сморщился Володя.— Как схватит, хоть на стенку лезь... Слышишь, старшой, ты говорил, что и у тебя такая же беда. Давай запишемся к врачу?
— Согласен.
— Вы и меня запишите,— попросил новичок.
— Сразу видно, что ты еще зеленый. Иди, почитай Правила, там черным по белому написано: никаких коллективных просьб и заявлений. Каждый отвечает только сам за себя.
— Ладно, придется выучить. А пока давайте покурим...
У Володи и Олега загорелись глаза.
— Откуда, Димка?
— Вели к вам вместе со взрослыми. Я у одного мужика и стрельнул,— он показал две сигареты.
Спросив у меня разрешения, пацаны, по очереди забираясь под койку, выкурили одну сигарету.
— Вот ты и прописался. Будем корешить.
Назавтра утром, часов в десять, нас с Володей повели к врачу. Мы оказались не первыми: в узком коридорчике рядом с кабинетом терапевта уже стоял лицом к стене парень лет тридцати в полосатом тюремном костюме. Ноги у него были широко расставлены, руки за спиной. В такой же неудобном положении приказано было ожидать и нам. Я краем уха услышал разговор между заключенным и его сопровождающим, старшиной:
— Как это ты умудрился целиком ложку заглотить?
— А, надоело все...
— Какая ходка?
— Пятая.
— Что светит?
— Уже дали. Шесть лет.
Тут их вызвали к врачу, дверь плотно не закрылась, и я стал невольным свидетелем еще одного диалога.
— С чем пожаловал, красавчик полосатенький?
— Ложку сожрал. Кладите на операцию.
— Командовать нами не надо. А ложка... Может,
— Ложка ж алюминиевая, окислится. Заражение пойдет.
— Ничего, жив будешь. Один артист здесь кружку умудрился проглотить, и то ничего.
— Отправляйте в больницу, я подыхать тут не собираюсь.
— Здесь мы решаем, что надо, а что — нет. Иди и жди вызова.
— Никуда я не пойду. Кладите в больницу.
— Пойдем,— раздался голос старшины.
— Отцепись, я тут останусь!
Послышался глухой звук удара.
— Не бей, не имеешь права!
— Права будешь на воле качать..
И удары последовали один за другим.
— Все равно не пойду!
Заскрипел диск телефона.
— Срочно в кабинет врача. Тут рецидив характер показывает.
Через несколько минут в коридоре появились трое мордастых работников СИЗО. У каждого на поясе болталась дубинка. На этот раз дверь была распахнута, и мы с Володей видели, как на плечи и спину заключенного обрушилось сразу несколько дубинок. Парень в полосатой робе рухнул на пол. Подхватив под руки, два сержанта поволокли его по коридору...
— Ну, а у вас что? — равнодушно спросила уже знакомая мне врач.
Мы объяснили.
— Раздевайтесь.
Быстро ощупав пальцами наши животы, сказала медсестре:
— Дайте им угля и слабительное.
— Доктор, направьте на рентген. Боли не проходят, может, язва уже.
— Не сочиняйте. Это у вас от плохой пищи...
— Тогда на диету бы...
— Вас, гастритиков, здесь каждый второй. На всех диетической еды не наберешься.
— Так что — гробить здоровье?..
— Ладно, уговорили. Пойдете сейчас на рентген, потом решим, что с вами делать.
...В камере Владимир взахлеб рассказывал Олегу и Димке о том, что случайно увидел и услышал в кабинете врача.
— Скажи, старшой, а почему у него полосатая роба, какие-то кружки на ней?
— Он рецидивист, говорил, что пятая ходка у него. Им и выдают такую одежду, чтобы отличить от других. А кружки... Ты запомнил, где они находятся?
— На коленях, на спине, на груди...
— Так вот: в случае побега в эти места конвойным целиться удобнее... Весь человек — мишень, а это — «яблочко» в ней.
— Все продумали, мусора проклятые... Послушай, старшой, а бить его они имели право?
— Почитай Правила. Это в самом конце...
— Здесь про дубинки ничего не сказано. Про наручники есть, про смирительные рубахи... Что оружие применять можно, когда побег или нападение на мента сделано...
— Что же, старшине стрелять надо было, когда тот парень не выполнил приказ?
— Они же ему все печенки-селезенки, наверное, отбили, бугаи откормленные.
— Здесь, Володя, надо подчиняться. Уговоры-разговоры, тем более с рецидивистами, в изоляторе не приняты. Это еще с вами нянькаются, с несовершеннолетними.
Чтобы поддерживать у жильцов СИЗО иллюзию, буд- они находятся в правовом государстве, ежемесячно, обычно в первые дни, камеры обходил прокурор, осуществлявший надзор за соблюдением законности. Это был, так сказать, наш защитник перед администрацией и даже перед следствием.
— На что жалуетесь? — Элегантный мужчина лет сорока оглядел наш квартет, стоявший перед ним, выстроившись в шеренгу.
— Медицинской помощи никакой нет, гражданин начальник,— подал голос Владимир.— У нас желудки болят, а кормят тухлой селедкой.
— В ресторане вам обеды заказывать, что ли? — возмутился зам. начальника изолятора.— Многого захотел.
— Надо их обследовать...
— Да были мы на рентгене, но ни ответа, ни привета.
— Вы не одни, дойдет и до вас очередь,— ответил заведующий медицинским отделением.
— Я никак с адвокатом не встречусь... Уже сколько раз заявление писал,— решился высказать просьбу Олег.
— Их тут сотни, и все пишут, пишут... У нас времени не хватает, чтобы каждому защитнику позвонить. Работать некогда! — заместитель начальника СИЗО даже побагровел от возмущения, настолько он, видимо, «переработался».
— И мне не сообщают, отправили мои жалобы или нет,— не промолчал и я.
Зам. начальника что-то шепнул на ухо прокурору, тот пытливо глянул на меня и развел руками:
— Инструкции составлял не я, не мне их и отменять. Вы это должны понимать. Раз вы числитель за прокуратурой, туда и поступают ваши жалобы.
— Но это абсурд!
— Ничем не могу помочь! — И за нашим «защитником» захлопнулась дверь.
— Пользы от этого прокурора...— Володя подумал, как бы побольнее уколоть ушедшего и закончил: — В общем, как с козла молока...
По случаю посещения «высокого гостя» администрация СИЗО устроила своим подопечным выходной, и мы, с утра убрав камеру, целый день были предоставлены сами себе. Я приводил в систему свои контраргументы следствию, зашифровывал рассказы, услышанные от сокамерников, а ребята, выкурив последнюю сигарету, уселись вокруг Димы. Понизив голос, чтобы не мешать мне, он рассказывал, за что его арестовали.
— Пошли мы своей компанией в парк, на танцы. Потусовались немного, а потом скучно стало. В карманах пусто, не то чтобы на водку, на самые дешевые чернила нет. Тут, по-моему, Шурик, кореш один, и вспомнил. А что, говорит, если на ликеро-водочный сходим? Идея понравилась — наши знакомые пацаны постоянно тягали оттуда поддачу канистрами.
— Что, вывозйли?
— Нет, крали ночью. Один из них работал там, знал, где цистерны стоят, нам рассказывал. Значит, часов в двенадцать подошли к глухому забору. Бросили на пальцах, кому лезть. Трое — через забор, а мы со Слоном на шухере остались. Ночь, темно, нам и то страшно, а как там, на территории?.. Вдруг шум, гам, собаки аж разрываются от лая. Смотрим — над забором голова Шурика, за ним Виртуоз, потом Хромой... Охранник их засек, овчарок пустил. Но успели смыться.
— Повезло.
— Тогда повезло. Но через пару дней опять поперлись, только уже под утро, когда охрана носом клюет. Канистры пластмассовые взяли, по десять литров. Уже новое место выбрали, проконсультировались. Мне опять выпало на стреме стоять, но я поменялся с Хромым — он дохлый совсем, хилый. Где ему канистру полную волочь. В общем, пошли на дело втроем: Слон, Виртуоз и я, а Шурик с Хромым секут поляну, чтобы снаружи не заловили.
— Операция «Ы» и другие приключения Шурика,— фыркнул в ладонь Олег.
— Не мешай!.. Цистерну нашли быстро, забрались наверх, люк открыли. А чернильце — на самом дне, не достанешь. Перебрались на другую. Мы с Виртуозом гайки быстро открутили, они чуть наживлены были. Я голову в цистерну засунул, канистру набрал, а достать не могу — десять литров все-таки, а у меня наружу только ноги торчат. «Виртуоз,— кричу,— тащи!» Он корячится, а ни хрена сделать не может, не получается. А у меня уже силы нет. Канистру выпускать не хочется, и в черни- ле купаться тоже, еще задохнешься. Тут Слон на помощь пришел: он за одну ногу, Виртуоз — за другую, выволокли меня. Так все четыре канистры и наполнили. Слон еще пожалел, что мало взяли. Я ему базарю: «Заткнись, хоть бы эти вынести». Как в воду глядел: я на забор залез, а под ним уже менты караулят. Ручкой машут: слезай, голубчик. И знаками показывают, чтобы молчал. Я, правда, крикнул пацанам, чтобы смывались.
— И что?
— Что-что? Их внутри повязали, меня снаружи.
— А как же ваш шухер?
— Ну их. Как заметили контору, сразу на пяту, даже предупредить побоялись. Только и их нашли быстро. Нас троих построили, канистры рядом поставили, сфотографировали со всех сторон, а тут и машина ментовская подкатывает. Дверцу открыли, а там Хромой с Шуриком.
— Так тебя прямо с ликеро-водочного завода к нам?
— Нет. Протоколы составили, все спрашивали, который раз лазили. Мы, конечно, базарим, что первый. Отпустили, но предупредили, чтобы в Минске оставались, никуда не выезжали. Через три дня меня и Виртуоза — сюда, на Володарку, а остальные под подпиской.
Круто они с тобой. Первый раз — и сразу арестовали.
— Я у них давно на примете. Как-то кроссовки у мужика сняли, босиком домой отправили. Не успели очухаться, как нас повязали. Прямо там, в скверике. Еле отмазались, упросили мужика, чтобы сказал, что мы знакомые, пошутили. И еще кое-что было...
— Не бойся, мы не закозлим, рассказывай,— подогнал Олег, видя, что Димка умолк.
— А чего мне бояться. У них там, в конторе, все известно, все бумаги собраны. Фраеров одних оттырили, с лестницы спустили, морды им расквасили. Бухие были... После танцев к кадрам завалили — три на три, все как надо. А тут к ним еще мужики приперлись, знакомые. Мы им и вломили. Только домой собрались, а тут уже контора в дверь звонит. Хотел из окна выскочить, глянул вниз — асфальт далеко-далеко, пятый этаж. Конечно, повязали нас. Правда, этих мужиков мы нашли, чернил выпили, те и забрали заяву, помирились... А теперь прокурор все в кучу собрал. Так что влип я, братцы.
— Может, судья пожалеет,— посочувствовал Олег, примерив положение Дмитрия к себе,— все-таки первый раз...
— Твои слова да Богу в уши, как говорит моя мама,— вздохнул Дмитрий.— Смотрела она за мной, да не усмотрела. Я в последнее время в одной с ней больнице работал, санитаром. Бегала, устраивала, хлопотала, чтоб я под боком был, на глазах. А мне чернильца захотелось...
— Да, знал бы, где упадешь, соломы подостлал бы,— вспомнил поговорку и Володя. А я, уже давно слушавший рассказ Димы, вспомнил, что Володя так и не открылся, как ни старался Олег узнать, за что бывший воспитанник спецшколы, староста класса, попал под следствие.
— Будешь много знать, скоро состаришься,— отшучивался он.— Залетел, так залетел. По дурости.
Однако скоро выяснилось, что у него здесь, в СИЗО, сидят подельники. Пришедшая весна разбудила в юношах энергию, и как тюремная обстановка, скудный рацион ни давили ее, ни сковывали, она рвалась наружу. Особенно изобретательно отыскивались каналы для контактов с друзьями, проходящими по Одному делу. По инструкции категорически запрещалось обмениваться информацией, передавать друг другу вещи, предметы, тем более — письма или записки. Но... голь на выдумки хитра. Многовековая система перестукивания, переговоры через открытые форточки, веревки из простыней — так называемые «кони». Популярна и эффективна была переписка с помощью... алюминиевых мисок, тех самых, в которых нам приносили баланду. На дне, на стенках находилось настоящее адресное бюро с указанием камер, кличек, фамилий.
Решили испытать фортуну и мои соседи. Вначале Володя аккуратно выгравировал ножом: «Косоглазый, я в хате 53. Мастер». Затем, по просьбе Димы: «Виртуоз, где ты? Моя хата 53. Красавчик». И миски пошли гулять по изолятору. В какую камеру они попадут завтра, никто не знает, но существует вероятность, что они найдут адресата. Здесь и такую призрачную надежду не отбрасывают.
Оставили они свои автографы и на двери прогулочного дворика, нацарапав найденным ржавым гвоздем тот же текст.
— Старшой, может, давай покричим? Вдруг по соседству знакомые гуляют? — предложил Дима Красавчик.
Я согласился, хотя понимал опасность этой затеи: в весеннем воздухе звук разносился далеко, эхом отдавался в двориках-колодцах. Неожиданно повезло Димке — отозвался его товарищ по несчастью. Обменялись несколькими фразами-криками, и тут я ушам своим не поверил: там, в соседнем дворике, мой подельник — Владимир. И тут не выдержал я:
— Володя! Что слышно?.. Когда суд?..
— Привет! Ничего не знаю! Держись!
Не успел я еще раз открыть рот, как заскрипела дверь, и я услышал злорадный голос контролера:
— Попались, голубчики! И старшой громче всех балагурит... Как фамилия?
Пришлось сказать. Он старательно записал, запер нас, и я услышал, как он отчитывает моего подельника. Тот отказывался, убеждал, что ни с кем не переговаривался. (Через много месяцев мы встретились на суде, вспомнили эпизод и он удивился, что его не наказали за тот разговор. Причину знал я.)
Досрочно прервав прогулку, контролер вывел нас из дворика. Остановившись у лестницы, он постучал по ней железным ключом, оповещая охрану, что нас надо встретить. Наверху, видимо, никого не было, мы задержались.
— Придется написать рапорт. Злостное нарушение. Нельзя оставить без внимания,— пушкарь выталкивал изо рта короткие фразы, и с каждым выдохом до меня доносился стойкий сивушный запах.
— А я напишу жалобу, что вы пьянствуете на работе. Ребята вот подтвердят, правда?
Все трое согласно кивнули головами, а контролер растерянно заморгал заплывшими глазками, лицо его краснело все больше и больше, он судорожно глотал воздух.
— Давай! — послышался голос сверху.
— Идите! — проговорил он сквозь зубы, и мы поднялись наверх, на свой этаж, одни, без сопровождения.
— Здорово ты его прихватил! — восхищенно сказал Владимир Мастер.— Смелый ты мужик, старшой.
Рапорта не последовало. Более того, однажды на прогулке мои юнцы уговорили меня, и я попросил для них у контролера несколько сигарет. Он сбросил сверху через сетку полпачки «Орбиты».
А затем пришел маленький праздник — Володя получил передачу.
— Колбаса «Московская», масло «Крестьянское», сало, яблоки,— перечислял продукты Олег, выкладывая их на стол.
— От Кати,— тихо произнес Володя и отвернулся к окну. Мне показалось, что плечи его вздрагивают... У ребят хватило такта не докучать расспросами, мол- чал и я
Когда Володя повернулся к нам, на лице была обычная улыбка:
— Устроим обед, как в лучших домах!
Перед каждым положили кусочек колбасы, сала, по яблоку, на хлеб — порцию масла. Все это выглядело так аппетитно, так вкусно пахло, что на баланду никто и смотреть не хотел.
— Спасибо нам, что мы поели,— сказал Володя и пошел с миской к унитазу. За ним ту же процедуру проделали и остальные.
— Неохота паскудить во рту,— суммировал общее мнение Дима и вдруг вспомнил: — Давай посмотрим на мисках, может, кто из корешей откликнулся.
Внимательно оглядев все четыре миски, ребята установили, что «клинопись» на них не имеет к ним никакого отношения. Особо не расстроились, понимали, что помочь может только случай. Да и настроение после деликатесов было приподнятым, а тут еще по радио зазвучал голос Аллы Пугачевой. Ребята расслабились, полузакрыли глаза, но тут радио замолчало. Прошло пять секунд, десять, пятнадцать — передача не возобновлялась. И тут мы услышали, что в соседней камере раздался свист, затем зазвенел звонок, загрохотала под кулаками дверь. Шум донесся из открытой форточки, застучали наверху, и вот уже весь изолятор содрогался от стука, топота и свиста. Не остались безучастными и мои сокамерники: один ритмично нажимал кнопку звонка, второй в такт ему барабанил по столу, третий, засунув пальцы в рот, оглушительно свистел... Радио отозвалось голосом Юрия Антонова. Мягкий голос певца под перебор гитарных струн рассказывал о любви, о разлуке и верности...
Дослушать концерт до конца нам не дали: открылась кормушка, и злой голос контролера приказал:
— На прогулку. Быстро!
— Всегда так: только хорошая передача, обязательно душу обгадят (Володя, правда, выразился покрепче). То трансляцию вырубят, то посередине концерта из камеры выдернут. Гады, и все тут.
Возмущение было обоснованным. За долгие месяцы, которые мне пришлось провести в разных СИЗО, я убедился, что кто-то специально издевается над арестованными, лишая их коротких минут удовольствия... Ответом на хамство работников изоляторов был, как правило, «шумовой бунт», который, правда, не всегда заканчивался благополучно... Ведь Правилами запрещено выражать недовольство...
Голос Юрия Антонова звучал нам вслед, когда мы неохотно шли по длинному коридору на прогулку. В дворике ребята сразу проверили, нет ли там вестей от подельников. Их ждало разочарование: все надписи на двери были затерты то ли рашпилем, то ли наждачкой. Олег каллиграфическим почерком вновь нацарапал координаты своих друзей. Те в это время отыскали несколько окурков, так что прогулка оказалась для них не пустой.
Еще более удачным было возвращение в камеру. Отправляя нас в блок изолятора, контролер нескольк раз ударил по перилам лестницы и приказал подниматься. Мы быстро взбежали на третий этаж, остановились перед запертой дверью в коридор. Никто нас не встретил — этажный контролер куда-то ушел. Прошла минута, вторая, и тут снизу раздался голос:
— Что, подавать?
Олег моментально оценил ситуацию и, изменив голос, ответил:
— Подавай!
По лестнице затопали ботинки, и на маленькой площадке перед дверью встретились обитатели Володя сразу увидел
— Привет, Рэм!
— Салют, Мастер!
Они пробились друг к другу, стали рядом и начали торопливо обсуждать, что и как говорить на следствии, чтобы не было разнобоя. Наконец открылась дверь, и контролер дал команду:
— Заходи!
Он прямо-таки остолбенел, увидев, жильцы двух камер.
— Кто вас собрал?
— Вам виднее,— меланхолично, ответил подельник Володи.
Для нашего Мастера этот день оказался если не счастливым, то удачным: получил передачу от любимой девушки, увиделся с другом, смог хотя бы коротко поговорить с ним. Он как бы оттаял, раскрылся и вечером поделился наконец своей бедой.
— Из спецшколы меня отправили досрочно: учился хорошо, работать не ленился, старостой был. Приехал в Борисов — мать плачет от радости, батька, хотя виду и не подает, тоже доволен. На меня посмотрел, характеристику почитал, грамоту на стенку повесил, спрашивает: «Как, взялся за ум? Надоели подворотни и подвалы?» Все отлично, отвечаю, никаких побегов, никаких компаний. Дома лучше. Одели меня как следует. Отец шофером работает, «дальнобойщиком», зарабатывает что надо. Мать — швея в комбинате бытуслуг, любые брюки подгонит, что хоть на выставку иди или моду демонстрировать. В общем —- все о’кей. И дружки не забыли. Еще на вокзале, как только приехал, встретил кореша, тот другому рассказал... Вся компания старая собралась: мне про борисовские новости докладывают, я про спецшколу им толкую, что да как. А самое главное — Катю встретил. Как увидел первый раз в своем подъезде, остолбенел. Уставился, как на икону какую, и слова сказать не могу. Она прошла мимо, только улыбнулась чуть-чуть. Спрашиваю во дворе: кто такая? А мне и говорят: это соседка твоя, переехала сюда недавно. Я всех дружков по боку, только за ней и хожу как тень. Увижу, и целый день как малахольный. А если заговорит со мной, или проводить разрешит — на седьмом небе от радости.
— Не бывает такого,— недоверчиво сказал Олег.— Я в шестом классе в одну девчонку влюбился, даже записки ей писал, портрет нарисовал. А через месяц перестала она мне нравиться, дура потому что, как все.
— Помолчи, Бегемотик. Ничего ты в этом не сечешь. Я Катышны шаги на лестнице различать научился, знал даже, она дверь открывает или нет. И она привыкла, наверное, нашла во мне что-то хорошее. Только компания моя ей не нравилась. Как только я с дружками вечер проведу, может неделю не разговаривать со мной.
— Воспитывала тебя...
— Правильно делала. Только это я сейчас понял, а тогда фыркну и назло ей снова с корешами на дело иду...
— На какое дело?
— Дела у нас, Красавчик, были серьезные. В нашем Борисове, если захотеть, миллионером стать можно. Дорога Москва — Брест проходит, машин всяких навалом. И главное — иностранных. Мы и наладились на стоянке крутиться. Вначале шоферы сами подбрасывали какие- нибудь шмотки: то куртку, то джинсы; сигареты перепадали, пиво... Как-то спросил то ли поляк, то ли немец про девочек. Мы сообразили, что им надо. Нашли двух подруг: Вальку — Василису Прекрасную и Юльку — Аленушку. Девки что надо: грудастые, ноги длинные, от шеи растут. И не ломаются, знают, что от них надо... Пока водилы с ними забавляются, мы по машинам пошарим. Много не брали, только для себя... Зондерши «капусту» принесут — и доллары перепадали, и марки, и франки...
— Я валюты и не видел,— вздохнул Олег.
— И радуйся этому, Бегемот. Как «зелененькие» появились в карманах, нас и понесло. Мало нам показалось Борисова, тесно стало. В Минск наладились кататься. То к «Березке», то к скупкам. Пронюхали, где деньги можно делать. За валютой всегда гонялись, мы и меняем доллары на наши, советские рубли. Когда честно, а когда и наколим клиента. Я наблатыкался «ломать»...
— Кого ломать?
— Не кого, а что, дурачок. Берешь пачку денег, скажем, десяток. Несколько купюр складываешь пополам, пересчитываешь пачку — ровно сто. А на самом деле их девяносто пять; пять штук я «сломал», заработал «полтинник». Ловкость рук...
— Вот это да!
— «Куклы» еще делали. Сверху и снизу положишь настоящие деньги, а в середину бумагу похожего цвета. Ну, еще несколько штук настоящих, чтобы в глаза бросались. Сенька Рыжий был «кукловодом», он и делал эти «куклы», мог пыль в глаза пустить, я считался «ломщиком», Васька Горластый работал под спекулянта, Колька Шворан, здоровый лоб, служил «вышибалой», Юрка Косоглазый — «носильщиком». Он, Косоглазый, когда- то спортом занимался, бегом, так ему это пригодилось — он смывался с товаром, если кипиш начинался. Работали четко: как только усечем, что попался какой-нибудь лопух, так и накажем на сотни две, а то и больше. Помню, прикатили в Минск, к «Березке». Сто долларов у нас. Подвалили к одним хипарям длинноволосым, предлагаем. Те сразу клюнули. Зашли в подъезд, торгуемся. Они бабки отсчитали, дали мне, я проверяю. А тут Сенька влетает в подъезд, базарит: «Менты, атас, пацаны». Я — во двор, на пяту, те пижоны на улицу бегом, в штаны наложили. А Сенька на углу ждет меня, лыбится: «Накололи фраеров».
— И сколько заработали?
— Не помню точно, стольника четыре, кажется. А потом погорели. Прихватила контора Ваську Горластого, он потянул Кольку Шворана. Хорошо, что остальных отмазали, не закозлили. Пришлось ложиться на дно. Рыжий куда-то на Север слинял, Косоглазый в деревню к деду завалился, а я и рад был, что развалилась наша компашка. Помирился с Катей, вернее, она простила, поверила, что завязал я. Только и пожил тогда — каждый день вместе, говорим не наговоримся, интересно с ней. Как проснусь, жду, когда стукнет в дверь — на одной площадке жили. И родители довольны: никаких блатных друзей, ночую дома, все как у людей.
Володя достал из заначки окурок, взял обломанную спичку, зажег, прикурил. Дружки заслонили его, чтобы не видел пушкарь. Он сделал несколько затяжек, протянул бычок Димке...
— Тут вернулся из деревни Косоглазый. Отлежался. Подваливает, базарит: «Можно за одну ночь «кусок» заработать, тысячу». Я ему: «Пошел ты, надоело, не буду». А он как банный лист... В общем, уломал. Работа в самом деле пустяковая. Перелезли через забор на территорию автоколонны, нашли, где стоят дальнобойные машины, такие, на которых мой батя ездит. Почистили несколько кабин: брали радиоприемники, дефицитными они были. Заодно в одном месте плащ прихватили, в другом кроссовки. Набили две сумки спортивные и спокойненько домой. Товар в сарае спрятали, в Бобруйск на толкучку собирались отвезти. Катька моя что-то почувствовала, смотрит на меня подозрительно. «Где был?» — спрашивает. Я рассказал, что приходил Косоглазый, но про ночной поход — ни слова. По-моему, не поверила... А тут как раз и сам Юрка появился. «Что, под каблук попал?» — подначивает. Я и пошел с ним. Выпили бутылку «Столичной» в кафе, кайф поймали. А ему, гаду, все мало. Приносит еще бутылку «Рислинга». Раздавили, и мне совсем захорошело. Спустились к Березине, идем, водит нас из стороны в сторону. И тут Юрка, хоть он и Косоглазый, чувиху заметил. «Давай догоним»,— базарит. Я уперся: не лезь, говорю. А он свое: «Догоню!» Догнал, трепаться начал. Она увидела, что мы пьяные, отшила: «Чао, мальчики, на свидание спешу». А Юрка вцепился в нее, как клещ, и волочет в кабинку, где загорающие переодеваются. Она в крик, тут Косоглазый нож достал. Девица просит: «Что хотите, делайте, но живой оставьте». Юрка штаны снял, на нее, а ни хрена не получается... Ползает по ней, а толку никакого. Зато у меня все сразу получилось... Потом Косоглазый повторил заход, на этот раз удачно...
— А что она?
— Плачет, но куда ей деться? Сделали мы дело — и на пяту. Пошлялись еще по парку и по хатам... Разбудили меня легавые. За транты — ив машину. К Юрке приехали, а он тоже еще дрыхнет. Как увидел ментов, одеться не может. Ширинку в штанах еле застегнул, в рукава попасть не может. Привозят в отдел, а там ночная кадра сидит. Чуть глаза нам не выцарапала, хорошо, оттащил какой-то сержант. Менты на всякий случай обыск сделали. Ну и нашли в сарае сумки, что мы для бобруйской толкучки приготовили. Приемник к приемнику, как на складе. Так что ждет меня дорога дальняя: и кража, и изнасилование висят. И никак не открутишься, все улики налицо...
— А как твоя Катька узнала, что ты здесь?
— На одной площадке живем, когда забирали, видела. Сразу в ментовку прибежала, но не пустили. Дурак я, дурак, такую девчонку потерял.
— Не потерял, может,— осторожно заметил я.— Вот передачу сделала.
— Мне говорили, что обещала ждать. Но, наверное, меньше «пятака» не получу, если не больше. А она красивая у меня...
Мастер хрустнул суставами пальцев, выругался чуть слышно, замолчал. Потом тряхнул головой, будто отгоняя дурной сон, наигранно весело спросил у притихших пацанов:
— Что, весело я пожил, братва?
— Веселился, веселился, а теперь вот прослезился,— сбил я с него браваду.— И себе жизнь изломал, и родителям, и хорошей девушке.
— Я и сам, понимаю, старшой. Вот отсижу, вернусь в Борисов, женюсь на Катьке... Если дождется...
...Разные дороги привели моих юных сокамерников в изолятор. Кто попался на месте преступления, кому не дали досмотреть предутренний сон, кого назвал подельником вчерашний товарищ. Виталий, наш новый постоялец, сам попросил прокурора, чтобы его арестовали. Он так нам и сказал.
— У тебя что, крыша поехала? — выразительно покрутил пальцем у виска Димка.
— Вот честное слово. У меня только два угона машин, больше ничего. И машины обе целые: на одной покатались и вернули на место, а вторую даже завести не смогли. Причем я на шухере стоял, в телефонной будке. Правда, не успел пацанов предупредить...
— Это мелочь, даже условно не получишь...
— Примерно так и сказал мне прокурор, пожилой такой дядька, лысый. Форма, как у лесника, в петлицах две звезды большие. «Идите,— говорит,— молодой человек, домой. И передайте отцу мою просьбу: пусть он вас ремнем хорошенько погладит». А я ему в ответ: «Посадите в тюрьму, иначе я снова что-нибудь выкину». Он смотрит, вот как вы: что за ненормальный такой? «Может, скрываешься от кого или боишься?» Да, говорю, боюсь, что настоящее преступление совершу. Прокурор пожал плечами, выписывает бумагу: «Что ж, посиди в СИЗО, подумай. Может, поумнеешь...»
Ребята слушали его недоверчиво; с удивлением смотрел на Виталия и я: таких среди моих невольных соседей еще не было. Поначалу даже зародилось сомнение: уж не разыгрывает ли он нас? Или, несмотря на юный возраст, уже выполняет роль подсадной утки? Долгие месяцы заключения давали себя знать: любой человеческий поступок рассматривался сквозь призму недоверия, возможного подвоха.
— Темнишь ты, парень,— суммировал наши первые впечатления Володя Мастер.— Так не бывает.
— Хочешь — верь, хочешь — не верь... Только правду я говорю, как было. Вот уже три дня дома меня нет, в КПЗ вначале, теперь вот здесь. Старики волнуются, наверное, в училище беспокоятся...
— Родители — это конечно. А кому ты в пэтэухе нужен?
— Не скажи, мне диплом скоро защищать. Экзамены сдал уже, на четверки и пятерки
— Что ж ты, отличник, к нам, зэкам, попал?
— Я ж говорю: из-за Марины...
Мы снова с недоумением посмотрели на странной сокамерника.
— Какая еще Марина?
— Моя.
— Наверное, правда, что ты студент. Совсем мозги запудрил, говоришь какими-то загадками.
Олег назвал Виталия студентом случайно, но это слово вскоре стало кличкой; согласитесь, совсем необидной.
— Что ж тут непонятного? Девушка у меня есть, Марина...
— У всех девушки есть. Вон даже малолетка Олег рассказывал, что одноклассница ему нравится.
— Ему нравится, а я без Марины жить не могу... Чего ж ты от нее в тюрягу зашился?..
— А, долго рассказывать...
— У нас времени навалом. Работу и то прямо в камеру приносят...
— Как-нибудь в другой раз расскажу. Дайте мне самому разобраться...
— Точно, заучился. Сел в СИЗО, чтобы с какой-то Мариной разобраться. Она по проспекту гуляет, а он в камере сидит... Может, позвонить ей хочешь? Свиданку назначить?
— Оставьте человека в покое,— приструнил я юнцов.— Ты, Володя, между прочим, тоже темнил долго, не выворачивал душу...
— Я — другое дело,— чуть стушевался Мастер.— Меня все-таки привезли сюда из Борисова, а так колом сюда не загонишь, не то, чтобы по своей воле...
Хотел поддержать Владимира и Олег, но тут его явно в неурочное время забрали из камеры. Так что за работой мы больше обсуждали судьбу старожила Бегемота, чем новичка Студента. Кстати, парень он был мастеровой, суть работы понял сразу, движения были четкими и уверенными.
— Где учился?
— В 35-м училище, на телерадиомастера. Я же говорю защита диплома на носу.
— Хлебное дело.
— Знаю. У нас и сейчас проблем нет. Соседи просят, знакомые; могу и антенну на крыше поставить, и кинескоп поменять... Было бы желание...
Дело у нас спорилось. Все четыре ножа ритмично ходили по пластмассовой поверхности игрушек, устраняя шероховатости, срезая лишние выступы и заусенцы. Но стоило в коридоре послышаться шагам, как все оста навливались и смотрели на дверь: вдруг ведут Олега? Вот уже показалось дно ящика, зачищена последняя игрушка, составлена необходимая бумага, а нашего Бегемотика все нет и нет. Ни подростки, ни я не были людьми сентиментальными, каждому вполне хватало своих проблем, мы успели ожесточиться. Однако Олега, самого юного среди нас, если не баловали в силу обстоятельств, то относились к нему, как к младшему брату. Исключение составляли, пожалуй, только Тяжеловес да Шустрый, у которых мало осталось святого и которых, слава Богу, забрали из нашей камеры.
Наконец на пороге появился взъерошенный Олег:
— Все, кореши! Прочитали с адвокатом обвинение. Скоро суд.
— Чего ты радуешься? Суд — это же суд...— не понял радости новичок Виталий.
— Зеленый ты еще,— махнул на него рукой Мастер.— Из камеры, из этих стен вылезет, ясно?
— Мне следователь сказал, что, скорее всего, условно осудят...
— Братва, я же сигарет принес,— полез он в карман.— Сам следователь угостил, смотрите, «Столичные»!
— Дай-то Ббг! — искренно обрадовался я.
— И еще новость: мать из больницы выписали. Ждет меня домой.
— А что с ней было?
— Сердце после меня прихватило. Но теперь все в порядке!
Олег чуть ли не пританцовывал от возбуждения, начинал рассказывать о беседе с адвокатом, затем вспомнил, что написано в обвинительном заключении, по какой статье его будут судить...
— Как белый человек живешь, Бегемотик...
— Старшой, можно мы покурим?
Видя, что я в добром настроении, быстро покурили, разогнали дым, окружили Олега.
— Что так долго не было?
— Понимаете, отпустили меня, а вести на хату, к вам, некому — пушкарь разводящий где-то задержался. Меня и сунули в «стакан», бокс маленькийтмаленький, один еле вмещаешься там. Как раз для Юрки Сопливого... Сижу, плечи в стены упираются, надписи читаю: «Рябов — козел», «Черный всех сдал», «Басмач на опера работает». Тут дверь открывается, думаю, за мной пришли. А пушкарь еще двоих в стакан запихивает. Те базарят: «Не поместимся, начальник». А он в ответ: «Здесь и больше сидело, в тесноте, да не в обиде». И ключ повернул. Стоим: не повернуться, ни вздохнуть. А тут мужик говорит: «Курить хочется. Сигареты в кармане, а достать не могу». Базарит мне: «Малой, залезь в карман, возьми». Я попробовал, ничего не получается. Пришлось на скамейку встать, чтоб свободней было. Тогда и закурили, я, правда, своих не показывал, чужих попробовал.
— То-то я гляжу, дым из ушей идет,— улыбнулся Володя.
— В том боксе не только дым, пар пойти может... Мужики говорили, что недавно туда аж семь человек запихнули. Они в камере какой-то базар подняли, их всех — к оперу, а того нет. Вот и приказали ждать з боксе. Пятеро всунулись, чуть дверь закрывается, а двое в коридоре. Пушкарь орет: «Залезайте!» А те ни в какую: нет места — и все. Он с собакой был, кричит: «Сейчас натравлю пса!» Залезли и эти двое, на плечи... Так и сидели семь человек, пока опер не пришел...
Мне довелось и самому бывать в том «стакане». Размером он меньше, чем метр на метр. Наверное, когда- то там был туалет, еще вонь не выветрилась. Убрали унитаз, поставили скамейку в одну доску — вот и готова камера ожидания. Но впихнуть туда семь человек — это уже только в нашей тюрьме могут додуматься... Впрочем, когда травят собакой, куда денешься...
Кстати, собаки в изоляторе помогают нести службу контролерам. На прогулках они бегают по настилам, которые положены над прогулочными двориками. Стоило нам заговорить чуть громче, тем более крикнуть, как раздавался лай и сквозь толстую сетку мы видели злобную морду то чистопородной немецкой овчарки, то какого-то крупного черного пса. Из оскаленной пасти капала слюна, грозно торчали острые клыки. Подходил контролер, заглядывал в колодец дворика, если успевал, делал замечание, а у его сапога глухо рычал, прижав уши, огромный песне знаю точно, но мне кажется, что и в изоляторах, и в лагерях собак учат ненавидеть заключенных. А точнее, натаскивают на специфический запах, которым пропитана тюремная одежда. Иначе чем объяснить, что даже спокойно идущий по коридору человек в робе вызывает яростную злобу собаки...
Однажды мы с сокамерниками сами испытали неприятные минуты. Когда нас вели на прогулку, черная собака сидела в коридоре. Совсем короткий, сантиметров пятнадцать, поводок буквально притянул ее шею к отопительной батарее, не давал простора, и она лишь утробным рыком проводила нас. В дворике Володя опрометчиво начал дразнить ее, но она и ее хозяин безразлично смотрели на нас сверху, будто на пустое место.
Возвращение в камеру оказалось иным. В самом начале коридора нас встретил тот же контролер с той же собакой. Куда делось спокойствие пса: черная пасть издавала оглушительный лай, трехпудовое мускулистое тело напряглось, лапы скребли по бетонированному полу, поводок, казалось, вот-вот лопнет или его выпустит из рук покрасневший от натуги старшина. Медленно, сантиметр за сантиметром, огромный зверь волок своего хозяина к нам.
— Быстрее, что стали! — зло крикнул нам пушкарь.
С опаской озираясь на бесновавшегося пса, мы почти бегом бросились подальше от беды. Вдруг лай прекратился, мы невольно обернулись. Собака спокойно сидела у ноги контролера, только шерсть на загривке все еще дыбилась.
— Кто там хотел поиграть с ней? — крикнул нам вслед старшина.
Очутившись в камере, перевели дух. Мастер виновато обвел нас глазами, выдохнул:
— Ну и зверюга. Тут не пошутишь...
Словно в подтверждение его слов, в коридоре вновь раздался собачий лай, затем пронзительно закричал человек, затопали сапоги. Володя и Олег бросились к двери, присели на корточки и прильнули глазами к узкой щели, которая образовалась вдоль кормушки. Зазор был маленьким, несколько миллиметров, но позволял иногда разглядеть, что делается в коридоре.
— Уберите собаку, гады! — донеслось до нас.
— Что там, пацаны?
— Мужик какой-то на полу, на нем хохол...
— Все равно жить не буду! — кричал заключенный.
— Штанина порванная...
— Кровь течет...
— Рана большая...
— С этажа кинусь! — долетело в камеру.
Вновь раздался громкий лай.
— От хохла не вырвется. Пес рядом, черный...
— Врачиха пришла...
— Повели...
— Хозбригада кровь вытирает...
Мы еще долго обсуждали ЧП, строили версии, догадки, жалели заключенного. Олег вроде бы видел его, когда водили на допрос,— такой же несовершеннолетний. Засыпали трудно: в ушах стояли злобный собачий лай, отчаянные крики, мерещилась лужа крови. Новичок Виталий ворочался, вздыхал, что-то шептал, а потом не выдержал, спросил шепотом у меня:
— Старшой, может, зря я сюда напросился?
— Никто не заставлял. Если ты правду нам говорил..
— Конечно, правду, чего мне сочинять...
— Тогда, конечно, понять тебя труднс Запутался я, не знаю, что делать..
— Я знаю,— раздался недовольный голос Мастера.— Спать надо. И нам не мешать.
Мы с Виталием замолчали. Но не прошло и минут, как с соседней койки вновь послышался его шепот: — Старшой, не спишь?
— Тише ты!
— Не могу уснуть. Глаза на лоб лезут.
— Ты повторяй тихонько, про себя: «Я хочу спать, спать, спать, спать...» Или начни считать. Пять цифр назови, а потом снова: «спать, спать, спать, спать, спать...»
Не знаю, как Виталий, но мне аутотренинг помог... Впрочем, когда я проснулся ночью, мой сосед спал, только тревожно двигались большие руки, хмурились брови, по лицу пробегали неясные тени.
Как оказалось, этому высокому, ладно скроенному парню действительно надо было во многом разобраться. Только вот место для этого он выбрал не самое подходящее. Но и винить его в безрассудном поступке я не мог тогда, не собираюсь делать этого и сейчас. Просто попро- бую рассказать его печальную историю, насколько ее запомнил, а затем коротко зашифровал в своих заметках, которые вел с первых дней пребывания в изоляторе.
...На дискотеку в пединститут Виталия пригласили: организаторы вечера выделили несколько билетов для школ и училищ Октябрьского района, там их отдали своим отличникам. В их числе оказался и он. Четверо будущих телемастеров мало чем отличались от студентов, быстро нашли общий язык с хозяевами, веселились, танцевали, участвовали в викторинах, конкурсах
И вдруг он увидел Ее. Радостно-оживленная, она шла, а будто летела, чуть прикасаясь легкими туфельками к паркету, белое платье оттеняло успевшие загореть под весенним солнцем нежную шею и лицо, огромные голубые глаза улыбались, когда она оборачивалась к своему спутнику. Тот был ей под стать: стройную фигуру облегал элегантный светлый костюм, густые чертыс волосы слегка вились, кольцами падая на высокий лоб, рука легко, но уверенно держала локоть девушки.
«Его я разглядел позже,— рассказывал мне Виталий,— когда они танцевали. А вначале видел только ее. Будто током ударило, или магнит какой рядом с ней. Куда ни пойдет, я за ней поворачиваюсь. Мои друзья заметили, смеются: шею, говорят, свернешь. Сам понимаю, что со стороны, наверное, смешно выгляжу. Но ничего поделать не могу».
— Подошел бы, познакомился, пригласил танцевать.
— Я несколько раз собирался, но, как только подойду поближе, ноги ватными становятся. Мову отнимает... Вернусь за свой столик, сяду, стараюсь не глядеть в ее сторону, а она будто нарочно снова передо мной. Чуть поведет головою, волосы разлетятся, потом волной опять на плечи лягут. Глаза блестят, губы что-то шепчут, но не мне, а кавалеру, тому черному парню... В общем, я так и не подошел к ней, а тут уже объявляют, что пора домой собираться — дискотека окончилась.
Подошли мы к гардеробу, а она чуть впереди стоит, в очереди. Товарищ подталкивает, а я с места сдвинуться не могу. Парень ее откуда-то прибежал, взял ее номерок, помог одеться. Когда перед зеркалом стояла, встретились глазами. Она как увидела, что я будто парализованный, рот раскрыл и смотрю не отрываясь, расхохоталась, скорчила смешную рожицу, а потом гордо повела плечом, повернулась, взяла того черноволосого парня под руку и ушла.
Возвращались домой мы с однокурсником, жили по соседству. Он дружески подкалывал меня, рассказывал, с кем познакомился на дискотеке, показывал даже какой-то адрес. Но его болтовня не доходила до меня, я думал о Марине.
— Ты все-таки, значит, познакомился с ней?
— Нет, когда она одевалась, знакомый назвал ее по имени, и я сразу же запомнил... Так вот, идем мы с дружком медленно, от треплется, я отмалчиваюсь, иногда вставлю слово-два. И тут слышим крик: «Помогите!» Забегаем во двор, а там, в темном углу, трое мужчин и женщина. Один руки держит, назад заворачивает, второй рот зажимает, а третий одежду срывает. Я как летел на скорости, так со всего ходу и врезал одному... Вырубил сразу. Мой друг тоже с одним сцепился, упали на землю, катаются. Третий оказался хоть и несильным, но вертким — никак его достать не могу, хотя руки у меня вон какие длинные, да и боксом пробовал заниматься. Прыгаем, как петухи, а результата никакого. Чувствую, дело плохо, а тут еще вдруг дикая боль в правом плече... Это первый очухался и бросился на меня с кирпичом. Я буквально озверел, ну, думаю, гады: двое против одного, и еще за кирпичи хватаетесь. Не знаю, как получилось, но одному попал точно в челюсть... Он рухнул, я еще добавил от злости ногой, он и отвалился. Отмахиваюсь от второго, а сам к товарищу поближе подбираюсь. Он еще на земле волтузится. Знаю, что нельзя так делать, но все таки его врагу ботинком в морду заехал. Тот отпустил моего друга, за голову схватился, на четвереньки поды мается... Мы к последнему вдвоем поворачиваемся, а он наутек, за ним еще один... Третий по земле ползает...
— Ну, а женщина?
— Она прижалась к стене, всхлипывает, дрожит. Мы с другом к ней, и ты, старшой, не поверишь: это Марина. Растерзанная, растрепанная, в разорванном платье, в пальто без пуговиц — но Марина, самая красивая девушка на свете. Глаза от слез стали еще больше, смотрят испуганно и умоляюще... Кажется, обнял бы, укутал, защитил бы от всех бед...
— Спасибо вам,— еле выговорила она.— Я вас видела на дискотеке, да?
«Узнала, узнала!» — заплясала от радости душа, и я готов был драться до смерти хоть с десятком самых сильных парней.
— Все в порядке? Никто не пострадал? Медицинская помощь не нужна?
Мы недоуменно повернулись на голос. К нам быстрым шагом подходили милиционер и... недавний спутник Марины.
— Что ж ты, Юзик, бросил меня?
— Но я же вернулся, и не один. Видишь, с милиционером... Сам бы не справился с ними...
Марина всхлипнула, закрыла лицо руками, плечи ее затряслись...
— Успокойтесь, все уже в порядке, все позади,— дотронулся я до ее плеча.— Запахните пальто... Нападавшие успели разорвать ее платье, и сквозь прорехи виднелось тело. Мне было неудобно, но глаза помимо моей воли останавливались то на полуоткрытой груди, то на оголенной ноге, то на беззащитной шее...
— Вот, возьмите,— протянул я Марине сумочку, поднятую с земли.
— Молодцы, ребята. Таких бы побольше,— похвалил милиционер.— Давайте я запишу ваши адреса.
— Мы из училища, из 35-го...
— Благодарность пришлем, чтобы все знали... Он записал наши координаты, данные Марины. Оказалось, что мы почти соседи: ее дом на улице Чкалова, мой — на Аэродромной.
— Приходите ко мне домой,— тихо проговорила она.— Родители будут рады.— Помолчав, добавила: — И я тоже. Буду ждать.
— Может, вас проводить? — предложил мой товарищ, видя, что я опять не проявляю никакой инициативы.
— Спасибо, Марину провожу я,— наконец подал голос спутник Марины, которого она, как я запомнил, назвала Юзиком.— Мы в одном доме живем.
— Со мной надежнее будет,— сказал милиционер, успевший подобрать с земли пуговицы от пальто Марины, мужскую запонку, кусочек ткани с еще одной пуговицей...
— Вещественные улики,— объяснил он нам.— Будем искать нападавших.
— Все стояли в нерешительности: пора было расходиться, но мы с другом медлили, не решалась уйти и Марина... Тут нас и осветили фары: подъехала милицейская машина. Несколько человек в штатском быстро подошли к нам, думая, возможно, что это мы насильники. Разобравшись что к чему, расспросив, сразу же уехали на поиски нападавших. Пошли по домам и мы.
— Лопух ты, Виталька. Весь вечер глаз с нее не сводил, думал, как познакомиться. А теперь герой, можно сказать... Надо было идти самому провожать, а ты тому пижону трусливому разрешил...
— Сам разберусь, отстань...
— Назавтра в училище только и разговоров было, что о нашем ночном подвиге. Друг растрепался, а потом позвонили из милиции, сообщили, попросили отметить... Мне это все было, как говорят, «до лампочки»... Я думал только про Марину. Адрес запомнил на всю жизнь, да и что там было запоминать: новые дома на углу улицы Чкалова, рядом с железной дорогой, были мне хорошо знакомы, я сотни раз мимо них проезжал и проходил... И вот начались мои первые муки: я выписывал восьмерки вокруг домов, присаживался на скамейки во дворе. Но смелости зайти в подъезд, подняться на этаж не хватало.
— Позвонил бы...
— Она еще в тот вечер сказала, что телефона у нее нет... Наконец я решился. Купил шоколадку, выбрал во дворе смышленого пацана и ... тот вприпрыжку побежал звать Марину. При дневном свете я увидел ее впервые — на дискотеке мигала цветомузыка, затем ночная драка в полутемном дворе... Сейчас, когда она появилась на крыльце, я даже зажмурился... Золотистые волосы под лучами весеннего солнца казались короной, глаза широко раскрыты от удивления, щеки порозовели от волнения... У меня даже дух захватило.
— А я думала, что ты адрес мой забыл...
Я чуть не поперхнулся:
— Тут меня уже каждый пацан во дворе знает. Хожу кругами, а зайти боюсь...
— Вот чудак. Я родителям рассказала, они хотят увидеть, познакомиться, спасибо сказать... Давай зайдем к нам, как раз папа дома...
— Неудобно. Может, другим разом? Лучше погуляем...
— Согласна.
— Сегодня я смутно помню, о чем мы говорили в тот день. От случайного Ггрикосновения ее плеча меня бросало в жар, язык становился непослушным, я отвечал невпопад, казался себе неуклюжим рядом со стройной, легкой Мариной. Только и осталось в памяти, что учится она в медучилище, пошла по маминой дороге — та работает врачом. Задержав на прощанье ее маленькую руку в своих ладонях, с надеждой спросил:
— Может, увидимся еще?
— Хорошо. В воскресенье,— легко согласилась она и спросила: — А что делать будем?
— Я — на тебя смотреть.
— Надоест. Давай в кино сходим, хорошо?..
— Кино, так кино. Лишь бы с тобой...
— Знаешь, старшой, в те дни я был как чокнутый. Ходил на занятия, на практику в телеателье, с дружками встречался, а был зациклен только на выходные, когда мы обычно виделись. Раньше про такое я только в книжках читал, а тут сам будто очумел. Один раз увидел из троллейбуса, что она с этим Юзиком идет, чуть на ходу в окно не выпрыгнул... Одумался, дурак... Потом сказал Марине, что видел ее не одну.
— Ну и что такого? Он мой друг и сосед. Хороший парень, в нархозе учится...
— Головой я понимал, что у нее есть соседи, однокурсники, одноклассники, просто знакомые, так же, как и у меня. Но мне казалось, что они забирают у меня Марину, что когда-нибудь я приду на свидание, а тот же пацан из двора мне скажет:
— А Марина уехала. Навсегда. И когда она действительно уехала, но не навсегда, а всего лишь на лето в деревню к бабушке, мне показалось, что время остановилось. Дни тянулись долго-долго, я не знал, куда деться от каких-то дурных предчувствий. Тут выручил мой отец:
— Нечего бить баклуши. Иди ко мне в подсобники. Он каменщиком работает, классный мастер. Вот я сюда, в тюрьму напросился, а ему за границу уезжать надо, во Вьетнам. По контракту. В общем, пошел я на стройку. Рядом с батькой навкалываешься, еле до кровати доберешься — и отключка. Правда, по выходным со старыми друзьями из спортшколы иногда встречался. В кафе сходим, вина попьем. Они ребята шустрые были: кто фарцовкой занялся, кто машины уже «раздевал», а некоторые могли и кроссовки с человека снять. Но меня на такие дела никогда не тянуло. Посижу с ними вечерок и могу не видеться хоть месяц. Все ждал, когда Марина приедет. К сентябрю вернулась... Не знаю, как объяснить, но каждый раз, когда видел ее после перерыва, мне казалось, что она стала красивее. Опять мальчишка вызвал ее. Выходит из подъезда — королева королевой: загорела, платье новое, волосы на плечи легли. Так что погиб я, старшой, это мне сразу стало ясно. Идем рядом, она про деревню рассказывает, про лес, озеро, про родственников своих, а мне не верится, что это не во сне. Поздно мы гуляли, дотемна. Подходим к дому, а около ее подъезда на скамейке кто-то сидит.
— Юзик, студент?
— Точно, старшой, он. Говорит Марине: «А мне родители сказали, что с подругой гулять пошла. Оказывается...» И замолчал. Я не то, чтобы растерялся, но как-то неловко стало. Смотрю на Марину. Она тоже как не в своей тарелке. Вздохнула и говорит: «Не знаю, что мне делать. Оба вы хорошие... Не сердитесь...» Мне тут что-то в голову ударило, во рту пересохло, я и выпалил:
— Где два — там третий лишний! Чао, ребятишки!
Развернулся на 180° и чуть ли не бегом подальше.
«Виталик, Виталик! — зовет Марина.— Постой!» А я уже далеко, на другой стороне улицы, на остановке троллейбусной. Доехал до конечной, опомнился. Но назад не пошел, поздно уже было да и стыдно, если по правде. Выдержал несколько дней, встретил. Марина обрадовалась, а я, увидев это, забыл все свои тревоги. Вместе со мной — и хорошо. Поздно вечером, около ее двери, решился сказать то, о чем думал все последние дни:
— Маринка, я люблю тебя.
Щеки ее порозовели, маленькие мочки ушей вспыхнули, она спрятала лицо в ладони и чуть слышно сказала:
— Не торопись, Виталик. Дай мне разобраться в самой себе.— И быстро открыла дверь в квартиру. Уже из-за порога добавила: — Я подумаю несколько дней. Захочешь, найдешь меня.
Это теперь я понимаю, что иначе Марина и не могла сказать. А тогда обида захлестнула меня: я к ней со всей душой, а она выбирает, будто на базаре. Тут и соседа Юзика вспомнил, и его модный костюм. В общем, распсиховался. Дружки увидели перемену, советуют: плюнь, забудь, найдешь лучшую. И знакомят с Нинкой — грудастой крашеной блондинкой. Она оказалась из тех, которые долго не ломаются, сами на шею вешаются. И если бы мне надо было, то с первого раза получил бы, что захочу. Останавливала Марина — она не выходила из головы. Несколько раз встречал ее, провожал... И понимаешь, старшой, она не то чтобы сторонилась меня, стала какой-то более серьезной, замкнутой.
Приближался Новый год. Я пригласил Марину в свою компанию. Ее родители не разрешили уйти из дому, сказали, чтобы я пришел к ним на праздник. Может, так и надо было, но как подумаю, что там может быть Юзик, сосед, так все настроение пропадает. Не пошел, отказался, дурак...
В общем, встретил я этот Новый год в одной компании с Нинкой, с пьяных глаз переспал с ней. Даже сегодня противно, как вспомню. Со злости сказал ей, что пусть больше на глаза мне не попадается. Набрался смелости, встретил Маринку. Зря, говорит, не был у нас, мама с папой ждали. Даже какой-то подарок приготовили за спасение дочери. Вроде помирились.
И тут раздается однажды звонок телефонный. Поднимаю Tpубку и не верю — Марина. Никогда раньше не звонила, хотя и знала номер телефона... «Надо срочно увидеться»,— говорит. Я, конечно, куртку на плечи — и бегом. Встречаю, а она сама не своя: хмурится, отворачивается. Наконец спрашивает: «Ты знаешь такую Нину, светлую, высокую?» Знаю, говорю, а что? «Она мне все рассказала про Новый год. Говорит, что ты с ней постоянно бываешь...» Мы стояли в помещении предварительных железнодорожных касс, и если бы рядом не было казенных стульев, я бы грохнулся на пол. «Это правда? — пытливо посмотрела мне в глаза Марина.— Откуда она знает про меня, ты что, рассказывал ей обо мне?»
В голове шумело, глаза застилало сплошной пеленой, язык не хотел поворачиваться во рту.
— Все было не так, Маринка,— выдавил я наконец из себя первую фразу.— Пойми...
И я начал путанно, как мог, рассказывать Марине о долгих вечерах, когда думалось только о ней, о ревности к Юзику, о собственной неуверенности, о дурацкой гордости, иногда накатывающей на меня. Говорил о дружках, которые постояннд подкалывают, подшучивают, о том, что скоро мне идти в армию, а я так и не знаю, будет ли она, Марина, ждать меня. В общем, пытался что-то объяснить, извинялся, даже упрекал, затем просил поверить, что все, что произошло с Нинкой, чистая случайность, нелепость...
Марина слушала молча, опустив глаза, нервно теребила в руках варежки. Я выдохся, умолк, осторожно дотронулся до ее рукава.
— Я правду сказал, Маринка.
— Мне надо все обдумать. Ты не приходи ко мне, не встречай. Надо будет, сама тебя найду. А теперь иди.
С трудом открыл тяжелую дверь, вышел на мороз, оглянулся. Марина неподвижно сидела в кассовом зале, только ее всегда гордо поднятая голова склонилась к коленям. Меня непреодолимо тянуло вернуться к ней, еще раз попытаться объяснить, что все происшедшее — нелепость, что я казню себя за дурацкий поступок, что кроме нее мне никто не нужен... И я молил Бога, чтобы она хотя бы посмотрела мне вслед. Но...
А потом, старшой, все пошло, как по нотам: дружки, компания, вино. Вразнос, по принципу: чем хуже, тем лучше. Вот и с машинами так: никому они не нужны, а уж мне — так и подавно. Нечем по вечерам заняться без Марины. Вот и залетел, а потом сам напросился, чтобы арестовали. В самом деле, боюсь, что таких дров наломаю, что потом век сожалеть буду. Хочешь — верь, хочешь — не верь...
...Разница между жизнью на воле и в тюрьме, в СИЗО, настолько велика, что первые десять-двенадцать дней в камере человек проводит, будто в каком-то кошмарном сне. Постоянно горящая электрическая лампочка, спертый воздух, жесткие койки, лязг железных засовов, вонючая баланда, унитаз на виду у всех, лай собак в коридоре и за окном — уже только эти внешние атрибуты давят на психику, зачастую полностью парализуют волю. Адаптация происходит болезненно, и сознание и организм сопротивляются, старые привычки то и дело дают о себе знать. Порой это приводит к трагическим ситуациям.
Очередной жертвой этого несоответствия между прошлым и настоящим стал Виталий Студент. А если быть искренним, мы просто разыграли его. Согласно вековым традициям, закрепленным даже тюремными инструкциями, раз в десять дней у заключенных бывает праздник — баня. Когда-то, в старые времена,— с парной, где дышала жаром каменка, с березовыми вениками. Теперь, в век цивилизации, усладу любой славянской души, баню, заменили обычным душем, но все-равно «помоечного» дня ждали с нетерпением. Более того, десятидневные периоды являлись своеобразным календарем, с помощью которого в камере велся отсчет времени. На стене, в укромном месте, каждый рисовал определенное количество вертикальных линий. Вытирая одну из них, каждый из нас на десять дней приближался кто к окончанию следствия, кто к началу суда.
В назначенный час контролер громко крикнул за дверью: «В баню!» Мы быстро затолкали в наволочки постельные принадлежности, подготовили для стирки носки, хотя это и запрещалось делать в душевой.
— Студент, тебе как новичку положено нести веник и тазик,— как бы мимоходом заметил Олег.
Виталий вопросительно глянул на меня, я невозмутимо подтвердил. Тут контролер открыл дверь, и новичок первым вышел в коридор.
— Ты что, одурел? Вырос под два метра, а ума не набрался? Этим деркачом париться собираешься? Ты же им парашу убираешь...
Пунцовый от растерянности и злости Виталий бросил веник назад.
— А тазиком, что, стыд свой прикрывать будешь? — Контролер, правда, выразился покрепче, чем еще больше смутил Студента.
— Ну вас всех!
Мы от души хохотали, невинный по тюремным меркам розыгрыш поднял и без того хорошее по случаю банного дня настроение. Лишь Студент еле сдерживался, чтобы не отомстить Олегу. Тот вполне благоразумно стал за моей спиной... Едва переступив порог предбанника, Виталий резко остановился: в проеме одной из дверей видны были голые женские тела. Затормозили и все мы, а контролер прикрикнул:
— Чего уперся? Марш вперед!
— Там...— попавшись недавно на удочку, Студент подумал, что его опять подставили,— там бабы.
— Заходи! Какие бабы?
Действительно, в комнате никого не было.
— Это он по своей Марине соскучился, вот и мерещится ему,— неосторожно затронул Олег больную струну, что грозило ему большими неприятностями. Тем более, что без одежды Виталий выглядел настоящим атлетом: рельефные бицепсы, мощный торс, накачанные ноги. Рядом с ним мы смотрелись хилыми и немощными, будто дряхлые старики.
— Такого можно и в женское отделение запускать,— оценил фигуру Виталия и контролер.— Спрос на него там будет.— И он указал на дверь, из-за которой действительно были слышны звонкие женские голоса. Для нас, мужчин, была отведена соседняя душевая, но она пока была занята.
— Хилари, марш стричься! — контролер указал на Владимира и Олега.— Нечего вшей разводить.
— Гражданин начальник, мне скоро на суд, может, не надо? — умоляюще сложил на голой груди руки Беге- мотик.— Они же еще короткие, мои волосы, двух сантиметров нет...
— Не разговаривать! «Под Котовского» их!
Молодой заключенный из хозбригады, на робе которого была нашивка «Петров О. В.», без лишних церемоний наголо остриг Мастера, взялся за голову Олега.
— Ты ему чубчик оставь,— съязвил Виталий.— Он еще в детские ясли ходит.
Чуть не плачущий Олег недовольно ощупывал обработанную «под нуль» голову, а соседи посмеивались:
— Бегемоты лысые, так что все сходится, малой.
В душевой пацаны бросились выбирать кабины поудобнее, а главное — с исправными кранами. Система подачи воды в смесители была замкнутой, и тот, кто начинал мыться первым, оказывался в более выгодном положении. Бывало, стоишь под краном, вдруг на голову и плечи обрушивается струя кипятка или ледяной воды... Но это все, конечно, мелочи по сравнению с тем блаженством, которое испытываешь. Ровный, успокаивающий шум воды, крики, хохот соседей, скрипящее под ладонью чистое тело — все это возвращало в нормальную жизнь, давало хоть недолгие полчаса почувствовать себя человеком.
— Заканчивайте! — донесся голос вам не сауна заказная.
Неохотно вышли в еще один предбанник, только с противоположной стороны душевой. Ребята прятали под мышками выстиранные носки, я — плавки. Стирать в бане запрещалось, но мы ухитрялись это делать, ведь до горячей воды добирались только три раза в месяц. В банные дни меняли и постельное белье, а малолеткам еще и трусы с майками, которые занашивались многими поколениями заключенных буквально до дыр. В мою бытность на складе работал невзрачный, тощий, будто пересохшая вобла, мужичок со сморщенным лицом. Не сговариваясь, все называли его Дедом.
— За что сидишь? — увидев, что контролер вышел, спросил я.
— По 87-й статье. Хищение госимущества...
— Сколько отмерили?
— Три.
— Многовато.
— Да, холера ясная, не пожалели старость.
— Давно здесь?
— Скоро два года.
— На «химию» просись, на волю.
— Заява давно лежит. А перед самой комиссией напарник заложил, активист. Ты его видел, парикмахером он. Накапал оперу, сученыш, что разговоры с вами веду, сигареткой угощаю. Вот и сижу из-за него в этих стенках...
— Старшой, завязывай треп,— толкнул меня Мастер.— Пушкарь валит.
Вернулись в камеру благодушными, размягченными. И не с пустыми руками: Мастер украл несколько кубиков хозяйственного мыла, а Бегемотика все-таки угостил сигаретой Дед со склада. Только Студент недовольно хмурил брови.
— Разве это баня? Вот мы с отцом в железнодорожную ходили, вот это класс! Там все спортсмены парятся...
— Тебе еще бассейн подавай, а потом пару пива...
— И девочек, что в соседней душевой были...
— Ты, Бегемот, помолчи, не суй, куда не просят, свои пять копеек...
— А чего ты? Сам баб увидел... Или тебе они приснились? Расскажи.
— Буду я перед тобой выворачиваться, Перед вшивотой всякой.
— Не лезь в бутылку ... страдатель,—не сдержался Олег.—Раздухарился тут.
Реакция у Виталия была отменная. Не успел Олег договорить обидную фразу, как Студент уже махал кулаками. Пришлось тряхнуть своей спортивной стариной и мне: оттолкнув разъяренного верзилу, я закрыл спиной более слабого и сунул нападавшему под нос кулак.
— Еще шаг, и нос будет, как у шимпанзе.
Передо мной стоял уже не человек, а какое-то свирепое существо, готовое крушить и ломать все, что попадется на пути. Ничего не видящие налитые кровью глаза, тугие желваки на скулах, побелевшие суставы на кулаках... Я не сдвинулся с места, ни звука не издали и сокамерники. Сколько длилось это немое противостояние, я не помню, только Виталий вдруг повел головой, будто стряхивая наваждение, глаза приобрели осмысленность, тело расслабилось... Он повернулся, устало опустился на скамейку. «Состояние психического аффекта,— почему- то вспомнилось мне из университетского курса.— Нелегко было и будет его Марине...»
Вечером, перед сном, Виталий вновь завел со мной разговор:
— Как ты думаешь, старшой, меня могут выпустить, если попрошусь? Я ведь по своей воле пришел сюда, дурак...
— Проси следователя, тот передаст прокурору. Может, и изменят меру пресечения. Возьмут подписку о невыезде. Попробуй...
— Дошло, наконец, Студент, - услышал наш разговор Мастер.— Баланда поперек горла стала?
— По девочкам соскучился? — добавил Красавчик. Студент скрипнул зубами, напрягся, но смог сдержать себя.
— Сам влип, сам и выберусь из говна.
Ушел от нас юный Отелло не по своей воле. Ему исполнилось восемнадцать лет, и его перевели в камеру для взрослых. Таким он и запомнился мне: влюбленным без памяти в свою Марину и теряющим контроль над собою при малейшей обиде.
Замену Виталию воспитатель нашел быстро. Мы вернулись с прогулки и удивленно раскрыли рты: на верхнем ярусе сидел, болтая короткими ногами, весело улыбающийся новосел.
— Ты что, одурел? Слезай быстрей, пушкарь
— А мне и тут хорошо!
— Братва, нам чокнутого подсеяли..
— Привет компании!
— Эй, чудо высотное, подойди сюда! — послышалось из открывшейся кормушки.
Верхолаз спрыгнул, наклонился к окошку:
— Слушаю вас внимательно!
— Если внимательно, то запоминай. Сейчас же выучишь Правила, особенно те, которых говорится, что запрещено. Я проверю, понятно?
— Не совсем.
— Спроси у соседей, они разъяснят. Выполняй!
Дурашливо поклонившись закрывшейся кормушке, навичок скорчил удивленную мину:
— Что у вас здесь, школа? Менты, наверное, перепутали адрес, не туда меня отправили... В таком случае я не против, я согласен... Даже очень как-то приятно...
— Чтобы было еще более приятно, не хочешь ли познакомиться с девушкой — блондинкой, с гладкой кожей, главное — послушной? И имя у нее красивое — Светлана.
— С нашим удовольствием...
— Она любит людей постоянных, обходительных...
— Вежливым быть — это пожалуйста, а вот постоянство мне противопоказано. Подружка на месяц — это самый класс...
— Согласие получено! — торжественно произнес Димка, взял новичка за руку и подвел к унитазу. Церковным речитативом зачастил: — Венчается раб божий... Как тебя зовут?
— Мишка...— почувствовав неладное, прошептал новобранец.
— ...Михаил и раба божья Светлана!
Олег, смочив веник под краном, окропил голову покрасневшего Мишки, побрызгал на унитаз.
— Ныне, и присно, и во веки веков! — закончил церемонию я.
— Вы что, фраера, меня, блатного, на параше женили?! За кого вы меня держите?!
— Поезд ушел, стаканы выпиты. Суровы, но справедливы тюремные законы.
— Меня же кореши за один стол не пустят. Снимите грех, век не забуду.
— Не трать порох, читай Правила. Пушкарь спуску не даст, а то и Рыжему заложит.
— Какому Рыжему?
— Есть тут такой. Воспитатель. Ты как раз клиент для него.
Забывший о хохмачках и выпендривании, хозяин параши подошел к стене и начал, запинаясь, читать:
«В качестве меры пресечения применяются следующие меры взыскания:
— внеочередное дежурство по камере;
— лишение права в течение одного месяца покупать продукты питания и получать посылку или передачу;
— водворение в карцер на срок до 10 суток, а несовершеннолетних — до 5 суток».
— Ого! Значит, и малолеткам кича грозит,— показал он свою осведомленность и тут же пояснил: — В «Новинках» лежал, там мужики битые, огонь и воду прошли...
— Вода тебе пригодится, чтобы «Светлану» подмывать...
Мишка снова начал канючить, чтобы его «разженили» с унитазом, но камера была единодушна: назад ходу нет. Приблатненный паренек долго унывать не умел: смирившись с незавидной долей, вновь вошел в роль добровольного клоуна.
— Сижу на нарах, как король на именинах, и пайку серого пытаюсь раздобыть...— зачастил он старую воровскую песню, похлопывая себя по животу в такт мелодии.
— Веселый ты парень... Ничего, посидишь на баланде да на этой пайке серого, петь не захочешь... Это пока у тебя в животе домашняя жратва переваривается.
— Ошибаетесь, сэр,— Мишка поклонился в сторону Владимира.— Я пью не закусывая, похмеляюсь пивом. А поскольку пил я перед визитом к вам почти неделю, так что кишки мои давно марш играют. Слышите?- Где ж ты, милая картошка?..— вспомнил он строчку из пионерской песни и сам расхохотался.
Блатной, как прозвали его сокамерники, мог трепаться без устали от подъема до отбоя: за работой, за едой, на прогулке, во время чистки нареченной «Светланы» или даже сидя на унитазе. Он был буквально нашпигован невероятными историями, и в каждой из них обязательно присутствовала выпивка, вернее, не столько спиртное, сколько самые неожиданные его заменители. По его словам, он пил все, что горит, причем перепробовал различные сочетания и комбинации.
— Самый кайф от пива с дихлофосом. Берешь бокал «Жигулевского», туда из баллончика брызнешь и сразу заглотишь... Только не отрываясь, всю кружку. Когда дно увидишь, балдеж тут как тут. Поплыл по волнам...
— Дихлофосом же клопов и тараканов травят, он же вонючий...
— Ничего. Надо дозу знать. Один раз нажмешь на колпачок и отпустишь... В самый раз.
— Мой сосед этой отравы попробовал. Теперь в гробу червей кормит,— прокомментировал Володя.
— Жадность фраера сгубила. Я тоже один раз до «Огурца» дорвался, до лосьона. Как высосал флакушу, три дня в реанимации откачивали. Я говорю: норму надо знать. От «Тройняка» ничего не будет, он лучше любого чернила, «Апельсиновый» лосьон — этот на день рождения нести можно. Зубной эликсир — на чистом спирту, бьет по мозгам, как кувалдой...
— Специалист ты...
— Не жалуюсь. Еще стеклоочиститель, из Армении. Так его коньяком называют... Правда, минералка к нему нужна, без нее не лезет...
— Как в ресторане...
— Наш ресторан — подвал.
— Официанты — крысы...
Михаил сыпал старыми и только что придуманными прибаутками, паясничал, но «генеральной линии» придерживался твердо: в центре внимания всегда были кайф, балдеж и сопровождающие их атрибуты.
— Самый дешевый способ забалдеть — нанюхаться бензина или растворителя какого. В магазин идти не надо: покрутишься на автобазе, на стройке — и все тип- топ. Правда, и тут норма нужна. Попадешь в струю — ржать будешь, веселиться, а чуть перебрал — коньки откинуть можно. Черти всякие лезут, душат, режут. Хочешь дать на пяту от них, а ноги — ни с места. У одного кореша моего разрыв сердца от такого балдежа... Меня самого в «Новинки» после Полины Ивановны привезли..
— ???
— Темнота, политура это. Добавляешь воды, соли, потрясешь, как бармен, и пойло готово. Только закусон хороший нужен, без него — полная отключка. Вот и я в машине е мигалкой в «Новинки» прибыл... Ништяк, через три дня оклемался, моргалы открыл.
— У нас в камере уже был один пациент республиканской психоневрологической больницы — Юрка Сопливый. Курс лечения он прошел, но от пристрастия к алкоголю не избавился. Последовали воровство, грабеж, арест, СИЗО и... вновь «Новинки». Теперь уже для определения умственной полноценности. Похоже, что повторял эту дорогу и Мишка Блатной.
Старожилам камеры понравился добровольный массовик-затейник. Они с удовольствием слушали его треп, помогали ему в импровизациях. А он то изображал, как после нескольких таблеток димедрола возносится, будто ангел, в рай, то показывал, как убегает от чертей, надышавшись испарений клея.
— Кайф по высшему разряду — это кайф от чистого наркотика. Кореши, про это словами рассказать нельзя. Помню, оставили мне затянуться сигаретой с планом, так я за тем мужиком готов десять «Светлан» убирать... Лишь бы полный косяк дал, чтобы одному сигарету выкурить... А потом уже в «Новинках» одну сестру- раззяву наказали. Она приготовила ампулы, чтобы уколы делать, а ее начальство позвало. Ну мы и приделали ноги целой упаковке. Иглы у нас свои были, ширянулись по- быстрому. Врачи хай подняли, сестричка плачет, а нам — до лампочки. Зубы скалим, лыбимся, все нам кореша, всех обнять хочется... Только назавтра хреново: кости болят, будто оттырили тебя целым коддом.
— А ты говоришь: классный кайф... гна не понимаешь, Бегемот. Когда снова ширянешься, заловишь приход, все забываешь... Цветомузыка у тебя перед глазами, чувихи танцуют, а ты в теплой воде лежишь, сигаретку цивильную потягиваешь. Это попробовать надо. Я ж базарю: про настоящий кайф не расскажешь.
Блатной мечтательно потянулся и выдал частушку:
— Я хочу вам рассказать, рассказать, рассказать,
Что пришлось мне испытать, испытать, да!
— Эй, ботало, прикрой хлеборезку,— контролер из- за двери дал понять, что и он хорошо знаком с блатным жаргоном,— Пойдешь на зону, там в самодеятельность запишешься, а тут мы без концертов обойдемся.
— Нам песня строить и жить помогает,— попробовал продолжить треп Мишка, но пушкарь повысил голос:
— Ты Правила выучил? Через час спрошу... Пришлось Блатному вновь стать перед «иконой», задрать голову и повторять: «Заключенному запрещается...»
Болтовня новичка служила своего рода громоотводом: Олег, Володя и Димка ознакомились с обвинением по их делу, уже числились за судом. Вот-вот должна была решиться их судьба, и они напряженно ждали дня ИКС. Обычно приход в камеру любого начальства добра не сулил, но теперь они с надеждой встречали корпусного — старшего надзирателя, воспитателя и даже опера.
Первому «повезло» Олегу. И он настолько растерялся, что застыл среди камеры, будто загипнотизированный.
— Шевелись Бегемот,— подогнал его Мастер.— А то я вместо тебя пойду.
В мгновение ока собрав постель, Олег, навьюченный поклажей, бросился к двери.
— Сигарету сшпби!
— Ладно!
Возвратился он быстро, как и положено, в своей «гражданской» одежде. Совсем не желая его обидеть, мы не удержались от смеха: на его похудевшей, но все-таки внушительной заднице красовались трикотажные тренировочные брюки, сквозь которые во многих местах просвечивало голое тело.
— В таком виде в суд собрался?
— Чего вы скалитесь? У меня джинсы были новые, так следователь изъял в счет погашения ущерба. Мать сказала, что денег нет, вот я и остался без штанов. А трико внизу было, не носить же кальсоны...
— Ты лучше в трусах иди...
Олег понимал неадекватность ситуации, но приподнятое настроение не покидало его.
— Все это мура. Сейчас попрошу у пушкаря нитку с иголкой, зашью дырки. Сойдет, не на свадьбу...
Контролер, хотя и неохотно, но выполнил просьбу Бегемотика. Тот быстро, через край, стянул прорехи на шленях, в шагу. Но стоило ему подняться, как дыры появились в другом месте.
— Сгнило все на складе. Мышами пахнет... Пришлось ему опять снимать трико, снова портняжить. Иголка быстро сновала в его умелых руках, он не обращал внимания на подначки. И душой, и телом Олег уже был на суде.
— Бегемот, нитки остались? Дай-ка я себе штаны ушью, подкорочу. Надоело пол подметать. У нас тут уже были такие пижоны, как ты. Так Рыжий заставил на эту «икону» молиться,— Олег ткнул тальцем в Правила.— А ты еще пушкарю экзамен не сдал...
— Куда я попал? В церковную семинарию? — продолжал выламываться Блатной, но переделывать одежду не стал.
Наутро Володя по традиции дал Олегу пинка под зад:
— Чтоб ты этот порог больше не переступал!
Мастер и Красавчик поскучнели. Они невольно завидовали Олегу, хотя понимали, что не он назначает время суда. И тут опять на арену вышел Мишка.
— Больше нормы не дадут, дальше зоны не пошлют. Тебе, Мастер, что светит?
— Потолок, вроде бы, червонец...
— На потолок ты не тянешь, малолетка. Так что не б... еще не вечер. Еще мы сбацаем с тобой...
В шумном баре девочки, что надо.
Я угощаю их водкой и вином...
Он выскочил на середину камеры и, смешно перебирая короткими ногами, попытался изобразить какое-то подобие чарльстона. Нельзя было без улыбки глядеть на нелепую фигуру в длинной, не по росту, робе, неуклюжих ботинках. Постоянно гримасничал, закатывал глаза, будто в приливе страсти, прищелкивал языком, похлопывал себя по коленям.
Шли мы раз на дело —
Я и Рабинович.
Рабинович выпить захотел.
Отчего ж не выпить Бедному еврею,
Если у него нет протчих дел...
— Чего ж ты к нам залетел? Тебе в цирк надо..
— Да я не против. Только вот 201-я, часть вторая, не пускает.
— Мура, хулиганка.— Мастер пренебрежительно махнул рукой.
Так точно, ваше благородие. Кореша моего, Яшку, возле пивняка месить стали, я и влез.
— Тогда это уже не просто кореш, а кент..
— Один хрен. Я только откинулся из больнички, из «Новинок». Хоть и лечили меня, а вмазать хочется. А тут Яшка подваливает. Ну я и нажрался до отрубона. Форму потерял, отключился. Кореш... кент, значит, приволок на хату. После трекал, что в подъезде спиной все ступеньки пересчитал... Утром котел раскалывается, старики базарят... Я батьку оттолкнул — и на ходы, лишь бы их вяканья не слышать...
На этот раз Блатной рассказывал всерьез, не кривлялся. Испитое лицо ожесточилось, глаза сузились, в голосе появились злые нотки. Такому попадаться под руку в день похмелья опасно, несмотря на то, что сам он — метр с кепкой.
— Вывалил во двор. Секу поляну — ни одного знакомого. Чешу к Яшке. Сеструха его говорит, что уже намылился куда-то с Витькой Коршуном. Ясно, думаю, к пивняку. Подваливаю, точно, сосут пиво. Наскребли и мне на бокал, а после — в карманах голяк. Идем по микрорайону, в голове бардак, чернильца хочется, но никакого просвета... А тут — мебель возле подъезда стоит, квартиранты заселяются или поменялся кто. Два мужика в мыле, еле ноги переставляют, ухайдокались. Увидели нас, обрадовались. Ну и нам подфартило. Закинули на третий этаж диван, шкаф, с пианино только намудохались. Но ништяк — за полчаса управились, хозяева нам пять рублей отстегнули... Три банки чернильца берем и опять к Яшке на хату. Одну раздавили, вторую — и я уже готов. Ослабел после «Новинок», в миску с капустой мордой клюнул. Кореши меня за транты и на диван. Разбудила сеструха Яшкина; «Брата бьют». Я прискакиваю к пивняку, а там Яшка с Витькой метелятся с четырьмя мужиками. Я и давай молотить... Еще бухой, не проспался, ни хрена не соображаю. Очухался, мент напротив меня, сержант. Я и на него кинулся, но повязали быстро. В «канарейку» запихнули — ив отдел. Наверное, места не было, так оставили в паспортном столе. А мы с мужиками опять завязались, дверь выломали, стекла побили. Ночь продержали в ментовке, отпустили. А потом и меня и Яшку за транты и сюда, на Володарку.
— Это мелочевка. Ты не начинал, могут отпустить...
— Ментам веры нет. Это такие суки...
Живописный рассказ Блатной сопровождал забористым матом. Брань вылетала из него автоматически, он просто не умел, видимо, говорить без «связок». Вначале я подсчитывал их количество, ставя на листе бумаги вертикальные черточки, затем мне это занятие надоело, и я, на правах старшего, решил, что он заслуживает высшей меры наказания — ста щелбанов.
— Это не по правилам, старшой! Ты не предупредил...
— Вчера еще разговор был, а ты подумал, что мы в бирюльки с тобой играть будем... Володя, докажи, что не зря Мастером называешься.
— Мы всегда готовы,— засучил тот рукава.— Только, Блатной, могу предложить замену: вместо ста щелбанов — десять «пиявок». Согласен?
— Давай «пиявки», все-таки меньше...
Новый вид наказания мало чем отличался от традиционного, только «палачу» разрешалось оттягивать бьющий палец второй рукой, чтобы придать удару большую силу. Первых два хлёстких щелчка заставили Мишку подпрыгнуть.
— Не будь шакалом, Мастер. Я ж тебе не скотина какая...
— За шакала будешь отвечать. Думай, что базла- ешь... Подставляй свой чугун.
— Старшой, пожалей на первый раз...
— Закон есть закон.
— Скажи этому дурню, чтобы не лупил, как по барабану... Пусть лучше Красавчик гцелбаны бьет..
— Назад только раки ходят... Давай лоб!
Володя, правда, поумерил пыл, но все-равно стриженая голова Блатного покраснела, и, случись на ту минуту в камере воспитатель, нам бы, и в первую очередь мне, не миновать выволочки. Но экзекуция закончилась довольно мирно: Мишка уже до прихода к нам научился чтить неписаные законы, его возмущала только жестокость «палача».
— Доберусь и я до тебя, Вовка, попрыгаешь ты у меня.
— Не дождешься. Я наученный уже. Да и сидеть здесь я долго не собираюсь. Следом за Бегемотом меня должны выдернуть на суд.
Не успел он вспомнить про Олега, как дверь открылась и в камеру зашел он сам собственной персоной.
Куда подевалось его прямо-таки праздничное настроение, с которым он покидал нас. Паренек стал будто ниже ростом, глаза запали, потускнели. Прямо с порога проговорил с отчаянием:
— Подельник закосил, дураком прикинулся. Просил я его, а он уперся — лягу в «Новинки», и все тут. Вот теперь отправили на экспертизу, а мне снова кантоваться тут.
Он готов был расплакаться, и я хорошо понимал его: был в одном шаге от свободы, потому что вряд ли бы его осудили, самое большое — могли бы наказать условно. А теперь вот жди у моря погоды.
— Это же целых сорок дней! — возмущался Олег.
— Бери больше, Бегемот. Пока этап в больницу, пока назад... А после еще судье заключение экспертизы отправить надо; тому почитать... В общем, месяца два, не меньше...
— Вот...— Олег в сердцах витиевато выругался, хотя такого греха за ним давно не бывало. Подойдя к моей койке, бросился на нее лицом вниз, плечи его затряслись.
Володя быстро поднялся и заслонил глазок в двери, а я осторожно тронул Бегемотика за плечо:
— Не переживай, Олежка! Придет такой подельник, ему же хуже будет. А тебя судья и отпустит... И все-таки в свою хату вернули, не к чужим запихнули. Перекантуемся...
Олег встал, отвернулся, вытер глаза и уже более спокойно сказал:
— Невезуха кругом. Хотел сигарету стрельнуть, и то не выгорело. Никто по дороге не попался.
— Ладно, Бегемот, знай мою доброту. У меня заначка есть.— Мастер достал из кармана большой бычок «Беломорканала».— На прогулке нашел два, один мы выкурили...
— Спасибо, Володя.
Честно признаюсь, у меня защипало в глазах, настолько по-домашнему, по-человечески говорили сейчас мои соседи, будто встретились старые добрые друзья.
— Выйдем на волю, отдам. Пачку «Космоса»
— Я согласен и на «Приму», я не гордый.
Обида Олега потихоньку проходила, и он начал делиться новостями.
Подельник говорил, что у них в хате настоящий бардак. Кто здоровее, тот права качает. Что ни день, то мордобой.
— Ну а старшой что, не одни ж они там?..
— Тому до лампочки. Жалобы все сочиняет прокурорам, что неправильно посадили.
— Наш старшой тоже пишет,— осторожно глянул в мою сторону Димка Красавчик.
— Того шкура заложила: заяву написала, что изнасиловал ее. А сама к нему подклеилась, шуры-муры крутила. Он и переспал с ней, кто ж откажется? А у нее, оказывается, еще одни хахаль был, жениться на ней собирался. В общем, двоим мозги пудрила.
— Ну и что?..
— А то, что жених засек, когда они на свиданку шли. И с ножом к горлу: что да почему? Она кричит: силой взял, заставил. Базарит, начальник мой, куда мне было деться. И телегу: изнасиловал... Вот и доказывает теперь, что не верблюд, что у самой чесалось...
— Олег, ты бы уж помолчал,— приструнил я его.— Сам от горшка два вершка, а про такие дела рассуждаешь...
— А что, не бывает так? — подхватил тему Блатной.— Один мой кореш четыре года схлопотал ни за что. Честная давалка замуж захотела, а он уперся. Тогда она юбку порвала, синяк себе поставила и в контору: «Караул, целку сломали!» А у самой пробы негде ставить, полрайона с ней переспало...
— Вот что, друзья. Подрастите, а тогда про семейную жизнь базарить будете. Нахватались вершков и думаете, что знаете все на свете...— Мне не хотелось, чтобы такая деликатная тема обсасывалась неоперившимися юнцами, которые не знали ни в чем меры.
Вскоре у Мишки Блатного появился партнер для театральных представлений. Да простит меня Григорий, или, как его сразу же перекрестили,— Гаврила, но ему не надо было даже гримироваться, чтобы выступать в цирке в амплуа клоуна. Крупный нос, толстые губы, отвисшая челюсть, вытаращенные глаза, руки почти до колен — внешность и непривлекательная и смешная одновременно. Но держался этот некрасивый парень настолько уверенно и естественно, что мы сразу забыли о всех его изъянах.
— Вот твое место,— показал я ему койку во втором ярусе, над Олегом.
— Я боюсь высоты, у меня головокружение.— Гаврила томно закатил глаза, прикрыл их ладонью.— А потом, упаду — задавлю кого-нибудь.
— Будешь выпендриваться, на параше спать будешь.— У Димки Красавчика было дурное настроение.
— Вот так всегда. Конвоир накричал, теперь ты... «Куды бедному крестьянину податься?..»
— Не конвоир, а пушкарь, вертухай... Это раз. А во- вторых, ты меня с этим легавым не сравнивай, понял?
— Да ты не обижайся. Зашли мы в коридор, а я и говорю ему: «Отведи в первую попавшуюся камеру, матрац тяжело нести». Он как гаркнул да еще коленом под зад...
Пацаны заулыбались, а новичок, уловив, что климат смягчился, сразу же предложил:
— Хотите анекдот?.. Значит, приготовьтесь ржать... В общем, так: ведут такого же молодого и красивого, как я, в камеру. Конвоир... э-э-э... вертухай рассуждает: «Сюда тебя нельзя, тут мокрушники сидят, еще пришьют, а мне отвечай... Напротив — публика не лучше: воры и мошенники. Голым тебя оставят, опять с меня спрос. В соседней камере насильники, гомики. Ясно, что с тобою сделают... Ладно, заходи вот в этот двойничок. Дедок тут один сидит. Тихий, скромный, как божий одуванчик». Обрадовался молодой зэк, к деду бросился сразу: «Здорово, дедусь. Будем вместе время коротать». А тот ему в ответ: «Недолго мы вместе пробудем». Достал соль, посыпал парня, ножик и вилку приготовил... «За людоедство я тут, голубчик, за людоедство».
— Дедок дедком, а ты за что загремел?
— Не виноват я, братцы, как на духу говорю,— Гаврила попробовал перекреститься.
— Все мы тут не виноваты...
— Хотите — верьте, хотите — нет, но она мне сама дала...
— Ясно. Только ты это не нам, а следователю доказывай...
— А я ему это же толкую. Не верит, сука...
— И я не верю. Чтобы с такой образиной кто-нибудь согласился лечь.— Димка снова проявил свое недовольство.
— Закрой поддувало, Красавчик. Кто из вас в постели лучше, бабам судить,— вступился за Гаврилу Мастер.
— Вот и я говорю, сама разделась и легла. Только не в кровать, а на пол...
— Чего это?
— Мы же с ней
Видя, что заинтриговал юнцов, новосел расположился удобнее и продолжил:
— Топаем мы с дружком после танцев, бухие, но в меру. А впереди две девахи шлепают. Ну, не девахи, а так — лет по пятнадцать-шестнадцать. Подвалили, базар-вокзал. Они хихикают, ломаются, но идут с нами. В подъезде я свою зажал, а она: «Не надо, я домой пойду». Тут я нечаянно и вспоминаю: «Слышала, что у нас в Борисове чувиху-малолетку недавно убили?» Успокоилась. Я и говорю: «Пойдем в подвал».— «Зачем?» Но идет. «Раздевайся». Скинула юбку, лежит спокойно. Я сделал свое дело; не первый раз, сами понимаете... И она, вроде, была не против... А через неделю менты на работу приехали, повязали — и в КПЗ. Я по дурости сказал, как меня зовут... Ну а физиономия у меня приметная,— самокритично закончил Гаврила-обезьяна.
— Хреновые твои дела. Лет пять схлопочешь...
— Да пошел ты... Каких пять? За что? Сама разделась, сама легла... Я и на очной ставке так говорил... Пусть докажут, что я ее силой брал...
— Что, судья дурак, не поймет, чего она с тобой в подвал поперлась? Припугнул, про девочку убитую напомнил...
— Все равно: сама дала. Хреново только, что целиной оказалась, а то вообще послал бы я их всех...
— Раздухарился ты что-то, земеля,— попытался успокоить его Мастер.
— А ты что, из Борисова?
— Точно. Из нового микрорайона.
— Лады. Я рядом с вокзалом живу.
— Жил,— уточнил Красавчик: Гаврила ему чем-то не понравился.— Не скоро там появишься.
Но земляки уже вспоминали знакомых, тем более, что новичок обладал, как говорят, повышенной коммуникабельностью: он знал, что происходило и в Старо- и в Новоборисове... Но эта сверхобщительность уже успела сыграть с ним злую шутку... Однако расскажу по порядку.
Уже на второй день, попробовав скудный тюремный завтрак, Гаврила заявил:
— Надо на пару недель в больничку завалиться. Говорят, что там харчи получше...
— Раскатал губу. Легче в Америку уехать, чем в больницу попасть. На костылях по камере ползают, с инфарктами...
— А я лягу!..
— Чем отвечаешь?
— Как чем?
— На что спорим?
— Мне все равно...
— Тогда на тортики... (Так в СИЗО называют кусочек белого батона с маслом, выдаваемый несовершеннолетним к завтраку.)
— Давай. На целую неделю.
Мишка уже чуть ли не облизывался, предвкушая, как будет лопать выигранное лакомство, но Гаврила был олимпийски спокоен. Олег и Димка подлизывались к Блатному, задабривали, надеясь хоть на одну дополнительную порцию. Тот же чувствовал себя королем, то и дело подначивал соперника.
Причину такой самоуверенности Григория случайно узнал только я. Вечером, забираясь на койку второго яруса, он на мгновение задержался передо мною. На вылинявших трусах выделялось мокрое пятно. По краям оно подсохло и затвердело белой коркой. «Триппер успел подхватить, помойный кот! — со злостью подумал я.— И на этом еще выиграть хочет. Оригинал...»
Заранее объявленный победителем Мишка, лежа на шконке, строил планы, как он распорядится выигрышем: будет есть по одному тортику каждый день, или соберет их за всю неделю и устроит настоящий пир.
— Ты проиграл, Блатной.
Он недоуменно повернулся ко мне: еще полчаса назад я был судьей спора, разбивал руки, поддерживал его, а тут...
— Темнишь, старшой! Может, ты ему челюсть сломаешь, тогда другое дело...
Я уходил от прямого ответа, изворачивался, обещал объяснить позже. А утром, пока остальные умывались, твердо сказал Григорию:
— Запишись к врачу!
— Чего это ты мною командуешь? Мне лучше знать...
— Сейчас вызову корпусного. Тот за шиворот отведет... Мне рассадник заразы не нужен, и так дерьма достаточно.
У него забегали глаза, он попытался ерепениться, но все-таки сделал по-моему.
— Скажу пацанам, они тебе припомнят спор! — пригрозил я вдобавок.
— ...Ну что, не удалось закосить? — ехидно встретили Гаврилу сокамерники, когда тот вернулся от медиков.— Плакали твои тортики!
— Все будет тип-топ,— осторожно посмотрел он в мою сторону.—Сегодня нет зав. отделением, он ксиву какую-то подписать должен. А койка в больничке уже ждет меня...
Но первым получил шанс попасть в больницу, причем сразу в реанимацию, соперник Гаврилы по спору, Блатной. Сама не желая того, путевку туда ему едва не выписала администрация СИЗО. Обычно во время работы мы подчищали огрехи штамповки или литья, а тут вдруг нам «повысили квалификацию»: приказали собирать и склеивать игрушечные танки. Сборка шла нормально, но едва перешли ко второй операции, как буквально взвыли: клей издавал резкий неприятный запах, от него слезились глаза, раскалывалась от боли голова. Мы открыли форточку, но ничего не помогало.
— Травит нас Рыжий!
— Где техника безопасности!
— Мы не подопытные кролики!
Пацаны возмущались, лишь Блатной продолжал как ни в чем не бывало склеивать детали танка. А когда мы устроили перерыв и подошли к окну, он быстро налил в кружку клея, наклонился к ней, почти спрятав лицо, и начал судорожно и торопливо вдыхать пары. Я едва успел схватить его за шиворот. Глаза у токсикомана успели налиться кровью, взгляд потерял осмысленность. Он присел на край койки, обхватил голову двумя руками, будто обручем, и начал ритмично раскачиваться. Вдруг все его тело пронзила дрожь, он напрягся, на мгновение одеревенел, а потом забился в конвульсиях. Тело сползло на пол, пальцы скребли бетонный пол, ноги подергивались. Мы, напуганные, подняли его, положили на койку, наплевав на все тюремные правила. Широко открывая рот, он сделал несколько глубоких вдохов, тряхнул головой, медленно поднялся и поплелся к водопроводному крану. Подставил под холодную струю голову, затем облился до пояса. Не глядя нам в глаза,
— Все класс, мужики. Уже отошел.
— Ты на тот свет едва не отошел! — Я еле сдерживался, чтобы не врезать по этой дурной голове.— Идиот!
Приступ повторился на прогулке. Сделав несколько шагов, Мишка вдруг прислонился к стене, мешком съехал на землю. Изо рта полилась какая-то липкая жидкость, он задыхался от рвоты, что-то нечленораздельно мычал. ЧП заметил контролер:
— Что, врача вызвать?
Мишка беспорядочно замахал руками, замотал головой из стороны в сторону, затем выдавил:
— Пройдет... Уже прошло... Не надо.
— Дело твое. Баба с колес — коню легче.
— Дурак, Блатной. Зовут в больницу, а ты упираешься...
— Молчи, Гаврила. Усекут, что нанюхался, мне хуже будет. Я ж только из «Новинок».
— Тебе видней, а я завтра все-таки потопаю в лаз рет, готовь тортики...
Гаврилу действительно забрали, дав замену — Ивана, рыхлого не по годам парня. Когда Бог лепил его лицо, то, видимо, что-то перепутал: маленькие выцветшие глазки, большие залысины на лбу, шелушащиеся красные щечки — все это предназначалось разным людям, а случайно встретилось на одной физиономии.
— Сгребли, как кабана, и в клетку закрыли.
— Многие говорят, что случайно попали. Ты, может, тоже шел в ресторан «Папараць-кветка», но заблудился?
— Нет, по делу, за грабеж.
— Тогда ты — свой человек, не залетный... Надо тебе приемку устроить.
Иван насторожился, потому что плутовская рожа Михаила ничего хорошего не обещала.
— А это как?
— Плачет по вас кича,— заметил я.— Или без Рыжего соскучились?..
— Старшой, мы ради хохмы, без палача...
Новичок моргал голубыми глазками, растерянно поглядывая то на меня, то на загоревшихся идеей пацанов. Поняв, что я мешать им не буду, юнцы о чем-то пошептались, убедили Ивана, подошли ко мне.
— Подскажи, на чем Ивана поднять можно, но только чтоб он не сидел, а стоял?
— Сложите одеяло вчетверо, поставьте его посередине и поднимайте.
— С нас бутылка, старшой, у тебя не голова, а Дом правительства. Становись, Иван!
Самым толстым и прочным оказалось одеяло Олега. Его быстро сложили в несколько раз; Иван разулся, стал в центр небольшого прямоугольника, ему завязали полотенцем глаза... Взявшись за края, ребята начали поднимать живую статую. Импровизированный пьедестал «играл» под ногами, устойчивости не было, и Олег подставил свою стриженую голову. Иван с готовностью оперся на нее, почувствовал себя увереннее. Но глаза у него завязаны, определить, на какой высоте находится, не может. Под рукою голова Олега, а тот ростом под 180 сантиметров; на самом же деле наш Бегемотик присел чуть ли не на корточки, так что до пола всего каких-нибудь полметра.
— Прыгай!
В этом вся «соль» такого способа приемки: струсит или решится на прыжок новосел, стоящий он парень или нет?
— Вы что, сдурели? С такой высоты? Я ж ноги переломаю. Тут же два метра!
— Ты тяжелый, как кабан! Не выдержим! Прыгай!
Иван решается. Чуть спружинив ногами, прыгает и... радостно и удивленно смеется, сорвав полотенце с глаз.
— А я-то думал!..
— Ништяк, не наложил в штаны. Прошел приемку.
И вообще Иван пришелся в нашей камере, как говорят, ко двору. В первые же дни мимоходом, но твердо поставил на место Блатного, чем-то помог Олегу, выполнил полупросьбу-полуприказ Мастера и стал своеобразным балансом, который не позволял кипящим эмоциям перехлестнуть через край. Едва обжился, как забрали на этап и сразу же, через три дня, вернули в камеру.
— Во дают менты, в темпе тебя крутят...
— А что меня крутить? Мы с дружками во всем признались, магнитофон отдали... А больше за нами ни хрена нет...
— Кстати, Иван, ты толком и не рассказал, за что тебя прихватили...
— За дурость. Заквасили с Миколой и Славкой. И пошли гулять. На автобусной остановке трое таких же, как мы. Слово за олово, у них еще чернильце нашлось. Вмазали. Один из чужих магнитофон включил. Славка просит: «Дай поносить». А тот уперся, сам, говорит, люблю музыку слушать. Ну мы и дали им по голове, маг забрали... Потом очухались, пошли на огороды, закопали... Приходим на танцы, а нас уже ждут... Теперь вот суд скоро.
— Ну, это семечки...
— Семечки-то семечки. Мне другое не нравится. Сижу я в КПЗ, заходят двое в штатском. Говорят, что из уголовного розыска. И поперли на меня: «Признавайся, что угнал две машины!» Я говорю, что не знаю, как машину завести, а они свое: «Признавайся!» Ни хрена понять не могу, растерялся. Эти двое толкуют: «Машины найдены, они целые, ущерба нет. Надо только признание». Я опять не врубаюсь. Тогда один спрашивает: «Курить хочешь?» — «Хочу».— «Признавайся». Я опять не соглашаюсь. «Свидание с матерью хочешь?» — «Хочу».— «Признавайся!» Дошло до меня. «Мне из своего говна выбраться надо, а вы меня в чужое запихиваете... Нет, не выйдет». Распсиховались, кричат, что скажут судье, чтоб побольше выписал...
— Один кореш за бутылку водки взял на себя мою кражу, а на суде отказался,— припомнил Маете Так менты пообещали ребра посчитать.
— У них это, как два пальца... Нераскрытых краж, угонов много, надо же кому-нибудь их прицепить. Вот и ищут дураков,— показал свою осведомленность и Блатной.
— Может, я все-таки зря отказался?.. Накапают на меня судье, они там друг друга знают, одна компания...
— Успокойся, Иван,— пришел я ему на помощь.— Пусть они тебя боятся. За то, что предлагали взять чужие преступления, их не только выгнать с работы могут, но и самих отдать под суд. Так что спи спокойно...
— Заснешь тут. Мать как раз лес выписала, кругляк. В хате пол менять надо, на крыше две стропилины подгнили... Самое время ремонтом заняться, а не сидеть тут..
Он тяжело, по-мужицки вздохнул, полез в карманы, будто за махоркой, а потом вдруг хлопнул себя по лбу:
— Вот дурья голова! Забыл совсем! Мне же маленькую передачу разрешили. Сало есть, лук, чеснок. Свое, не магазинное...
Быстрее всех отреагировал Блатной:
— Люблю пожрать, особенно за чужой счет. Давно мой нос унюхал, а врубиться не могу... Что ж ты резину тянешь?..
Обычно мы разрешали себе дополнительную пайку по вечерам, но из торбы Ивана пахло так аппетитно, что мы нарушили традицию — отрезали по кусочку сала, разделили луковицу, съели по зубочку чеснока. Воспитатель, выдававший нам очередную порцию игрушек, сморщился:
— Вы хоть форточку откройте. В камеру зайти нельзя...
— Витаминчики, гражданин начальник, огурчиков и помидорчиков не даете.
— Что-то разговорился ты... Смотри!
Рыжий внимательно посмотрел на Блатного.
Такие предупреждения отскакивали от Мишки как горох от стены, хотя именно ему не следовало портить отношения с администрацией СИЗО. Инцидент с клеем не прошел незамеченным. Следователь, который вел его дело, назначил экспертизу. Она подтвердила, что Блатной умышленно, специально нанюхался ядовитых испарений, а он только что вышел из «Новинок», где лечился от алкоголизма...
— Горбатого могила исправит,— махнул на него рукой воспитатель и не стал наказывать, тем более, что и сам допустил промах: подложил токсикоману запретный плод.
Отделавшись легким испугом, Мишка Блатной вскоре решил еще раз испытать судьбу. Случай представился скоро. Димка добился, чтобы ему назначили диету. В истории болезни, которая была заведена еще на воле, четко значилось: «хронический гастрит». И как ни волынили тюремные медики, пришлось им подтвердить диагноз. Теперь один раз в неделю в обед он получал суп из горохового концентрата или молочный суп из перловки, пшена. К каше ему был положен кусочек вареного мяса, правда, обычно этот деликатес заменяли ложкой какого-нибудь жира. Конечно, это была пародия на диету, но все-таки не наша вонючая баланда.
Пользовался льготой Красавчик недолго: пришло время уходить на суд. Как заведено, перед отправкой он вернулся в камеру в цивильной одежде. Сокамерники буквально обалдели: на Димке была шикарная серебристая импортная куртка со множеством карманов, замков «молний», заклепок; брюки «бананы», заправленные в высокие итальянские кроссовки.
— И ты еще за чернильцем лазил? — удивился Олег.— На тебе же шмоток на добрую тысячу, а то и две...
— Дурак потому что, сам знаю. Теперь — завязываю наглухо.
По традиции он получил пинка, и нам оставалось лишь гадать, чем закончится суд. А узнать про его судьбу помог Блатной, правда, довольно оригинальным и совсем не безопасным для себя способом. В обед женщина с погонами сержанта, по местному — пушкарка, подала в кормушку две миски с диетической едой. Мишка, ни секунды не раздумывая, взял неожиданный подарок. Пацаны быстро управились с дополнительным пайком, а Блатной, поглаживая живот, строил планы на будущее:
— Красавчику диету на целый месяц выписали. Откормимся на его харчах, не победнеет тюряга.
Удачно прошла операция «Ы» и назавтра. Мишка гоголем расхаживал по камере, свысока поглядывал на пацанов:
— Учитесь, пока я с вами!
На третий день авантюра раскрылась. Причем старший надзиратель — корпусной — перехитрил Мишку. Уже без всякого страха и сомнения взяв лишние миски, Блатной принес их к столу и начал делить еду. Тут дверь распахнулась, и в камеру зашли пушкарка и корпусной.
— Кто брал диету?
— Он,— женщина указала на виновника.
— Так, артист, придется отвечать. Человек уже третий день дома, паровые котлетки ест и сливками запивает, а ты тут вместо него пристроился.
— У меня тоже живот болит... Каждый вечер режет там что-то, как тупой пилой.
— Назначит врач диету — будешь получать. А так, уж очень ты хитрый. Смотри, в карцере и баланды не дают. Допрыгаешься.
Начальство ушло, ребята притихли.
— Ничего, пацаны, не бойтесь,— успокоил я их и в первую очередь Мишку.— Сами прохлопали, так что шум поднимать не будут.
— А Красавчика отпустили домой,— вспомнил Олег.— Корпусной проговорился. Повезло.
— Вот бы и мне так,— вздохнул Иван.
— Если бы кореш не закосил, я бы тоже уже дома был,— Олег готов был расплакаться.
— Все будет хорошо. Держите хвост пистолетом.— Мне хотелось поддержать ребят, потому что оба они, несмотря на все свои грехи, вызывали симпатию.
Меньше всего надежды на благоприятный исход дела было у Мастера — за ним числились и изнасилование, и кража; припомнят ему, конечно, и спецшколу, хотя он был там активистом и отличником. Но Володя умел держать себя в руках. Вот и сейчас, когда в камере сгустилась атмосфера, он показал свой характер:
— Чего сопли распустили? Чужой каши нажрались — будем спортом заниматься!
Он стянул со спины робу, расправил плечи. На него было приятно смотреть: сухой, подобранный, сквозь кожу проступают мышцы. Легко подпрыгнув, ухватился за решетку над дверью. Проверил захват, спрыгнул на пол.
— Надо обмотать прутья полотенцем, края острые.
Подготовив импровизированный турник к работе, начал подтягиваться. Сильные руки ритмично сгибались разгибались в локтевых суставах, натянутое как струна тело, не отклоняясь от оси, двигалось вверх-вниз. Совсем не сбив дыхания, Володя разжал пальцы, приземлился.
— Ого! Шестнадцать! — подсчитал Олег.
— Захват неудобный,— небрежно бросил Мастер.— можно было бы и еще...
Вторым вышел к «гимнастическому снаряду» Блатной. Ростом он не вышел, так что пришлось его подсаживать к «перекладине». Импульсивная, неуравновешенная
натура и тут дала себя знать. Быстрыми рывками подтянувшись пять раз, он выдохся, но сдаваться не хотел: извиваясь, как уж, поджимая ноги, он тянул подбородок к заветной черте.
— Восемь...
— С половиной,— не согласился с Олегом Мишка, тяжело дыша и растирая покрасневшие ладони.
Иван вначале отнекивался, но с грехом пополам подтянулся два раза.
— Пузо мешает,— самокритично признался он.— Как мешок с говном.
— А теперь выступит чемпион Олимпийских игр, неоднократный чемпион мира и Европы, представляющий сборную шпаны и шантрапы...— Блатной подтолкнул к двери Олега.
Крупному, но нескладному подростку, обессилевшему на скудном тюремном пайке, было трудно тягаться с более взрослыми сокамерниками. Поднявшись на цыпочки, он взялся за решетку и просто повис на вытянутых руках.
— Это кто глазок закрывает? Подойди ко мне! — раздался голос из коридора.— Нагнись к кормушке!
Сложившись вдвое, Олег показал свое лицо контролеру.
— Гражданин начальник! Это я просто подтянуться хотел, специально глазок не закрывал.
— Почему разделись в камере?! Не положено! Быстро привести себя в порядок. Тоже мне — спортсмены,— уже более миролюбиво закончил сержант.
Да, все попытки проявить инициативу, как-то разнообразить монотонный быт пресекаются в СИЗО немеденно. Основы этой системы заложены давно, уклад жизни такой же, как и сто лет назад: камерное содержание и одна часовая прогулка. Тюрьмы, как правило, тоже сохранились от прежних, еще царских времен, к нам перешли по наследству. Те же метровой толщины стены, тех же размеров окна, только проржавевшие решетки заменены. И в камеры поселяют столько же человек, случается, что и больше. Наверное, если сбить штукатурку, можно найти автограф из XIX века... Иногда по ночам мне казалось, что я слышу глухие голоса давних предшественников, жалующихся на свою незавидную судьбу. Если бы эти стены действительно заговорили, материала для романов хватило бы не только нашему земляку Достоевскому...
К счастью (если можно употребить это слово), пребывание в СИЗО ограничено по времени: следствие, знакомство с обвинительным заключением, ожидание суда — и впереди две дороги: одна на зону, другая, если повезет, домой. Мучаясь сомнениями, ушел от нас Владимир. Крепко пожав каждому руку, нашел для каждого и добрые слова: Олега и Ивана подбодрил, Мишке посоветовал завязать с пьянкой, мне пожелал здоровья и хорошего адвоката. Он был, оказывается, неплохим психологом, этот сбившийся с дороги Мастер из провинциального города Борисова. Как позже я случайно узнал, суд определил ему три года лишения свободы. Дай-то Бог, чтоб это был его последний срок...
Отлежав положенное в больнице, явился Григорий, Гаврила. Триппер ему залечили, и он теперь без тени смущения вспоминал, кто наградил венерической болезнью. Внимательный слушатель у него нашелся — Мишка Блатной. Они могли целыми вечерами перемывать косточки своим подружкам, живописуя себя не иначе, как героями-любовниками. Благо еще, что побаивались меня и щелбанов, которые по-прежн лись карой за матерщину. Но тандем Гаврила — или шин оказался недолговечным. Мишка проиграл более опытному и хитрому сопернику штормовку, которая была, по его словам, «из самого Афганистана». Правда, никто эту экзотическую куртку и в глаза не видел, но Блатной уверял, что она ничуть не хуже той, что была на плечах у Димки Красавчика. Недавние кореши подняли шум, вошел контролер, а Мишка демонстративно продолжал лежать на койке.
— Ты что, в карцер захотел?
— А пошел ты... - и в адрес сержанта раздался многоэтажный мат.
Тот опешил, а затем вызвал воспитателя. Недолгий «разбор полетов» все расставил на свои места: Блатной специально пошел на провокацию, чтобы его забрали из камеры. Штормовка осталась бы у него. Трюк не удался: Рыжий лишил его ларька и передачи, но в камере остаВИЛ...
Чем бы завершился конфликт двух наших «артистов», гадать не берусь, но тут Гаврилу отправили на суд. Он, как и Мастер, получил три года, а поскольку вскоре ему стукнуло восемнадцать лет, то отбывать наказание пришлось в колонии усиленного режима. За изнасилование Закон карает строго.
Каждый раз, когда за очередным сокамерником закрывалась дверь, Олег Бегемот начинал проклинать подельника:
— Не мог тут, в СИЗО, прикинуться дурным? Давно бы свозили в «Новинки», а то на суде надумался. Теперь жди, пока экспертиза закончится...
Наконец вызвали повторно и его. Но, видимо, он в самом деле родился неудачником: заболел судья, кбто- рому поручили рассматривать дело.
— Что они, гады, издеваются? — размазывал он по щекам слезы, вернувшись в камеру.— Защитник сказал, что всего двести рублей ущерба, чего там разбираться...
Я попытался спокойно разъяснить:
— Суды переполнены делами. Ты же читал в газете, что преступность растет. И никто из судей не хочет, да и физически не может заменить коллегу. У каждого своих забот выше головы. Зато твой вернется, не будет придираться. Все-таки вроде виноват перед тобой.
Вряд ли Олег воспринял мои доводы, но истерика прекратилась.
— Посидел был он лишний день на баланде, знал бы, что это такое... Ему, наверное, в больницу апельсинчики- мандаринчики носят, а меня тухлую селедку заставляют жрать.
— Ладно, Бегемот, не плачь, я тебе свою пайку сала сегодня вечером отдам,— сделал широкий жест Иван.— Мне все равно худеть надо. А то подтянуться не могу, отъел требух.
Отдал Иван пайку только один раз. Утром его срочно забрали из камеры (он даже не возвратился к нам в обычной одежде) и увезли на суд.
Старшой! Что же это делается? — Олег снова был на грани истерики. Я только развел руками...
— Нам сала больше будет.— Мишка оставался верен себе.
Пробыли втроем мы недолго. Невысокий юноша, чем- то напоминавший ушедшего Мастера, сразу же нашел общий язык с Олегом. Доставили его из Дзержинского района, где он, по его словам, «влез в заваруху».
— Тут все куда-то влезли... Я — в драку, Бегемот в чужую квартиру, Старшой...
— Много на себя берешь, Блатной! — оборвал я его.— Тоже мне — конферансье. Укороти язык!
Мишка осекся, а Виктор сокрушенно
— Изнасилование за мной...
— У тебя ж бараний вес, где тебе девку осилить...
— Много нас было, шесть человек...
— Дело пахнет керосином. Это хор уже...
— Хор не хор, а влипли мы по дурости. Были на танцах, в соседней деревне. Одному нашему понравилась девушка, она на выходные приехала из города. Он потанцевал с ней, напросился провожать. Они впереди идут, мы сзади, чтоб не мешать. Видим, останавливаются. Она толкает его, вырывается. А он повалил ее, платье задрал... И как по нотам. Потом зовет нас. Мы под мухой были, раззадорились и тоже залезли на нее... Милиция всех и забрала, только первый, кто начинал, смылся. Он мужик ушлый, за кражу условный срок уже есть. Может, куда на Север подался... Говорят, что пол-России уже объехал, так что найди его сейчас. Меня вот семь дней в КПЗ продержали, думали, что выловят его... Хрен там... А я вот к вам, в компанию...
— Были у нас уже такие ... страдатели,— не решился все-таки выругаться Блатной.
...Пришел и его черед ехать на суд. После вещевого склада он появился в камере во всей красе, как он ее представлял. Безусловно, больше всего он гордился той самой курткой, которую проиграл Гавриле. Она явно предназначалась для охотника в тропической Африке: пятнистая, будто шкура леопарда, с многочисленными карманами, пригодными и для пистолета, и для ножа. Видимо, это была униформа наших десантников, которым приходилось бывать в «горячих точках планеты».
Под стать куртке и джинсы: не самого лучшего качества, но аляповато размалеванные какими-то крестами, символами, разукрашенные наклейками разных фирм — от «Кока-Колы» до «Адидаса». Довершали наряд стоптанные кроссовки, но также «Made in»... Попугайный вид нисколько не беспокоил Блатного, наоборот, он чувствовал себя королем...
Это чувство превосходства особенно проявилось, когда он вытащил из кармана сигареты.
— Угостили кореши,— важно проговорил он и сплюнул в парашу.
Табак был, а вот спичек у обрадовавшихся пацанов не оказалось. Но... голь на выдумки хитра. Новичок Виктор, оказывается, не забыл уроки школьной физики: надергав из матраца ваты, положил ее на кусок черной ткани, в котором предварительно проделал несколько дырок. Этот «компресс» приложили к электролампочке. Вскоре послышался резкий запах тлеющей ваты, а затем легонько зазмеился сизый дымок. Огонь был добыт, и каждый по очереди сделал несколько затяжек...
При расставании Мишка был необычно подавленным. Вся его развязность пропала, в глазах сквозили страх, растерянность; улыбка на пороге камеры получилась вымученной. Олег все-таки пнул его под зад, бодро гаркнул: "Чтоб ноги твоей тут больше не было!"
— Дай Бог, - сипло произнес в ответ Блатной.
РИЖСКИЙ ЦЕНТРАЛ
ЗЛАТАЯ ЦЕПЬ НА ШЕЕ ТОЙ...
КВАДРАТУРА ТРЮМА
НОЧНЫЕ ГОСТИ
КУЛОН С ФОТОГРАФИЕЙ
С надеждой на справедливость, а больше — на Бога, отправился вскоре по этапу и я. «Столыпинский» вагон повез меня в Ригу, куда после доследования отправили дело по нашему обвинению. Белорусское начальство и прокуратура СССР понимали, что в Минске осудить меня и моих товарищей по несчастью — Журбу, Бунькова, Кирпиченка, Волженкова — с первого захода не удалось, слишком явной была предвзятость следователей. Для расправы выбрали Ригу, Верховный суд Латвии, беспрекословно выполнявший в те годы любой приказ из Москвы. Через Витебск, через знакомый СИЗО, в котором я неоднократно допрашивал Адамова, этапировали в печально знаменитый Рижский централ.
На первых порах определили в камеру к несовершеннолетним, где уже был старший — некто Николай Казимирович Лопнев, по местной терминологии — инструктор. Мне была отведена роль как бы стажера.
Я лежал на своей койке, положив руки за голову. Не хотелось думать, но невольное беспокойство о предстоящем сложном судебном заседании тяжким камнем давило на душу. Хотелось покоя: усталость от многомесячного камерного заточения отрицательно сказывалась не только на физическом, но и на психическом состоянии. Измотанная душа жаждала покоя. Но покоя не было. Отвлечься от тяжелых неприятных раздумий не хватало сил. Окружающая обстановка постоянно напоминала о незавидном положении.
Невдалеке у распахнутого окна стоял Павел и, попыхивая сигаретой, пускал кольца дыма. С улицы дул теплый летний ветер. Лицо Павла было грустное, сосредоточенное, как будто он хотел увидеть сквозь зарешеченное окно что-то важное, одному ему ведомое и видимое.
— Что задумался, казак? — прервал я его раздумья.— Гони на меня, поговорим! — Павел вздрогнул от неожиданности, внимательно и настороженно всмотрелся в мое лицо. Потом медленно подошел и сел на койку.
— Смотрю, захандрил ты совсем. Давно сидишь?
— Скоро месяц будет...
— За что?
— За хорошее не посадят: кражи.
— Много их наковыряли?
— Да хватает, случаев восемь, наверно. Я сейчас обвиниловку принесу,— Павел вскочил и быстро пошел к своей кровати. Я сразу понял, что он хочет поделиться своей бедой, услышать совет, сочувствие.
Вскоре я держал в руках объемное обвинительное заключение на русском языке. С первых строк я понял, что составлял заключение работник не очень высокого профессионального уровня. Как-никак, работа зонального прокурора следственного отдела транспортной прокуратуры оставила во мне определенный след. И сейчас, держа в руках этот документ, невольно вспомнил свою службу, когда в день просматривал их по несколько штук, вникал в текст, пытаясь объективно оценить приведенные доказательства, определить правильность квалификации преступной деятельности.
Медленно, внимательно читал я обвинительное заключение. Окончив чтение, положил документ на постель рядом с собой и, обращаясь к Павлу, сказал:
— Ничего страшного, на мой взгляд, у тебя нет. Характеристика положительная, ущерб небольшой, да и товары, которые ты похищал, особой ценности не представляют, в основном продукты.
— От безделья по дачным домикам, подвалам шарили, что там может быть дефицитного: банки с консервированными огурцами, помидорами, вареньем, какие-нибудь спортивные тапочки, трикотажный костюм. Но сумма большая: фактов много.
— Да, сумма — больше тысячи, и пять человек привлекают, так?
— Да, пять. Троих арестовали, два пока на воле гуляют. Меня бы тоже не арестовали: под подпиской ходил. Да черт дернул выпившим прийти к следователю. Это его разозлило: «Милицию не уважаешь? Будешь знать, куда ты пришел в таком состоянии». И к прокурору, а тот печать — бац, и — будь здоров, не кашляй больше! Сюда упекли. Проклинаю тот день. И угораздило меня. Славку послушал. У него день рождения был, вот и пригласил меня перед обедом к себе. Пообедали, самогонки по стакану дернули, а мне после обеда — к следователю. Жара, разморило меня, пока доехал. А он сразу заметил, что я под этим делом и — в тюрьму. На прощание говорит: «Для тебя же лучше будет, а то еще чего натворишь, если спиртное употребляешь. Под градусом каких только чудес не делают. А так — пить не будешь: под охраной дни и ночи». Я бы эту охрану променял на год бесплатной адской работы. Так что же мне могут дать?
— Я что-то не заметил в твоем обвинительном упоминания 59-й статьи, о принудительном лечении от алкоголизма. Или по вашему кодексу другая? Лечение не назначили?
— Нет, но на комиссии был. Посмотрел врач, спросил сколько раз пью в неделю. Я ему говорю: раз в месяц получается, и то не всегда. А у нас следователь говорил, что это 57-я статья, что ли...
— Считай, что тебе крупно повезло. Если бы врач дал заключение о необходимости принудительного лечения от алкоголизма, то пришлось бы сидеть тебе на зоне. А так у тебя есть хороший шанс выйти из зала суда. Ты и работал, написано?
— Да, в колхозе. Матери на ферме помогал. Она одна, еще у меня меньший брат есть, первый класс закончил. Тяжело нас двоих кормить, одевать. Бедная, с утра до ночи пахала. Ну, я после восьми классов учиться дальше не пошел, а стал ей по хозяйству и на ферме помогать. Мать-то хотела, чтобы я десять заканчивал, просила меня идти в 9-й класс. Но я не согласился. Сказал, что буду сам себе зарабатывать. Вот и наработался. Сейчас осталось только «получку» получить. А мать жалко, ох как жалко! Она для нас старалась: как за нами ухаживала, как смотрела, пестила нас! Всегда в чистом ходили, в доме — порядок. Все-таки мы, пацаны, не девчата, всегда грязь найдем, порвем обновку. А она нас особо и не ругала. Повздыхает, посмотрит нам в глаза и молча штопает... И вот я ей подарочек сделал. Надо было драть меня как Сидорову козу, тогда, может, и толк был бы.
— Молодец, что понимаешь боль матери. А для себя выводы сделал из всего этого?
— Да. Сколько пережил, сколько передумал! Ночами просыпаюсь: плакать хочется, да неудобно. Не один: латыши смеяться будут. Среди них я один — русский. Подкалывают малость, относятся с пренебрежением. Но жить можно, в других камерах вообще беспредел. А здесь еще — более-менее.
— Ничего, Павел, держись. Всем здесь нелегко: и латышам, и русским, и белорусам, и цыганам. Тюрьма — не дом отдыха. Может, скоро на свободе будешь. Когда суд?
— А кто его знает? Арестовали перед самым закрытием дела. Вот уже обвиниловка на руках. Должны скоро осудить. Только я ни разу в суде не был, не знаю, что и говорить.
— Я тебе помогу. Напишу краткую речь. А ты выучишь ее наизусть и повторишь там. Можешь и своими словами. Сам смотри, как лучше получится.
— О! Это было бы неплохо. Мужик ты грамотный. Вон и латыши с тобой считаются. Не любят они, когда с ними споришь, не соглашаешься. Гордости у них много: выше всех себя считают.
— Не все латыши одинаковые. Вон Лауре, мне кажется, неплохой парень и не кичится, что он латыш. Да и все они только болтают. Молодежь нынче болтливая. Много пустословия, призывов, лозунгов. А парни они в чем-то и хорошие. Я встречал и хуже.
— Оно, может, и так. А все равно я неловко чувствую себя среди них.
— Это пока. Ты последним пришел в камеру, а придет другой, тебе легче будет. Уже он будет посуду мыть, подметать, убирать. Очередь здесь такая установилась. Не ломать же эту традицию?
— А я не против. Мне не тяжело стол убрать.
— И с продуктами. Видишь: сейчас уже делиться с тобой начали, немного, но выделяют. А там мне «дачка» будет, я предложу, чтобы и тебя в общий котел приняли.
— А меня и так примут. Скоро отоварка, а деньги я заработал. На них продукты общие покупаются. Поэтому поровну делиться будут,— не скрывая удовлетворения, добавил Павел и посмотрел в сторону собравшихся вместе латышей. Они что-то обсуждали на своем языке, изредка вопросительно и настороженно посматривая в нашу сторону.
— А отец-то у тебя есть?
— Отец!.. Он и есть, и нет его! Пить стал, когда брат родился. Запои — без пробудки. Пьяный — злой, мать иногда бил, меня гонял. Брата не трогал, маленький очень. А мне влетало. Терпела мать, терпела, не выдержала. Написала заявление на его лечение. Полечился полгода, пришел и пуще прежнего запил. Еще раз оформили — на два года. Вернулся, а пить не бросил. Развелась тогда мать с ним. Он собрался и к родственникам, на Украину, уехал. Он у меня полу хохол. Фамилия моя Нечипоренко. Мать — русская.
— А деньги присылал вам?
— Как когда. Алименты суд присудил. Да он часто места работы меняет. Разыщут его, а он снова удерет. Мать перестала уже в суд писать. Потом я стал зарабатывать. Лучше зажили, да вот снова беда. И как это я раньше не подумал? Подобралась компания. Вечерами, после работы, делать нечего — давай «гудеть». Где выпьем, где подеремся, на танцы сходим. А рядом с соседним хутором — большой дачный поселок. От Риги больше ста километров, но там электричка ходит. Мы давай по нему шастать. Сторож у них — старый дед. Где ему за нами угнаться? Мы по домикам, подвалам лазили. Что поедим, что с собой заберем. Милиция нас быстро нашла. Засаду сделала и поймала одного, а он всех выдал. И сколько еще сидеть? Быстрее бы суд начался. Может, пожалеют: первый раз, мать одна, без отца почти рос. Ты мне обязательно напиши речь. Да такую, чтобы всем в суде плакать хотелось. Я тебе подскажу, что писать. Давай прямо сейчас?
— Давай! Найди только чистый лист бумаги, а то у меня мало осталось.
Павел подошел к Николаю Казимировичу. Тот выдал два листа из школьной тетради. Подавая их мне, Павел пояснил:
— У него несколько чистых тетрадей в шкафу лежат. На отоварке купил. Если тебе понадобится, попросишь — даст.
Мы сели и стали писать последнее слово обвиняемого. Писали недолго. Опыт неоднократного участия в судах помог быстро и грамотно составить речь. Она получилась слезной, душещипательной. В ней отмечалось и то, что подсудимый — заблудший подросток, случайно оказавшийся на скамье подсудимых. Его прошлая тяжелая жизнь, безотцовщина с раннего детства, недостаток внимания окружающих, влияние улицы привели к совершению преступления. Работал он честно. За время пребывания в изоляторе многое понял и пережил и больше никогда не совершит преступления.
Дня через два в нашей камере появился новосел. Им оказался парень лет восемнадцати (потом узнали, что ему семнадцать с половиной), загорелый, крупного телосложения. Он выделялся среди нас своей броской красотой. Очевидно, не одна девушка признавалась ему в любви. Блестящие серые, «кошачьи» глаза, печально сомкнутые тонкие губы и мягкий баритон делали его особенно привлекательным. Яркая красота, как выяснилось позже, его и погубила.
Вначале я почти подружился с ним. Этому способствовали два обстоятельства: по-первых, он оказался моим земляком — родом с Витебщины. А встретить земляка вдали от родной земли всегда приятно. Во-вторых, его койка оказалась рядом с моей: этому посодействовали старожилы. Услышав, что он белорус, Томанис по совету авторитетного у подростков Гулбиса перенес матрац со своей койки на второй ярус, дав тем самым понять, что новичок может занимать освободившееся место. Лопнев сделал вид, что он этого жеста не заметил. Я возражать не стал: мне было приятно иметь рядом земляка, с которым можно поболтать в свободное время. Но наша дружба была недолгой.
Едва освоившись в камере, новичок дал понять сокамерникам, что способен постоять за себя: отказывался выполнять любые просьбы и приказания, на каждый словесный выпад давал резкий отпор. На прогулке, раздевшись до пояса, он долго прыгал, демонстрируя умение наносить и отражать удары. Юноши с любопытством, а некоторые даже с завистью смотрели на загорелое стройное тело с хорошо развитой, крепкой мускулатурой. Звали юношу Александром. Вечером, лежа в постели, я разговорился с ним. Тот охотно рассказывал о себе:
— Где родился, не знаю. Скорее всего, в Витебске, потому что в четырехлетием возрасте из дома-интерната меня забрала одна добрая женщина, которую я до настоящего времени зову мамой, хотя она мне не родная мать. Где мой отец и мать, кто они — я не знаю, а теперь и знать не желаю. Жил в Орше, там закончил восемь классов. Мать работала, за мной хорошо смотрела. Была у нас двухкомнатная квартира, мужа у матери не было. Но сожители периодически появлялись и исчезали. Меня это ничуть не трогало. Был у меня свой, хорошо обставленный угол, рос не зная особых забот, немного избалованным, капризным. Кое-как закончил восемь классов и, сказав матери, что хочу поступить в мореходное училище, укатил в Ригу. Говорят, хочешь «сесть» — поезжай в Латвию, хочешь сесть сразу — приезжай в Ригу. Так случилось и со мной. С трудом поступил в мореходку, уладил с общежитием, стал учиться. Занятия мне нравились, учеба давалась относительно легко. «Неудов» не было. Увлекался различными видами спорта: борьбой, боксом, культуризмом. Но так как парень я с виду ничего и башка варит (в детстве прочел сотни книг, кое-что в голове осталось, появились девушки. Общежитие, вечерние гулянья по городу, знакомства... и пошло, и поехало. Обзавелся городскими корешами. Вообще, я быстро знакомлюсь, нахожу общий язык с теми, кто мне нравится. Кореши имели добротно обставленные квартиры: кто с папой и мамой жил, кто только с мамой, без папы, кто наоборот, а кое-кто с дедушками, бабушками, у знакомых. Стал я бывать у них чаще и чаще. Появился определенный круг девчат и корешей. Зима прошла быстро. Время проводили в основном в квартирах: музыку слушали, винцо посасывали, девочек целовали, иногда больше... Весной солнышко пригрело — на природу потянуло. Стали выезжать в лес, на море, пикники устраивать. Первое время ко мне никто претензий не предъявлял, по-братски делились. Денег мне всегда не хватало, а то и вовсе не было. Подрабатывать умудрялся так: где одалживал, где за счет женщин жил. Под конец весны долги солидно возросли, настала пора расплачиваться, а нечем. Тут некоторые стали счеты сводить: пришлось бросить общежитие, а потом и учебу. Скитаться начал. Подвернулась Ленка, ей шестнадцать лет. Состыковались. Иногда у нее жил. Иногда у парней, иногда у других женщин ночевал. Нашел одного старика, земляка: один он жил, а квартира двухкомнатная. По пьяни познакомились. Предложил он к нему приходить ночевать. Приходил, когда ночевать больше негде было. Скитался я, скитался, а Ленка моя, девочка классная, втюрилась в меня по уши. Проходу мне не дает. Мне она тоже нравится. Да вот забеременела деваха: сейчас уже на седьмом месяце. Скоро родит. Жениться надо было, а что я: ни денег, ни профессии. Родители ее не очень-то меня обожали, но мирились. Особых претензий не предъявляли. Настало лето. Солнце. Море. Весь день я на пляже с Ленкой, а то — с другими бабами или парнями. А долги все растут и отдавать когда-то надо. Стал я потихоньку промышлять спекуляцией, фарцовкой. Сунулся в порт, в гостиницу к иностранцам, но быстро предупредили компетентные люди:
«Сынок, не суйся, куда тебя не просят, а то — сам знаешь...» Я быстро сообразил, что к чему... Здесь не та фортуна. Бочком, бочком и из этих мест деру. А «капуста» позарез нужна, без нее шага не ступишь. Пишу матери: она иногда вышлет полсотни на адрес старика. Но это же капля в море, по сегодняшним запросам. В кабак не сходишь, девушку не пригласишь. Да и Ленка полнеть стада очень быстро. Заметили родичи: скандал. Давай меня обрабатывать: «Что наделал? Девчонку совратил, испортил». А я им в ответ: «Не испортил, а счастье дал: женюсь на ней». Они за головы схватились: «Да такой жених разорит нас. Иди работай, а потом думать будем». Куда пойти, куда податься? Снова улица, пляж, ночные оргии. День за днем. «А мани, мани нет в кармане». Пришлось воровством заняться. Вначале в Елгаве квартиру обчистил, вещей на «полкуска» унес. Сбыл удачно, без особых проблем. Потом в Екабпилсе обчистил, почти «кусок» получил. Легче жить стало. Своей Ленке перстень золотой купил. Пусть помнит жениха. Но деньги — вода, быстро утекли, а куда — только ночь глухая знает. Шуры-муры, тары-бары, я за карманы, а там пусто, а надо, чтобы выросла «капуста». Вот я и решил ночью грабануть кого-нибудь. Так проще. Стал в темном углу, покуриваю, жертву выбираю. Женщин решил не трогать: как-то неудобно. Парня, оно, с моральной стороны, легче. Идет фраер в японской блестящей куртке, кроссовки новенькие, дипломат японский. А я не один, с одним корешем скорефанился. Он в другом углу покуривает. «Кинем?» — кричу. «Кинем!» — слышу в ответ, и с обеих сторон — к нему, фраеру, подкатываем. Посмотрели: никого, вроде, рядом нет. Говорим ему: «Зайдем в темный уголок, поговорить надо». А он смекалистый попался, сразу сообразил, что дело керосином пахнет. Давай на пяту нажимать. Догнал я его. Держу, кореш подкатывает и по губам ему — хрясь. Он заплакал: «Не надо бить, ребята, сам все отдам». Стал куртку снимать. Дипломат бросил, а сам снова на педали жать. Мы — за ним. Люди стали появляться. Труба дело: смываться надо, а с пустыми руками не хочется — увлеклись малость. На ментов нарвались, не знаю как: из-за угла вдруг двое с дружинниками выходят и за нас уцепились. Тары-бары, тыры-пыры — пройдемте в опорный пункт. А тут и обиженный подскакивает. Кровь на губах запеклась. «Они меня ограбить,— кричит,— хотят!» Совсем плохо стало. Понимаю, что бежать надо, а ноги точно трубы чугунные. Кореш стоит ни живой ни мертвый: латыш попался, а трусливый. В толпе он всегда впереди. А тут поник, слезу пустил. Идем: я малость очухался, стал ловить удобный момент, чтобы рвануть. С одной стороны мужик держит за руку, с другой — баба. Легавые подельника сторожат. Уловил я подходящую минуту, да как дернул. У бабы только ногти затрещали, а мужик сигарету курил. Так она дугу в воздухе описала. Они от неожиданности растерялись, а я на все две жму и думаю: ноги мои, ноги, унесите меня от беды подальше. Пока опомнились, пока рванулись, так я меж домов и скрылся. Долго бежал, пока совсем не выдохся. Перевел дух, значит, и размышляю: куда сейчас податься, что предпринять? Знаю: кореш ненадежный, сдаст. А он всего-то и знает обо мне, что зовут Александром. Ну, и парочку общих знакомых, которые не больше его обо мне знают. Я к деду пришел, собрал чемодан и решил ехать домой, в Оршу. А чтоб уехать — билет нужен, «капусты» же нет как нет. К деду: «Дай в долг», а он: «Нет, сынок, ты мне и так вон сколько задолжал». Что делать? Позвонил Ленке, говорю ей: «Неприятности у меня, уехать на время надо, потом тебя заберу, как устроюсь. Да вот денег нет». Она прибежала на условленное место, полета принесла. Плачет: «Как я без тебя буду...» Утешал как мог. Обнял, поцеловал и — на вокзал. Стал в кассу за билетом, на железнодорожном вокзале. А у ментов уже, значит, ориентировка на меня с приметами была. Не успел я к окошку подойти, как двое, как из-под земли, выросли: «Пройдемте,— говорят,— уточнить кое-что надо». Куда деться бедному еврею? Пошел. Все у меня внутри опустилось: теперь уж не убежишь. Прикинул, смекнул в дежурке. Рассказал про грабеж, о квартирах — ни-ни. Дело завели и тотчас же арестовали. Ни прописки нет, ни места жительства. Как только следствие началось, стали примерять к другим грабежам, кражам, раз бродяга. Надыбали одну квартиру, потом и вторую. Сознался. Продержали пять дней в КПЗ и сюда кинули... Отгулял свое матрос. Кликуха у меня такая — Матрос... Мать еще не знает. А может, следчий и сообщил,-
— А Ленка твоя знает? — поинтересовался я, отметив про себя, что у рассказчика вид был мрачный, а глаза по-прежнему смотрели на мир цинично и нагловато...
— Моя любовь, Ленка Миловская, уже знает. Я от следчего позвонил ей. Плакала у телефона, обещала ждать. Интересно, кого она мне родит: сына или дочь?
— Лучше б сына. Мужик есть мужик: с ним проще...
— Это когда проще? Когда в колыбели или когда такой, как ты?
— А что я? Неплохой же парень! Просто поскользнулся. Отсижу свое, на Ленке женюсь и тогда буду как все. Работать пойду, десятилетку вечернюю закончу. Парень я неглупый, мне бы поддержку малую. Сам себе дорогу пробью. Даст бог, не посадят. Плохо, что без прописки жил. Могут не поверить. Как ты думаешь, инструктор, зона светит или свобода?
— Трудный вопрос. Кто знает, что за тобой водится? Судя по твоему рассказу, проходимец ты хороший. Как-то уж больно быстро дорос ты до грабежа. Еще малость и на «мокруху» пошел бы.
— Что ты? Никогда в жизни! Человека убить я не способен. По пьяни мне бабу давай, на стыковку тянет. Знаю некоторых моих корешей — «под газом» их на приключения, на острые ощущения тянет: им бы подраться, сдербанить что, а я — нет. Женщину мне подавай! А трезвый могу и в романтику удариться. Соображаю, что по пьяни можно такое натворить, что за всю жизнь не расхлебаешь, поэтому настроил себя именно на этот лад. Пьяным — никуда ни-ни.
— А какая разница: на женщину тебя тянет, или на чужую квартиру? За иную женщину больше дают, чем за кражу. Если у тебя сильное влечение, как ты говоришь, на стыковку, так за изнасилование сядешь.
— Отчего я должен сесть за изнасилование? С моей внешностью — сами стелются. Нет проблем.
— Они-то сами стелются, а потом сами же и заявление подают. «Ходка» у тебя уже будет. Веры никакой. Как только, так сразу... Понимаешь ты это или нет?
— Подумать надо! — После некоторого молчания Александр добавил: — А ведь точно. Я знаю такие случаи. Сами ложатся, а потом заяву подают. А по пьяни и силу можно применить, ибо они, как правило, для виду сопротивляются, а потом жарко целуют, обнимают, шепчут: «Чего это я так ломалась?» Я не такая, я жду трамвая: прижми меня покрепче.
— Цинизма тебе не занимать. Когда только ты успел в свои годы столько ощущений получить?
— Красота во всем виновата: бабы сами на шею бросаются. Одна, другая, третья. Стоило только попробовать, а там пошло и поехало. К ним привыкаешь, как к табаку. Все тянет и тянет. Создал же бог соблазнительниц. Иная такой овечкой прикинется, а под этой шкурой — тигр или кошка. Сколько я их перевидел за этот год!..
— Венерическими болезнями не страдал?
— Не без этого. Два раза от гонореи лечился, от других — разов пять. Хорошо еще, что сифилис не подцепил. Труба была бы. Мужики говорят: уколы болючие, на стенку лезут.
— Да, супермен! А как насчет музыки?
— А какие женщины без музыки? Современная музыка, она настраивает на любовное, интимное сближение. Ты слышал последние диски «металлистов»?
— Откуда в тюрьме музыкальные новинки? Их не выдают на прослушивание арестованным.
— Их и на свободе в продаже нет. Через порт доходят: из загранки моряки привозят или иностранцы. Немалые деньги за них сшибают. Я знал одного бизнесмена. У него японская аппаратура, большие связи. Так он у себя подпольную студию звукозаписи открыл. Доставал самые последние диски, снимал копии, на магнитофонные ленты переписывал и продавал. Он в день по «куску» имел. К нему толпами ходят. Только он больно хитер и осторожен: через доверенных лиц свой бизнес делает. Но его знают и даже обращаются с просьбами некоторые «шишки». Вот этот живет (я у него раза два был): две машины «Жигули», кореши говорят, тысяч сто имеет. В разных сберкассах хранит. Дома боится. Запоры поставил, квартиру ментовской сигнализацией оборудовал. Везет же некоторым!.. А музыка? Какая есть музыка! Я же говорил, как послушаешь — всю душу выворачивает. Раскрепощаешься весь: такое наслаждение испытываешь — не живешь, а плывешь, не ощущая забот. Если рядом какая девушка, то она такой послушной становится, неземной. Делай с ней, что хочешь... Музыка — огромная сила, она, как бушующий океан или мощный водопад: то бросает, то обнимает, то плачет, то носит... Я в детстве занимался в музыкальной школе. На гитаре неплохо шпарю. Девочкам это нравится.
— Мало того, что ты «супермен», так ты еще и меломан. Талант, сплошной сгусток мудрости. Самородок. А тебя в тюрьму? Да таким, как ты, мир должен рукоплескать: сколько чувств, сколько эмоций, сколько тяги к прекрасному,— язвил я, пытаясь задеть самолюбие соседа и увидеть, какой эффект произведут на собеседника мои слова. Тот же с самодовольной улыбкой, равнодушно и беззаботно продолжал смотреть в потолок, не поняв моего язвительного тона или не придав ему никакого значения. Но после длительной паузы вдруг нагло и самоуверенно заявил:
— А что? Я мог бы быть какой-нибудь звездой! Природные данные есть. Только вот «мусора» проклятые мне будущее перечеркнули. Ничего, я еще поднимусь, я им покажу, на что способен Плутон Александр! Будет и на нашей улице праздник!
— Это ты серьезно или шутишь? Несостоявшийся артист! Для того, чтобы чего-то достигнуть в жизни, «пахать» надо. День и ночь в поту работать. А ты — бездельник и прожигатель жизни! И если не начнешь трудиться, из тюрьмы тебе не вылезти. Здесь погибнут и твои желания, и талант. Это-то хоть ты понимаешь?
— Потихоньку доходит. А вообще, скажи, правда, я неглупый малый? Умею красиво говорить. Возле женщин всему научишься. Они любят приятные речи, комплименты. А я неплохо начитан. Запоями книгу за книгой глотал. Историю хорошо знаю, литературу. Но невезучий. Родился под забором и умереть, наверное, придется там же. Так, видно, на роду написано...
— Знаешь, счастливыми, умными и добрыми не рождаются, ими становятся. Как, впрочем, глупыми, жестокими и несчастными. А ты молод. Очень молод. Вся жизнь впереди. Каким захочешь, таким и станешь. Тебе выбирать и вершить свою судьбу. Что сейчас посеешь, то потом к старости пожнешь.
— Это-то верно. Но жизнь не складывается с детства,— перешел на серьезный тон Александр.— Родился: ни отца, ни матери. Рос приемышем. Оказался предоставленным сам себе, соблазнов много, не устоял. Чем дальше, тем хуже. И поехал и покатился, в тюрьму попал. А дальше что? Выпустят меня из зала суда или в зону вернусь? Ленка молодая, «хахаля» найдет. Надо идти работать, а погулять охота. Не знаю... Надо браться за ум, идти работать. Надо работать, работать. Главное — внушить себе. Парень я упорный. Начать трудно. Прописки нет, здесь оставаться нельзя, уезжать надо. Может, в Оршу, к матери податься? И там начать новую жизнь? Что посоветуешь, земляк?
— Что тебе сказать? Тяжело будет хозяином жизни стать. Ох, как тяжело! Но испанцы говорят: «хотеть — значит мочь». Будет воля и желание — значит, будет и человек. Упорство и труд все перетрут...
...Жизнь у меня вошла в привычную тюремную колею. Распорядок суток такой, как и в любом другом следственном изоляторе. Подъем — завтрак — обед — ужин — прогулка — отбой. И так изо дня в день. Я уже получил продуктовую передачу из дому. А вместе с ней летние туфли, рубашку, спортивную тенниску. Эти вещи мне были не нужны. Но откуда дома могли знать, что делается в тюрьме, что нужно арестованному. Так же, как и заключенные не знают, что происходит у них дома. Принцип заточения — полнейшая изоляция, отсутствие связи со свободой. Когда принесли передачу, работница СИЗО, женщина лет тридцати, долго добивалась у меня, чтобы назвал фамилию передающей посылку женщины. Я называл жену, сестру, родственников, но стоящая за дверьми у открытой кормушки полногрудая женщина, улыбаясь, отрицательно качала головой. Наконец ей надоело играть и она назвала фамилию подруги жены, что немало удивило меня. Сразу же мелькнула мысль: «Может, что случилось дома?» Военнослужащая потребовала назвать имя, отчество и домашний адрес знакомой. За долгие тяжелые месяцы заточения, находясь в постоянном напряжении, я многое успел забыть. Имя, отчество я вспомнил, а адрес так и не назвал, хотя бывал у нее с женой несколько раз. Вымучив меня, работница СИЗО наконец отдала наволочку с продуктами и вещами.
Потом, лежа на кровати, я беспокойно перебирал: что могло произойти дома, почему жена не приехала? И тут вдруг вспомнил, что у подруги жены здесь, в Риге, живут родственники. Значит, она взялась привезти передачу, а заодно навестить родных. Однажды мы с женой были у нее в гостях, тогда к ужину она подала копченых кур. Они были приготовлены по высшему классу: издавали аппетитный аромат, мясо таяло во рту. Гости хвалили хозяйку и удивлялись ее кулинарному искусству. Тогда хозяйка уточнила, что не сама их готовила, а привезла из Риги, от родственников, которые большие спецы по этой части. С каким наслаждением съел бы я сейчас хоть кусок такой курицы!
Когда я додумался, почему передачу привезла подруга жены, успокоился и даже обрадовался за жену. Значит, она не одинока, друзья не оставили ее. Может, и обо мне кто вспомнит, кроме родственников, не отвернется, не постыдится произносить мое имя...
На прогулке, видя, как вызывающе позирует Александр, демонстрируя крепость своих мышц и бросая пренебрежительные реплики в адрес сверстников, я не выдержал (очевидно, не последнюю роль сыграло и тщеславие) и предложил ему помериться ловкостью и силой. Начали с борьбы. Молодой загорелый юноша был гибок, раскрепощен, но и бдителен, осторожен. Я же, имея некоторый опыт, наступал твердо, уверенно. Вскоре мне удалось захватить вытянутую руку соперника на провис и удачно заломить ее. Парень закряхтел от боли, потом завопил:
— Сдурел совсем! Так и сломать можно! Попался бы ты мне на свободе...
— Я же не хотел сделать тебе больно! Просто ты сильно напряг руку, отчаянно сопротивляясь, вот и пришлось немного поднажать... А сломать не сломаю, кость — она чувствуется,— миролюбиво оправдывался я.
— Здоровый, как бык: тебе сидеть и сидеть в тюрьме. А все стонешь: то живот болит, то сердце покалывает. Да тебя колом с первого раза не прибьешь,— не унимался земляк.
— Брось стонать. Давай лучше боксом займемся. Учись, пока я жив,— предложил я.
— Давай, вот здесь я тебя в трубу загоню,— желая взять реванш, агрессивно заявил Александр.
Начали боксировать, вернее, имитировать удары, едва дотрагиваясь друг до друга. Юноша передвигался быстро, дыхание у него было ровное, без перебоев, чувствовались молодость, отдохнувшее, выгулявшееся тело. Я тяжело дышал, угнаться за соперником не успевал: тот широко и легко прыгал, пружиня на ногах. Но опыт есть опыт, многолетние тренировки в секции бокса давали о себе знать. Я свободно чувствовал себя под ударами противника, непринужденно отбивал их либо уходил в сторону. В то же время сам ударов наносил мало, но старался бить метко и, как правило, мои удары достигали цели. Это бесило Александра, подзадоривало, распаляло страсть: он изо всех сил старался показать, что превосходит противника. Но тем больше пропускал ударов. Вскоре стал сдавать, движения его замедлились, передвигался с трудом, дышал тяжело, прерывисто. Ритм нарушился полностью.
— Ладно, хватит,— первый предложил я и стал делать упражнения по восстановлению дыхания. Моему примеру последовал и молодой соперник. По его красивой, шоколадного цвета коже струился пот, искрясь на солнце.
— Уморил ты меня совсем. Семь потов выжал. Сразу видно — профессионал. Я тоже занимался, но немного. Скоро бросил, надоело. Надо три раза в неделю по вечерам в секцию ходить. На улице — солнце, женщины, благодать, так зачем в подвале сыром потеть? Скажи, инструктор?
— Остались куриные мозги в голове и немного здоровья: не все еще на женщин истратил.
— Да, они отнимают его, как пиявки: высасывают все соки. Было время, когда стал от одной к другой ходить, так похудел, что от ветра шатался. Понял, стал реже встречаться. Ну их...— нецензурно выругался Александр.— Закурить бы сейчас, да нечего. Надо бы у латышей попросить, а я их органически не перевариваю. Надоели они мне за этот год. Но курить все равно хочется. Ладно, все-таки пойду попрошу.— Юноша уверенно подошел к группе латышей и вскоре возвратился с дымящейся сигаретой.
— «Балтию» достал. Здесь, в тюрьме, это дефицит. В основном «Памир» курят: дешевые и всегда на отоварке есть.
— Сколько они стоят?
— Двенадцать копеек.
— А на какие шиши ты будешь курить? Ведь у тебя ни копейки нет. Месяц на голяке сидеть надо. Побираться станешь? Они вон уже с неохотой дают тебе сигареты. Самим лишний раз затянуться не мешает. А окурки как-то некрасиво подбирать, да и с гигиенической точки зрения... Сам понимаешь...
— То-то и оно! Унижаться перед лабусами не буду. А курить хочется! Бросать надо.
— Не бросишь! Знаю, очень трудно это сделать. По данным ЮНЕСКО, в мире только три процента курильщиков в 70-е годы бросили курить. Остальные пробуют, пытаются, но снова начинают.
— Сказал брошу, значит, брошу. Упорства хватит. Давай поспорим? — предложил Александр, пытаясь доказать, что он слов на ветер не бросает.
— Ты же проспоришь, а потом будешь обижаться, что объедаю тебя,— подзадорил я.
— А на что спорить будем?
— Как на что? На белый хлеб с маслом. А взамен, так как мне тортики не дают, буду отдавать сало, свою долю. Идет?
— Давай!
— Э, не! Потом скажешь, что не спорил. В таком деле свидетели нужны. Пошли к ребятам.
Подошли к группе латышей, что-то активно обсуждавших. Увидев нас, они выжидающе замолчали.
— Вот я с инструктором поспорил. Говорю, что брошу курить, а он не верит. Пари хотим заключить. Кто перебьет?
— Значит, условия таковы: если в течение пяти дней он,— я указал пальцем на горделиво стоявшего Александра,— не закурит, то я ему отдаю свою пайку сала. Если же он не выдержит, то с того дня отдает мне свой белый хлеб с маслом. Понятно всем?
Сокамерники молчали, прикидывая в уме, какую позицию занять. Гулбис заговорил первый:
— Вообще-то, кровную пайку никто в тюрьме ни у кого не забирает. Но раз он сам хочет, пусть спорит. Я не против.
С его мнением согласились остальные. Руки нам «перебил» инструктор Лопнев.
С этого момента все стали с интересом наблюдать за Александром: закурит или нет? Мне показалось, что большинство было на его стороне. После разговора о национальной политике и замечаний о том, что латыши не лучше других народов, несовершеннолетние прибалты во главе с Лаце стали относиться ко мне настороженно, с опаской, не скрывая недоверия и отчужденности. Но меня это не особенно волновало. Конфликтных ситуаций не было, и ничто их не предвещало. А это главное. За время пребывания в изоляции я уяснил, что самое важное и существенное в условиях камерной системы — это психологический климат. Если возникают дрязги, ссоры, потасовки, то и без того взвинченные нервы сдают окончательно, человек теряет способность сопротивляться и противиться условиям, он превращается в тряпку, в измотанного и изможденного нервозного субъекта. А если в камере спокойно и тихо, то даже при отсутствии общих интересов, дружеского взаимопонимания и участия жить можно. В общем-то, здесь каждый живет сам по себе, мысленно чаще всего остается наедине с собой: обо всем каждому не скажешь, не поделишься, друзей сразу не найдешь...
Двое суток Александр держался: мучился, переживал, не находил себе места. Он то подолгу молчал, то спорил со всеми подряд. Но вдруг уступал, не допуская предельного обострения. Теперь часто слышал я его глубокие вздохи, неоднократно перехватывал жадные, нетерпеливые взгляды в сторону курящих. На третьи сутки он сдался. С обидой и горечью, отчаянно махнув рукой, громко заявил:
— Буду курить! Кто угостит сигаретой?
Но никто не отозвался, ожидая, что, может, эта минутная слабость пройдет, и он продержится еще дня три. Но увы! Надежды не оправдались.
— Будьте же людьми: дайте сигарету! Не могу больше,— жалобно, все настойчивее и настойчивее взывал он.
А когда затянулся, на лице появилась улыбка блаженства и наслаждения. Сделав несколько глубоких, жадных затяжек, широко улыбнулся и произнес:
— Голова закружилась. Словно пьяный. В сторону ведет. Балдеж!..
Но когда подошло время отдавать масло с белым хлебом, настроение его резко упало. Голосом, глухим и сиплым от обиды, угрюмо взглянув на меня, пробормотал:
— Возьми. Хитрыи ты: все заранее продумал. Мне же тоже жрать охота!
То, что ему действительно хотелось есть, я знал и видел. С первых минут появления в камере он постоянно собирал остатки пищи, с жадностью все проглатывал, нетерпеливо ждал обеда, часто просил у сокамерников что-нибудь из продуктов, утоляя свой волчий аппетит. И сейчас, ошарашенно глядя, как я глотал его кровный белый хлеб, не скрывал своих чувств:
— Не подавись чужим куском! Ишь на халяву челюстями молотишь. Зря я с тобой спорил. Дай хоть кусочек, без масла.
— Вот тебе весь мой черный хлеб. Парень ты молодой, желудок варит, не испорченный, только со свободы, не то, что мой,— приговаривал я, отдавая ему свой черный хлеб.
Посмотрев на насупившееся, несчастное лицо обиженного, я добавил ему еще полкуска своей порции сала. Выражение лица Александра смягчилось: на нем появилась приятная, сладкая улыбка:
— Во-во, так я согласен. Ты мне свое сало давай. А я тебе без сожаления белый хлеб и масло впридачу. Пойми, я юный, мне расти надо. Витамины нужны, калории разные. А ты уже за половинку перевалил. Пожил и хватит. Дай другим.
— У тебя жизненного опыта мало. Вот и учу уму-разуму: надо быть хозяином своего слова. Это тебе повезло, что в эту хату попал. А был бы в другой, там тебе за каждое глупое изречение, за каждое небрежно брошенное слово, за любую ложь по шее давали бы...
— Все ты верно балагуришь. В других хатах беспредел. Там по всякой мелочи друг к другу придираются. Приемки такие устраивают, что на всю оставшуюся жизнь запомнишь,— за всех ответил Томанис.— Я уже эту школу прошел. Еле вырвался оттуда. Упросил воспитателя, чтобы сюда перевел. Пахал там, как папа Карло...
— А вообще-то, кровную пайку нигде не забирают. Нехорошо ты, инструктор, делаешь, что у несовершеннолетнего его белый хлеб с маслом забираешь. Это «кровняк». Не по тюремным это законам,— вмешался Гулбис.
— Много ли ты знаешь о тюремных законах? По этим законам проигрывают все: и пайку, и дачку, и отоварку, и работу, даже жен своих и сестер, даже жизнь. Ты что, не знаешь, что здесь у вас делается в камерах? Даже у «парашников» и «петухов», которыми брезгуют и относятся к ним с отвращением, отбирают все, в том числе и продукты. Законник нашелся! Чтобы что-то утверждать — знать надо, а чтобы знать — интересоваться... А из того, что я у него взял хлеб, пусть делает выводы на будущее: здесь он не голоден, и я его без куска не оставлю. Но зато поймет жизнь, поймет, что слово — не воробей. В другом месте ему в сотни раз хуже будет. Пусть постигает азы жизни...— Окончив свой монолог, я посмотрел на Лаце, а потом на остальных, стараясь оценить, какой эффект он произвел, и перехватил несколько удивленных взглядов. «Но откуда ему столько известно, не отбывал ли он уже наказание в местах, не столь отдаленных?» — вот какой вопрос мог возникнуть у них...
Гулбис молчал, опустив глаза, не зная, что ответить. На помощь ему пришел Лопнев:
— Я ничего не имею против: проспорил, пусть отдает. Другой раз думать будет и трезво оценивать свои возможности. Молодой, нахрапистый, считает, что все ему под силу. В жизни не всегда сказать — значит выполнить. Но, с другой стороны, забирать хлеб у несовершеннолетнего — не очень-то хорошо. Хотя ты, Валерий, и прав.
— И ты, Николай Казимирович, ничего не понял: мне не нужны его хлеб и масло. Я сейчас более-менее сыт: питаюсь из общего котла, плюс отоварка. За девять месяцев камерной жизни я еще так, как сейчас, не питался. Отвык много есть. Но дело-то совсем не в еде. Нам надо учить молодежь правильно вести себя и отвечать за свои слова и поступки. Здесь, в тюрьме,— сплошной бардак, беспредел. И кто зачинщики и потворщики? Вот такие циничные, наглые, как он, молодые люди. У нас, здесь, он — ягненок. А дай ему волю, он тут же сбросит овечью шкуру и облачится в волчью. А так, пусть знает, что всегда найдется сильнейший, который может поставить его на место. А средства и способы бывают разные. Я не думал забирать у него хлеб, просто решил пару дней подразнить его, чтобы он все понял, а потом вернуть все на свои места. С первого дня моего прихода сюда я открыто заявил свое недовольство и несогласие с дележом на бедных и богатых. У тебя есть кому передать продукты — ты сыт, у тебя нет — ты голоден. Я категорически против этого. Еще можно понять это на взросляке, где собирается такая публика, что не только давать ему свое, но и брать у него, даже сидеть рядом — противно. Здесь же — несформировавшиеся, часто наивные души. Но у них суровая, не детская участь, хотя по их же, может, и вине. Пусть они познают всю низость, пошлость, всю подноготную тюремного бытия, чтобы, когда выйдут отсюда, не только сами не захотели обратно, но и десятому заказали, предупредили, остановили...
За столом на некоторое мгновение установилась полная тишина.
— Тебе только попом или проповедником работать: ты бы такую «капусту» зашибал. Мягко стелешь, глубоко в душу заходишь, так что только держись. И хочется тебе поверить. Да с тобой пожить наедине с недельку — с чем хочешь согласишься. Мастак ты пыль в глаза пускать. А мы уши развесили, рты пораскрывали и молча слушаем, слушаем нового Христа. Да ты знаешь, как мне эти нравоучения за всю жизнь надоели? Все учат, учат, а в душу заглянуть, что в ней кипит и варится, никто не хочет. Подростка вначале понять надо, профессор, а потом его воспитывать,— трезво заключил Гулбис.
— Во-первых, не такой уж ты и подросток. И умом, вижу, Бог не обидел. Во-вторых, я не задаюсь целью тебя или его перевоспитать. Это глупо: за несколько вместе проведенных дней так сильно повлиять на человека, даже подростка, чтобы он в корне изменил свое поведение... Но, не скрою, мне бы хотелось, чтобы каждый из вас серьезно задумался над жизнью. Конечно, ты можешь спросить: какое мне дело? Оно, может, и так! Не исключено, что мы можем потом никогда с тобой не встретиться, и твоя судьба не коснется ни меня,- ни моих близких, знакомых. Не исключено и обратное. Мир тесен. И сколько в нем, в этом тесном кругу, будет хороших, добрых людей, настолько прекрасней будет наша жизнь. У тебя — свои знакомые, ты с ними общаешься, у него — свои, у третьего, пятого, десятого — тоже свои. Это своеобразная цепочка общества, и если одно звено ржавое, заржавеет и другое, а там — третье и т. д. Скоро и вся цепь проржавеет и развалится. Поэтому, на первый взгляд, дела мне до тебя нет, как и тебе — до меня, а если смотреть глубже, то в какой-то степени от всех нас и зависит наша жизнь в целом, будущее наших детей. Я, может, наивно тебе объясняю. Хочу, чтобы это дошло до каждого...
Все сидели в задумчивости и молчали.
Вскоре забрали из камеры на этап Лаурса. Я знал, что его привлекают за групповое изнасилование. Уехал как будто закрывать дело, знакомиться с собранными материалами. Впечатление на нас произвел он неплохое. Больше молчал. По всему было видно, что парень сильно переживал из-за случившегося. Один только раз я перекинулся с ним несколькими фразами.
— Слушай, скажи мне свое мнение: сколько мне дадут?—спросил он вполне серьезно, чем вызвал у меня улыбку.
— А можешь ли ты сказать, сколько мне суд отмерит?
Лаурc в задумчивости покачал головой.
— Вот видишь, не можешь, а как я предугадаю? Такими способностями не обладают ни гадалки, ни телепаты. Никто на этот вопрос не ответит. Даже судья, который тщательно изучит дело, выслушает тебя, не скажет точно сколько. Чтобы определить меру наказания, ему необходимо выслушать все стороны, всех свидетелей, а потом коллегиально, с народными заседателями, обсудить вопрос о мере наказания и прийти к общему знаменателю. Конечно, ты мне можешь возразить: люди заранее угадывают, следователь, а иной раз и судьи заранее высказывают свое мнение. А я тебе скажу: грош цена такому судье, который предопределяет судьбу человека. Это порождает и судебные ошибки, и безответственное отношение к своим служебным обязанностям. У меня такой случай в практике есть. Я тоже заранее плохо подумал об одном человеке, глубоко не вникнул в его жизнь и тем самым здорово навредил ему, другим и себе,— уклончиво намекнул я о своей роковой ошибке.— Так что извини, брат по несчастью, а на этот вопрос светить не могу.
— А примерно?
— Дело надо знать, чтобы приблизительно сказать.
— А дело такое. Выпили мы втроем (все несовершеннолетние), пошли на танцы. Познакомился с одной кадрой. Пошел проводить домой. За мной увязались два моих кореша. Девчонка не подарок, до меня еще раньше доходили слухи, что гуляет она напропалую. Горпоселок небольшой: о каждом почти все известно. Идем мимо частных домиков. Знаю, что у одного знакомого на огороде есть баня. Предлагаю ей в бане посидеть, поболтать. Она согласилась. Подходим, а там замок на дверях. Ну, я окно выставил, она и полезла, я за ней. А мои кореши на улице стоят, в стороне, ждут меня. Я с ней слово за слово, целоваться начали, раздевать стал. Она не сопротивляется. Дальше — больше. Не успел я это дело закончить, как мои в баню лезут. Увидели, что я на ней. Говорят: и мы хотим. Она ни в какую. Они ей и пригрозили малость, но не били и силой не брали. По очереди «отработали»... Вышли мы на дорогу, идем по асфальту все вчетвером. Кадра немного плачет, может, для виду, кто ее разберет. А тут «канарейка» навстречу. Фарами осветила, остановилась. Подходят к нам двое: один в форме, другой внештатник оказался. Спрашивают: «Почему девушка плачет?» А мы ему: «Да ничего, все нормально, поезжайте. Поругались, поссорились, сами разберемся». Он к ней: «Чего плачешь, красавица?» Она молчит, всхлипывает. «Раз такое дело, садитесь в машину, в отделении разберемся». Мы перепугались, чувствуем, неладное может быть. Ну, один с испугу давай удирать, за ним никто и не погнался. Меня и другого за руки схватили и в машину. А кадра сама влезла. Приезжаем. Она и заявляет: «Меня изнасиловали». Я ей: «Ты что мелешь? Сама мне дала». Молчит. Стыдно. Сказала, что они, те двое, изнасиловали, а мне, мол, по согласию. А какая разница? Все равно. Раз мы вместе были, они насиловали якобы, а я рядом был, то и меня за компанию пристегнули и арестовали. К тому же я старше их всех. Одного — на год, другого — на полгода. Всех троих арестовали. Мать, отец — в стрессе. Жалеют меня. А что они поделают, работяги простые? И надо же было с ней связаться! Вот и все. Что ты скажешь? — Очень сложно определить. Ситуация у тебя необычная. Ты мне так рассказываешь. Девушка по-другому может говорить. Здесь и суду нелегко разобраться. Если девушка подтвердит все, что ты сказал, так, вроде, выпускать тебя надо. Зря и арестовывали. Но у тебя как будто и соучастие есть. Ты мог предотвратить их насилие, так?
— Мог, конечно. Они бы меня послушались. Да если бы ее били, заставляли. А то сказали, она и ноги раздвинула.
— Угроза может быть и словесной, как в данном случае. Подготовься к суду, говори правду. Может, и благополучно обойдется. Главное сейчас — держись, не падай духом. Не такой ты матерый преступник, чтобы от тебя отвернулись.
Лауре отошел в сторону. Постоял, посмотрел сквозь решетку на. голубое залитое солнцем небо, вздохнул и пошел к играющим сокамерникам, те начертили куском штукатурки на цементной площадке «классики» и, как дети, по очереди бросая камушки, прыгали на одной ноге. Возраст есть возраст. Жизнь и в тюрьме продолжается.
После отъезда Лаурса другой шустрый и неспокойный несовершеннолетний, Юстас, стал ежедневно ездить в суд, где слушалось дело по его обвинению. Возвращаясь вечером, голодный и усталый, он откровенно рассказывал о ходе процесса:
— Нас девять человек. Целая армия сидит, еле места всем хватает. Пять арестованы, четыре — нет. Один прокурор, а против него девять адвокатов. Он вопрос, а они — десять. Но мы держимся. Один, правда, нюни распустил, заплакал. Другой на меня вдруг бочку покатил. Я на него, сразу успокоился. Суд все выясняет: кто первый ударил потерпевшего. А мы один на одного киваем. Запутали всех. Никак не могут с места сдвинуться. Еще долго лапшу на уши вешать будем. Пусть думают, за то и деньги получают,— при этом самодовольная улыбка появлялась на его худом, бледном, изнуренном лице. Проглотив очередной кусок хлеба и запив чаем, продолжал:
— Прусиса наголо остригли: он сидел в первом корпусе, в общей хате. Вшей нашли, говорит. Была шевелюра, а сейчас — уши да нос, а по голове мухи ползают. Потеет в суде, отмахивается, а нам смешно. Согнемся за барьером, потихоньку фыркаем от смеха. Судья у него спрашивает: «Подсудимый Прусис, вы участвовали в избиении потерпевшего?» «Нет»,— говорит. «Как нет, когда такие-то говорят, что вы били?» — «Они били, поэтому и говорят!» Поднимают меня: «Подсудимый Кипурс, участвовал Прусис в избиении?» Я отвечаю: «Да, бил, и много раз». И так — друг на друга. У потерпевшего — три фонаря, а нас девять человек. Вот попробуй, раздели на всех. Судья спрашивает: «Подсудимый Ракманс, что вы забрали у потерпевшего?» А он: «А я ничего не брал».— «Как не брали, когда в протоколе записаны ваши показания? Вы лично сняли кроссовки с ног потерпевшего и браслет с руки отстегнули. Как это понять?» «Может, следователь взял, а на меня списать хочет?» — обиженно и спокойно говорит Карлус. Мы все со смеху мрем. Громко смеяться неудобно. Судья уже два раза предупреждал, что удалит из зала... Прокурор задает вопрос Юрису: «Подсудимый Томсон, вы, говорят, подстрекали остальных: «Бейте его, бейте!» А тот: «Что вы, я говорил: «Не убейте его, не убейте».— «Но в ваших показаниях, том такой-то, лист такой-то, записано, что вы кричали: «Бейте его, бейте!» — «Следователь плохо русский язык знает, «у» недописал». Опять шум, смех в зале. Судья: «Значит, вы кричали: «Убейте его, убейте». Правильно мы вас поняли?» — «Нет, я кричал: «Не убейте его». Опять смех в зале. Не суд, а цирк. Вообще весело. Интереснее, чем в хате под замком весь день сидеть,— на ломаном русском языке, медленно подбирая слова, рассказывал Юстас. И сам же громче всех смеялся. Настроение его заметно улучшилось.
На следующий день после первого выезда он, как обычно, вошел в камеру после ужина и тотчас стал хвастаться, что у него новые кроссовки. Он их снял и с большим удовольствием стал всем показывать.
— Сдербанили у глухонемого. Привезли нас из суда и пять человек закрыли в один бокс. А там еще двое сидят. На одном — куртка болоньевая классная, на другом — кроссовки новые. Мы переглянулись, подмигнули друг другу и подходим. Так, мол, и так, фраера, делиться надо. Один из них головой замотал, а второй говорит: «Не дам вам ничего, самому пригодится». Ну, Прусис ему кулак под нос: «А это видел?» Сам лысый, зубы оскалил, глаза выкатил, рожу скривил. У того душа в пятки. Снял, отдал. Мы к другому, а тот мычит, руками машет, показывает, что не понимает. Мы смекнули: немой. На бумаге написали: «Петух, снимай кроссовки». Он головой в сторону, машет руками, показывает, что не «петух». Толпой навалились и пикнуть не успел, как кроссовки у меня
в руках оказались. Мы ему мои кеды сунули. Носи, мол, старик, не обижайся на нас, босым не оставили. Скривился, кулаком машет, а лезть боится. Знает, что получит. Ну, как кроссовки?
— Ничего. Я их примерил, мне подходят,— сказал Александр, возвращая их Юстасу.
Я посмотрел на Лопнева. Тот стоял молча, в раздумье, потом сказал:
— Слушай, Юстас, я с тобой не раз уже разговаривал, ты что мне обещал?
— А что? Не помню!
— Как не помнишь? Ты уже было залетел, а я тебя спас: попросил воспитателя, чтобы не наказывал. Тот послушал меня. А потом тебя предупредили, что если еще раз влезешь куда-нибудь, сами воспитывать будем и накажем. Был такой разговор?
— Ну, был!
— Вот ты снова за старое взялся: человека ограбил. Узнает воспитатель, тебя в трюм посадят, всю камеру накажут. Говоришь тебе, говоришь, а ты за свое. Только о себе и думаешь, а мы-то при чем? Нас ведь тоже накажут, телевизор в комнату не дадут. Ты это понимаешь?
— Откуда воспитатель узнает? Никто ж не закозлит.
— Ты за всех не отвечай. Каналов, чтоб узнать, у него много. Мы посовещаемся и решим, как тебя наказать,— предупредил Лопнев.
Я обратил внимание, что он ничуть не сожалеет о том, что несовершеннолетний фактически совершил преступление: ограбил беспомощного, обиженного Богом и судьбой глухонемого. Инструктор больше пекся о благополучии в камере, чтобы никого здесь не наказали. Что же делается за ее стенами, его мало волновало.
Николай Казимирович собрал всех за стол и стал держать совет, как наказать Кипурса. Все молчали. Не выдержав, вмешался я:
— Вы что, одобряете поступок Юстаса? Что молчите? Ведь он ограбил глухонемого. Ограбить любого человека преступно, а ограбить беззащитного, больного человека — преступно вдвойне. И поэтому я предлагаю: на неделю лишить его общего котла. Посидит на тюремной баланде, подумает...
— Я поддерживаю предложение инструктора. Выносить, как говорят, сор Из избы мы не будем, а Юстаса надо наказывать. Завтра еще какой-нибудь сюрприз преподнесет нам. Как-никак у нас лучшая камера.
— Я думаю, что можно и простить его: на первый раз ограничимся предупреждением. Ну, а если еще раз повторит, тогда и накажем,— встал на защиту Лаце. Остальные молчали.
— Как это понять, простить, что ли? — прикинувшись, что до меня не дошло, переспросил я. Но никто ничего не ответил. Только Лопнев равнодушно предупредил:
— Юстас, если еще раз что-нибудь выкинешь, пеняй на себя. Нам твои фокусы надоели. И за тебя краснеть я не хочу...
На этом собрание окончилось. Все молча разошлись по своим койкам. Я еще раз понял, что в первую очередь с моим мнением не посчитался Гулбис. А с ним спорить никто не решился. Лопнев занял соглашательскую пози- цию, не желая портить отношения с Гулбисом.
Но этим дело не кончилось. На следующий день Юстас принес майку, которую выдают несовершеннолетним в бане при смене белья. На ней была нарисована с профессиональным мастерством обнаженная женщина. Чтоб лучше продемонстрировать обновку, он надел майку на себя. Женщина была великолепна в своей прекрасной наготе. Собравшиеся вокруг ребята с интересом ее рассматривали. Ценитель женщин Александр, причмокивая от удовольствия, со знанием дела произнес:
— А чувиха, я вам прямо скажу, что надо. Талантливо изображена, со всеми прелестями. Какие правильные, изящно отточенные формы. А груди, а бедра! Класс...
И на этот раз Лопнев промолчал, сделав вид, что его это не касается. Решил не лезть с обобщениями и я, лишь мельком заметил:
— Поймают тебя с этой майкой, в трюм залетишь сразу. Поверь моему слову.
— За что в трюм-то? — недружелюбно глядя на меня, спросил Юстас.
— А ты, наивный, не знаешь? За порчу государственного имущества. Майка-то тюремная, со склада. А ты ее измазал красками. А когда дело касается материальных издержек, администрация по головке не гладит.
— Что ты понимаешь в женской красоте? Кроме политики, в остальном - профан. Во!- постучал он пальцем по столу.
— Слушай, ты не зарывайся. А то я не посмотрю, ты несовершеннолетний: тресну по лбу, долго чесаться будешь,— не выдержал я и добавил: — Раз я пожалел одного, больше жалеть не буду. Надеюсь, на этот раз мои, русские, слова дошли до тебя? Повтори! — грозно и решительно подступил я к Юстасу.
Тот явно не ожидал такого оборота и, не скрывая испуга, жалко пролепетал:
— Да я так, прости, я же ничего...
Некоторое время в камере было тихо. С улицы доносился постоянный шум компрессора, освежающего воздух в помещении кухни. Потом услышал, как подростки заговорили по-латышски. О чем они говорили, Бог весть. Да это меня особенно и не волновало...
Вечером в камеру неожиданно зашел дежуривший в эту смену старший воспитатель. Это был среднего роста, полный, с круглым мясистым лицом мужчина лет сорока. Он по-русски спросил, какие у кого есть вопросы. Возле него угодливо вертелся Лопнев.
— Все в порядке, гражданин воспитатель, вопросов нет. План мы выполняем, работаем, стараемся,— лепетал он тихо и подобострастно.
— А что это у тебя за майка? — спросил воспитатель Юстаса, который спешно пытался натянуть рубашку, но со страху никак не мог попасть в рукава.
— А-а-а...— тянул он, задыхаясь и не находя что ответить.
— Что мычишь? Откуда у тебя такая майка?
— Это мне дали ребята поносить,— постепенно овладевая собой, хотя еще заикаясь, ответил наконец Юстас.
— Какие это еще ребята? Ну-ка, пошли со мной. Разберемся.
Юстас послушно побрел за ним, на ходу натягивая рубашку. Когда дверь за ними затворилась, Лопнев огорченно и зло выдохнул:
— Ну и щенок! Так и знал, что подведет под монастырь. Говорил же: залетишь. Как в воду глядел. А ты еще защищаешь его,— упрекнул он Гулбиса.
— А что я? Я же не просил его приносить эту майку. Главное, чтобы еще и кроссовки не всплыли. Тогда — хана...
— Ах, да! Еще кроссовки за ним числятся,— досадливо поморщился Лопнев.— Это — конец. Загремит он в трюм, и нас с первого места — долой. Наглый такой: всех будоражит. У меня сразу было недоброе предчувствие. Ну, Юстас, ну, Юстас, как ты нас подвел! Может, не узнают про кроссовки? — задал он риторический вопрос, нервно расхаживая по камере.
Вскоре загремели засовы и у входа показался поникший, бледный как полотно Юстас. Он виновато моргал, руки подрагивали мелкой дрожью.
— Хана!.. Он и про кроссовки знает. Что будет? Влип я на этот раз капитально. Хоть бы дело не возбудили. Грозился...— печально бормотал подросток. По затуманенному взгляду было заметно, что он изо всех сил сдерживается, чтобы не заплакать.
— Я же говорил, предупреждал, просил, а ты все улыбался. Допрыгался! Теперь и нас подвел. Вот к чему приводят твои выходки. Посадили, возьмись хоть тут за ум. Нет, на тебе: снова надо влезть. А в грудь стучал: «Завязал, работать буду». Трепло!..— яростно отчитывал его Лопнев. Потом, чуть сбавив тон, спросил: — А про кроссовки как же он узнал?
— Он был в хате, где мой подельник Карлус. У него на ногах и увидел. Ну и давай раскручивать, а тот все и рассказал.
— Болваны! Теперь уж точно накажут. Жди подарка к 1 сентября,— раздраженно предупредил Лопнев.
Но произошло еще одно происшествие, которое отодвинуло срок наказания Юстаса Кипурса.
Однажды ночью я внезапно проснулся от какого-то шороха. С трудом разлепив тяжелые со сна веки, увидел у двери двух тощих подростков в трусах и майках. Кормушка была открыта, и я решил, что привезли завтрак, надо вставать. Но вдруг в эту открытую кормушку нырнул один подросток. Я моментально вскочил и стремительно бросился к двери, пытаясь схватить второго. Но пока я добежал, высунувшиеся из кормушки длинные руки схватили тощего парня и вытащили в коридор. Заглянув в открытую кормушку, я уже никого не увидел. В коридоре было тихо, только издалека доносилось шлепанье быстро удалявшихся босых ног. Подошел Лопнев и встревоженным голосом поделился:
— Ничего не понимаю. Какие-то парни залезли к нам в камеру и шарили по ней. Я спросонья смотрю: мелькают полуголые фигуры. Вначале думал, что свои, а потом, пока присмотрелся, пока дошло, они удрали.
— Я тоже проснулся; гляжу и сам не пойму: сплю я или наяву вижу? Пока скумекал, добежал, они успели удрать. Ну и дела! Такое я впервые вижу: чтобы в тюрьме из камеры в камеру ночью ходили. Да так и задавить могут, и концов не найдешь...— возмущался я.— У меня это никак не может уложиться в сознании... Как же так?
Поднялись подростки. В трусах и майках, сонные, они выглядели весьма занятно. Один полный, другой худой, у третьего трусы до колен, у четвертого майка навыпуск. Взлохмаченные, сонные, с широко раскрытыми от удивления и испуга глазами.
— Кто же это мог быть? Кому интересно было к нам залезать? — вытаращив глазищи, спрашивал Гулбис.— Это ж надо! Могли убить, обобрать, сдербанить...
— Ну-ка, посмотрите, целы ли наши продукты. Масло на месте? — с тревогой спрашивал Лопнев.
— Масло цело. Сколько у нас пачек было, девять?
— Девять!
— За окном тоже как будто все на месте.
— А шкафы не надо проверять: они туда не подходили. Я бы услышал,— прекратил инструктор дальнейший осмотр.
Застучали дверные засовы, и на пороге появился сонный воспитатель — высокий красивый парень атлетического сложения.
— Всё в порядке? Все живы?
— Все!
— Не стащили чего?
— Вроде, все на месте.
— А кто это был, знаете? — спросил он.
— Нет! Сами стоим и ломаем головы: зачем к нам ночью лезть? Который час? — спросил Лопнев.
— Пять часов. Ну что ж, будем разбираться. Вначале надо установить, кто это был. А потом уж — зачем. Старшина как раз поднимался по лестнице к нам на этаж. Заметил подозрительных несовершеннолетних. Они, наверное, из камеры № 267. Там собрались одни проходимцы. Они на все способны. Старшина подбежал и успел лишь одного ухватить за ногу, когда тот уже полностью пролез в камеру. Но не удержал. Кто из них вылезал, он не знает. Может, вы опознаете, если вам их покажем.
— Можно попробовать,— согласился Лопнев.
— Тогда пойдемте со мной,— указал молодой воспитатель на меня и Лопнева.
Он, вероятно, еще не был аттестован на должность: появился на этаже недавно, ходил в гражданской одежде.
— Мы осмотрим все камеры. Вернее, вы будете смотреть в глазок. Не спешите, попытайтесь внимательно рассмотреть каждого. Если кого узнаете, скажете нам,— говорил он по дороге.
— А зачем все камеры? — не понял я.— Ведь вы сказали, что они из 267-й.
— Может, один из 267-й, а двое — из другой какой- нибудь. Один мог вылезти и, открыв в любой камере кормушку, позвать сообщников. А потом, когда уходили от вас, он, может, за ними закрыл кормушку. А сам полез в свою 267-ю. Старший по корпусу увидел только одного...
— А как он сумел выбраться? Ведь кормушка закрывается из коридора на металлический крепкий засов и даже при желании выбить его нельзя, силенок не хватит,— интересовался Лопнев.
— У них головы в этом направлении варят неплохо. В чем другом — они тупые, а здесь — профессора и изобретатели...— В это время мы подошли к камере № 267.— Видите: глазок выбит, стекло на полу валяется. Руки у них тонкие. Через это отверстие, просунув руку, можно уже легко дотянуться до засова и открыть его, отодвинув задвижку,— воспитатель продемонстрировал, как это можно сделать.
— Понятно, ну и сообразили же?! Это — удивительно! До такого дойти... И не страшно им. Ничего не боятся, подлецы! — тараторил Лопнев.
— Посмотрите внимательно в глазок. Кто из них был у вас в камере?
Первым посмотрел я. Открывшееся зрелище меня поразило. Камера напоминала клетку для зверей в зоопарке: квадратная, с двух сторон в два яруса — койки, еще одна стояла поперек, у самой стены, под окном. Камера была мрачная и маленькая, не повернуться. Оставалось лишь метровое свободное пространство перед дверью. «Как склеп какой-нибудь. Грязная, убогая, трудно поверить, что здесь живут люди. И разве в ней кого- нибудь можно рассмотреть, опознать?» — подумал я, а вслух сказал:
— Невозможно узнать. Все серо и темно. Лиц не видно.
— Отойдите! Я их сейчас подниму.
Прямо в глазок воспитатель громко, отрывисто скомандовал:
— Ну-ка! Всем встать! Разлеглись, как в санатории, стать быстро! Оглохли, что ли?.. А тот, крайний, чего лежит? Разбудите его! Построились все и сюда смотреть... Сейчас все хорошо видны. Еще раз внимательно, не спеша...
Я снова стал смотреть в глазок. Юношей было пять человек. Они выстроились в одну шеренгу, точнее — в полукруг из-за малого размера камеры. Глаза их нагло и настороженно смотрели на дверь. Осмотрев по несколько раз с головы до ног каждого, не отрываясь от глазка и продолжая внимательно рассматривать жильцов, я сказал:
— Вы знаете, я не могу никого узнать. Все они чем- то похожи. Я не запомнил индивидуальные приметы, особенности. Вроде вон тот, с рыжеватым оттенком волос. Но точно сказать не могу. Не уверен.
— Дай, я посмотрю,— подошел к двери Лопнев, и, заняв мое место, стал напряженно всматриваться. То левым глазом, то правым, вплотную прижавшись к глазку, он оценивающе осматривал каждого. Потом, повернувшись к нам лицом, растерянно произнес:
— Не могу определить. Плохо запомнил... Как будто вон тот, последний справа. Но, может, и не он. Затрудняюсь...
— А вы попробовали бы сделать эксперимент. У кого из них рука пройдет в отверстие глазка? Согласитесь, оно настолько мало, что рука далеко не каждого подростка пролезет в него. У меня вот пальцы тонкие, длинные, как у музыканта, и кулак небольшой, а не пролазит,— посоветовал я.
— Да у них у всех сейчас рука проходит: худые, тощие. На такой пище не разжиреешь. Сидят месяцами, каждый с кучей нарушений, без паек, отоварки, на одной баланде. Но мы попробуем потом. А сейчас посмотрите другие камеры,— предложил работник изолятора.
Я с удовольствием принял такое предложение. Мне не терпелось узнать, в каких камерах сидят мои подельники. Все четверо были здесь, в Риге, в этой тюрьме. А где, я не имел ни малейшего понятия. Лишь однажды, идя на прогулку, увидел спину взрослого среди несовершеннолетних. Показалось, что это Владимир Буньков. Сейчас появилась реальная возможность узнать точно. Возле каждой камеры я стоял подолгу, вглядываясь через глазок внутрь, силясь увидеть знакомые лица. Непрошеные ночные посетители меня волновали теперь меньше, чем подельники. В камере № 268 увидел Валерия Кирпиченка. Хмурый сидел он за столом, положив на него руки, как будто читал. Ни криком, ни стуком, ни другим способом нельзя было дать понять, что я рядом и вижу его. За нами бдительно следили двое работников СИЗО. В некоторых камерах несовершеннолетние лежали на койках. Были в них инструктора или нет, я так и не рассмотрел. В некоторых, как и в 267-й, старших не было. Постоянно обращаться с просьбами к работникам учреждения о подъеме лежавших не хотелось. Может, по этой причине я не смог увидеть остальных своих подельников, может, они были не в этом, а в первом корпусе, в больших, многоместных камерах вместе с несовершеннолетними. На этом этаже, в корпусе № 2, были маломестные камеры на шесть, восемь и десять человек и, как мне показалось, две камеры были даже четырехместные. Две двухъярусные койки у стен. Глядя внутрь этих камер, я думал о том, в каких тяжелых условиях пребывают люди, находящиеся за их толстыми стенами. Дневной свет проникал туда слабо, толстые ободранные стены, окрашенные в темный цвет, серые, с облупившейся от сырости штукатуркой, потолки, теснота, открытый туалет, с постоянной сыростью и вонью. Да прибавьте еще постоянные издевательства, побои, унижение, которые испытывает на себе основная часть заключенных. Невеселая, удручающая картина! Несчастны и отверженны люди, на время заключения определенные под стражу. Кое-кто приспосабливается и здесь: обманывает, ворует, избивает более слабых, отбирает у них продукты и вещи. Это закоренелые преступники, нравственно деградировавшие личности.
Итак, обойдя все камеры, ни я, ни Лопнев не смогли узнать непрошеных посетителей нашей камеры. С досадой разводили мы руками, оправдывались, как могли, стараясь, чтобы нам поверили. Нас вернули в свою камеру, где наши уже сидели за столом и завтракали. Когда подростки узнали о том, что один из гостей точно был из камеры № 267, они стали гадать, вспоминать, кто там может быть из знакомых. Наконец Гулбис вспомнил фамилию одного несовершеннолетнего (Рудзитас) и стал убеждать других, что это именно его работа. Свой вывод он аргументировал тем, что когда Рудзитаса забирали из нашей камеры, он пригрозил отомстить за то, что его «заложили» воспитателю и обидели в дележе продуктов из общего котла. И вот он, вероятно, решил залезть в камеру и забрать продукты, а может, и избить кого- нибудь тайком. С этой версией согласились многие подростки, старожилы нашей камеры. Понравилась она и Лопневу: по его отдельным репликам и выражению лица, когда подростки обсуждали личность Рудзитаса, можно было догадаться, как сильно насолил инструктору этот пацан. Вскоре нас с Лопневым снова вызвал воспитатель. Он завел нас в свой кабинет, расположенный прямо против нашей 273-й. И камера и кабинет были угловыми в этом коридоре. Почти все пространство кабинета занимали три письменных стола (надо полагать, по количеству воспитателей). В углу справа стояла раскладушка, на которой лежали смятые постельные принадлежности. Очевидно, молодой, пышущий здоровьем воспитатель после ночи не успел убрать кровать. Вот-вот начнется рабочий день. С минуты на минуту должно появиться начальство. Необходимо сразу проинформировать о происшествии. А это не очень-то приятно: неизвестно, какой будет резонанс и чем все это кончится для дежурных и воспитателей... Оба воспитателя периодически с беспокойством поглядывали на небольшие настенные часы, маленькая стрелка которых уже передвинулась за цифру «восемь».
— Что будем делать? — ни к кому конкретно не обращаясь, произнес воспитатель в форме старшего лейтенанта после того, как пригласил нас сесть. Не дождавшись ответа, уже более твердо добавил: — Так! Здесь в боксиках мы собрали трех подростков, которые, вероятнее всего, по нашим вычислениям, могли это сделать. Посмотрите на них еще раз. Может, узнаете? У них рожи приметные.
Мы с Лопневым вышли в коридор и стали смотреть в глазки «стаканов», располагавшихся в стене, перпендикулярной кабинету воспитателей. Площадь каждого бокса была где-то полтора на полтора метра. Я внимательно посмотрел на сидящих по одному напуганных молодых парней, но никого не опознал. Не менее внимательно рассматривал их и Лопнев. В одном из них он сразу опознал своего бывшего сокамерника Рудзитаса.
Когда мы возвратились в кабинет воспитателей, на свободном столе уже стоял включенный портативный телевизор. Молодой воспитатель был захвачен утренней музыкальной программой. Но возвращение лейтенанта и арестантов прервало его приятное времяпрепровождение и возвратило к насущным проблемам.
Выключив телевизор, он с нетерпением осведомился:
— Ну, узнали вы «пришельцев»? — И, заметив наш понурый вид, уточнил: — Хоть чем-то похожи они на тех, кто был? Сходство есть? Или совсем не те?
— Кто их знает, вроде похожи. Запомнил, что у одного из них русые волосы ежиком. Вроде похож тот, что в среднем боксе. Но уверенно сказать, что это именно он, я не берусь.
— Так, а вы что скажете? — с надеждой обратился воспитатель к Лопневу. Тот почесал затылок, а потом рассказал о подозрениях в отношении Рудзитаса, используя доводы нашего Гулбиса.
— Все ясно! Это — они! Я сразу о них подумал. У меня сомнений нет. Вот вам по листу бумаги. Напишите на имя начальника учреждения объяснение: как и что было,и укажите фамилии этих негодяев,— безапелляционно потребовал воспитатель, положив перед каждым из нас лист чистой бумаги и список из трех фамилий подозреваемых подростков.
— Я не буду указывать эти фамилии. Вы уж не обессудьте: гостей я не опознал, да к тому же эти фамилии мне ни о чем не говорят. Поймите меня правильно...— спокойно пояснил я.
— Вы что, нам не доверяете? — удивился, сердито раздувая ноздри, воспитатель.
— Речь идет вовсе не о доверии. Не опознал я виновников происшествия, а поэтому указывать на чем-то неугодных вам подростков — значит подвергать невиновных наказанию. На это я никогда не пойду. Мне вполне хватает и своей роковой ошибки. Не обижайтесь на меня. Каждый понимает жизнь по-своему,— пытался смягчить я свой отказ. Я заметил, как омрачилось лицо лейтенанта, что для меня не предвещало ничего хорошего.
Инструктор Лопнев, напротив, покорно согласился с предложением работника учреждения и поспешно стал писать объяснение. Окончив писать, угодливо протянул лист лейтенанту:
— Я все, как вы сказали, написал. Прочтите, пожалуйста.
— Я вам верю,— коротко бросил тот и, даже не прочитав написанное, положил бумагу на свой стол.— А вы,— злобно прошептал он мне,— не хотите, не пишите. Вы грамотнее нас: все знаете. Где уж нам с вами спорить,— злорадно иронизировал воспитатель.
Когда нас вернули в камеру, я спросил Лопнева:
— Николай Казимирович, вы уверены, что это именно те фамилии, что указали? А может, это вовсе не они?
— Какая мне разница. Начальству видней, кто на что способен. Если сказали, значит, так оно и есть. Мне с ними не спорить, а мирно жить надо. Правды все равно нет, а здесь тем более. Надо думать о себе: как лучше устроиться. А начнешь им поперек дороги ложиться, быстро создадут такие условия, что волком завоешь. Сгноить могут. Мы же арестованные. Кто за нас заступится, кому мы нужны? Общество нас из своих списков уже вычеркнуло. Мой тебе совет: не заедайся с ними и думай, как выжить да быстрее отсюда выбраться,— цинично посоветовал Лопнев.
— Даже за счет других, по их костям, что ли?
— Что тебе до других? У каждого свое горе. Думай больше о себе. Никто из них о тебе слова не замолвит. Здесь каждый живет, мыслит и умирает в одиночку,— развивал свою философию сокамерник.
— Ты же гораздо старше меня: тебе видней, как за счет других жить и выживать,— вполне определенно, жестко и раздраженно дал я ему отповедь и отошел к окну глотнуть свежего воздуха. На этом наша «дуэль» закончилась.
Лопнев еще некоторое время постоял на своем месте, очевидно, раздумывая, как поступить: ответить или промолчать на дерзость сокамерника, но старческая мудрость, видимо, подсказала ему — лучше стерпеть обиду. С удрученным видом, больше обычного морща свой невысокий лоб, побрел он к своей койке... Этот разговор наложил теневой отпечаток на наши дальнейшие взаимоотношения, сделал их натянутыми, напряженно-официальными. Мой характер часто усложнял мне жизнь: друзей я заводил легко, но так же легко наживал себе и врагов. Из-за длинного языка, который говорил то, что я думал,— часто предельно откровенно, без всякой дипломатии, у меня не раз были неприятности. В мыслях я осуждал себя беспощадно, обзывал мальчишкой, психом, давал себе слово впредь быть дипломатичнее, гибче, а иногда, может, и схитрить. Но когда сталкивался с нечестностью, подлостью, ложью, вся моя программа дипломатичного поведения рушилась, оставаясь лишь благим намерением. Опять я взрывался, называл вещи своими именами, а потом снова терзался, осуждая себя за несдержанность.
...Жизнь за решеткой шла своим чередом. По-прежнему Юстас ежедневно, за исключением субботы и воскресенья, уходил под охраной на суд, вечером возвращался в сопровождении работника учреждения. Решение о мере его наказания посчитали целесообразным отложить до конца судебного заседания.
Вечерами, сидя за столом, с жадностью уплетая свою пайку, он торопливо, на ломаном русском языке рассказывал об увиденном, услышанном и пережитом за день. Из его рассказов я узнал, что он привлекается по двум статьям — за хулиганство и грабеж. Вменялось ему два факта хулиганских действий и три групповых грабежа. В общей сложности у него с друзьями было около десятка грабежей и столько же хулиганств. Обвинительное заключение, которое он постоянно носил с собой, составляло шестьдесят листов на латышском языке. По этой причине я не мог его прочитать, хотя Юстас не прятал его, сам читал вслух, беспрепятственно давал читать другим, даже однажды попытался сам перевести на русский язык, чтобы услышали те сокамерники, которые не знали латышского. Таких в камере было уже три человека: Павел Нечипоренко, который хотя и долго жил в Латвии, но за исключением отдельных слов ни говорить, ни читать по-латышски не мог, Александр Плутон и я. Лоп- нев латышским владел в совершенстве.
В основном преступления, совершенные Юстасом, большого вреда ни людям, ни государству не принесли, хотя и представляли определенную общественную опасность. Грабежи заключались в том, что он с друзьями забирал у подростков копейки, предназначенные для школьных обедов, и у одного незнакомого парня отнял солнцезащитные очки и туфли. Общая сумма грабежей составляла около 60 рублей. Два хулиганства сводились к участию в массовых потасовках в парке. В одной из таких драк Юстас был организатором. Внутренне он, конечно, переживал, беспокоился, но старался не показывать виду: много болтал, шутил, веселя не столько окружающих, сколько самого себя. По словам адвоката, у него была реальная перспектива уйти из зала суда на свободу, отделавшись несколькими годами условного лишения. Мнению адвоката Юстас верил беспредельно, считая, что так оно непременно и будет.
Рядом с ним в камере постоянно, как тень, находился Арвис: они то сидели вдвоем и болтали часами, то подолгу играли в ноус. Это национальная латвийская игра, подобие бильярда. Два кия, метровая квадратная доска с лузами по углам, бортики, но в отличие от бильярдного стола поверхность квадрата гладкая — отполированный фанерный лист. В лузы загоняют не шарики, а деревянные кружки наподобие шашек, один из кружков, размером больше других, называется маткой. У каждого играющего (обычно играют вдвоем) по восемь шашек, отличающихся расцветкой. Условия игры такие же, как и в бильярде,— выигрывает тот, кто быстрее загонит все шашки в лузу. Игра идет только от бортика. Если матка залетает в лузу — выставляется на центр штрафная шашка, если за борт — тоже. Воспитатель выдал ноус в нашу камеру, поощряя тем самым коллектив за хорошую работу. Больше всех любил эту игру Юстас. Он играл лучше всех и чаще всего, конечно, с Арвисом. Игра у них была шумной. Они часто ссорились, но быстро мирились. Отношения у них были ровные, без осложнений.
Арвис вместе с однокурсниками строительного училища привлекался к уголовной ответственности за угон двух машин. Первого сентября он должен был начать второй курс обучения в училище. За эти неудачные угоны трем студентам присудили возместить потерпевшим материальный ущерб в сумме четырех тысяч рублей. Угнав одну машину с открытой стоянки возле крупного комбината, они за городом на проселочной дороге не справились с управлением и врезались в дерево. Сильно повредили машину и сломали яблоню, но сами отделались лишь испугом.
Второй угон оказался и последним. Не справившись с управлением на скользком от дождя асфальте, они съехали на обочину и перевернулись. Один из угонщиков сломал руки, другие получили легкие телесные повреждения. Выловили их в течение недели. Подельник Арвиса обратился за медпомощью в травмопункт, где ему вправили кость и наложили гипс. Но врач оказался опытным и сразу определил, что такой перелом может произойти только при падении движущейся машины. Поликлиники и больницы были уже предупреждены об аварии на угнанной машине. И врач сразу, не выпуская пациента из кабинета, сообщил куда следует. После операции в сопровождении двух «телохранителей» пострадавшего доставили в районный отдел внутренних дел, где без особых препирательств он назвал сообщников. Двоих арестовали сразу, а больного оставили на свободе, взяв подписку о невыезде.
Арвис сильно переживал заточение, но переносил свое горе молча. В деревне у него были отец с матерью и сестра. Судя по его рассказам, жили они неплохо. Отец работал механизатором, имел собственные «Жигули», но сыну машину не доверял. Мать работала зоотехником. В доме были покой и достаток. Обращаясь к сокамерникам, он нередко высказывал надежду на то, что суд не приговорит его к лишению свободы. Он очень надеялся на свои анкетные данные, которые у него были «без сучка». Ко мне он относился настороженно, недоверчиво, как к чужаку.
Лаце Гулбис выделялся среди молодых сокамерников не только тем, что был чуть взрослее их, но и своими самостоятельными, хотя порой и наивными, суждениями по каждому вопросу. Надо отдать ему должное: он был умным парнем. Но кругозор его был узок. Его интересовала в основном техника. Модели мотоциклов, машин, тракторов он знал превосходно, не только отечественные, но и некоторые зарубежные. Часами он мог говорить о принципе работы двигателя, ходовой части и других узлов й агрегатов. Сам ремонтировал многие модели. Отец его работал шофером в богатом совхозе. У них — личный гараж с машиной «Москвич» и двумя мотоциклами. Собирались покупать и «Жигули». На всех моделях Гулбис наездил не одну сотню километров. Перед арестом учился в техникуме, уже окончил два курса. Но попал под влияние дурной компании и совершил квартирную кражу и угон автомашины. О своих промахах, неудачах говорил много и охотно. Он часто рассказывал, как из-за женщины, которую полюбил, попал в окружение ранее судимых. История была немного банальной, но достаточно драматичной. Учеба в техникуме давалась ему легко благодаря неплохой школьной подготовке и хорошей памяти. Поэтому у него было много свободного времени. Вечерами вместе с ребятами из общежития ходил на танцы, в парк, кино. Однажды на одной из улиц заметил молодую красивую женщину, которая ловко сумела вклиниться на стоянке между двумя близко стоящими машинами. Как знаток вождения, он отметил про себя ее мастерство. Заинтересовался, как она будет выезжать из этой пробки. Дверца машины была приоткрыта, что означало одно: хозяйка с минуты на минуту должна вернуться. Гулбис решил подождать. Действительно, вскоре со свертком в руке появилась хозяйка. Проходя мимо, она откровенно залюбовалась высоким красивым юношей. Тот в свою очередь с любопытством рассматривал ее. Вблизи она показалась ему не очень красивой и не очень молодой. Зато фигура ее была прекрасна. Костюм плотно облегал ее тонкую талию, подчеркивая широкие бедра и округлые женственные формы. Большое декольте откровенно обнажало соблазнительную грудь. Юноша настолько засмотрелся на незнакомку, что не замечал ничего вокруг. А она, обворожительно улыбаясь, по-латышски спросила, не желает ли он прокатиться с ней. От неожиданности он онемел и лишь молча кивнул. Распахнулась дверца,и он робко сел на сиденье сзади хозяйки авто. Ей было лет двадцать пять, но о возрасте Гулбис в тот миг не думал, охваченный каким-то незнакомым радостным предчувствием. Может, взгляд женщины, знающей себе цену и силу воздействия своих глаз, загипнотизировал, пленил его. Даже теперь он не может толком объяснить, почему безоглядно вошел в разверстую пасть автомобиля...
Женщина чуть отогнала машину назад и, удачно выбравшись на полосу движения, дала полную скорость. Она попросила парня пересесть на середину сиденья, чтобы лучше видеть его в зеркало обзора, спросила как его зовут, себя назвала Тертой. Гулбис по шуму двигателя сразу определил, что горючее поступает неравномерно, и тут же поделился своим соображенйем. Терта удивленно посмотрела на него в зеркало и поинтересовалась, сможет ли он устранить этот дефект. «Конечно»,— ответил Гулбис. Если он сможет помочь в устранении этого дефекта, рассудила Терта, тогда нужно заехать к ней домой и договориться, где и когда можно начать ремонт. Гулбис согласился. Они долго кружили по улицам и переулкам Риги, пока не подъехали к огромному высотному зданию в новом микрорайоне. Поставили машину недалеко от подъезда на специальной площадке, потом на лифте поднялись на б-й этаж и очутились в однокомнатной, со вкусом обставленной квартире. Обозрев апартаменты Терты, юноша отметил, что хозяйка для своих лет живет роскошно. В квартире было чисто, уютно и как-то спокойно.
Терта предложила ему выпить кофе й, усадив гостя в мягкое кресло, сунула журнал мод на английском языке, а сама ушла на кухню. Вскоре он услышал, хозяйка приглашает его туда. Выпив по чашке кофе, разговорились. Терта задавала много вопросов и с интересом слушала его. Беседой за кофе дело и ограничилось, она предложила встретиться через день. Юноша долго бродил по городу, не в силах избавиться от охвативших его чувств. Женщина показалась ему идеалом, давно созданным его наивным воображением. Придя в общежитие, он молча лег на кровать и постарался заснуть. Но сон не приходил. От грез кружилась голова. Скорее пришел бы день свидания.
И этот день настал. Она лихо подкатила к юноше, стоявшему на улице с букетом цветов и смущающемуся от взглядов прохожих. Снова открылась дверца, на этот раз Гулбис оказался рядом с Тертой. От нее головокружительно пахло духами. И одета она была по последнему «писку» моды: легкая дорожная японская курточка, из- под которой виднелось черное бархатное платье. На ногах импортные полуспортивные туфли. Юноша не мог оторвать взгляда от ее стройных ног, едва прикрытых платьем. Поехали к морю, посидели на берегу, поболтали обо всем и ни о чем. Затем прибыли к ней на квартиру. Дома хозяйка мгновенно переоделась. На ней появился воздушный, шуршащий халат, довольно откровенно открывающий бюст и подчеркивающий высокую стройную шею. Гулбис не мог отвести от нее жадных глаз. На этот раз она угостила его жареной курицей, которую они запивали сухим красным вином. От обильной еды, от волнующего аромата и тепла тела близко сидящей женщины у юноши кружилась голова. Он в полузабытьи, не воспринимая слов, слушал ее мелодичный голос, с жадностью посматривая на полуобнаженную грудь, на соблазнительные ноги, как бы случайно появлявшиеся в распахнутых полах ее халата. К голове приливал жар, сердце, кажется, подкатывало к горлу. Он с трудом сдерживал себя, невпопад отвечая на ее вопросы. Будучи готовым сделать для нее все, он пообещал привезти из дому крестовину для автомобиля, которую, по ее словам, надо было заменить, а достать невозможно, пообещал, что сам сделает ремонт. Все это чепуха по сравнению с тем, что он готов был в этот момент сделать для нее...
Посмотрев на часы, Герта вдруг засуетилась, уверяя, что к ней сейчас должна приехать мать. Гулбис неохотно покидал уютное жилье. У выхода Герта, ослепительно улыбнувшись, неожиданно обвила его шею нежными руками и припала к его губам. Ноги подкосились, юноша провалился в какую-то огненную бездну. Так же неожиданно женщина легко выскользнула из его объятий, лукаво прошептав, что на первый раз довольно. Условились о новой встрече.
Окрыленный и торжествующий влетел Гулбис в общежитие. На этот раз не выдержал и поделился своим счастьем с соседом по койке. Выслушав взволнованный рассказ Гулбиса, друг не сумел скрыть ни удивления, ни зависти. Это еще больше подстегнуло юношу. Он полностью потерял покой и сон.
Встречи были редкими. Гулбис уже осмелел и лез к Герте с поцелуями, та особенно не противилась, но дальше их отношения не заходили. Она многое обещала ему. Говорила, что научит его быть настоящим мужчиной, научит ценить прелести женского тела, обещала неземные наслаждения. Она видела, что юноша влюблен в нее по уши, и не спешила отдать ему все сразу. Она рассказала, что уже была замужем, но муж, летчик, погиб в авиакатастрофе. У нее есть дочь, которая теперь отдыхает у родителей погибшего мужа, в Юрмале. Она живет одна. Ее родители здесь, в Риге. О друзьях своих она говорила мало и неохотно. Гулбис не лез с расспросами. Он уже отремонтировал ее машину: привез из дому необходимые запчасти и заменил изношенные, получая каждый раз за это обжигающие, умопомрачительные поцелуи.
Однажды, придя к Герте в условленное время, Гулбис застал у нее двух мужчин и девушку. Мужчинам было лет под тридцать, девушка — примерно такого же возраста, что и хозяйка. Гости смутили и насторожили его, но дружелюбный тон быстро развеял его сомнения, растопил лед недоверия к незнакомцам. Сидели, пили вино, водку. Закуска была обильной и довольно разнообразной. Говорили гости мало, больше слушали. А на Гулбиса, не привыкшего к большим дозам спиртного, оно действовало одурманивающе, развязывало язык, туманило разум. Он даже никак не отреагировал на бесстыдную позу подруги Герты, которая почему-то была в халате хозяйки и, распахнув его до прозрачных трусиков, закинув ногу за ногу, лениво курила сигарету. Герта на этот раз вела себя довольно скромно, парни тоже держали себя в руках, но, хотя говорили мало, в их разговоре нередко проскальзывали блатные слова, в глазах сквозили равнодушие и цинизм. Скоро все разошлись. На прощание Герта осыпала его поцелуями, у нее распахнулся халат, обнажив налитые груди с розовыми сосками, и она опытным вижением наклонила голову юноши и подставила их к его губам. Он прижался к ним и с неистовым наслаждением целовал, терся щекой... С трудом оторвав от себя потерявшего голову юношу, она выставила его за дверь, пригласив прийти через день, к 19 часам. Очумевший Гулбис увидел, как многозначительно подмигнула она ему на прощание...
В назначенный час у Герты собралась та же самая компания. Во взглядах встретивших его он заметил странное торжество, как будто он принес им что-то радостное, долгожданное. Немного поговорили о пустяках. Потом Герта с подругой оставили мужчин одних, а сами ушли на кухню, откуда вскоре стал доноситься аппетитный запах жареного. Когда женщины удалились, новые знакомые, как бы между прочим, осведомились у Гулбиса, пробовал ли он когда-нибудь наркотики. Юноша удивленно пожал плечами. Тогда они спросили, не желает ли он теперь испытать на себе это неземное блаженство. Один из них достал самодельную сигарету и с нервной дрожью стал мять ее в руках. Другой с испугом взял ее и осторожно положил на стол, заметив, что так можно рассыпать «марфушу». Однако Гулбис, будучи уже наслышан о воздействии наркотиков на организм, боялся, что, попробовав раз, потом станет больным на всю жизнь. Живых наркоманов он видел впервые. Они на него произвели обычное впечатление: ничуть не похожи на больных людей. Тем не менее, взвесив все, он наотрез отказался курить.
Из кухни прозвучало приглашение к столу. Такого изобилия юноша еще никогда не видел. Парни и женщины пили мало, но настойчиво упрашивали Гулбиса выпить, попробовать деликатесы. Если бы не Герта, он, конечно, устоял бы, но отказать ей был не в силах. Сколько раз она, ласково проведя мягкой теплой ладонью по голове, предлагала выпить, столько он опоражнивал рюмок. Парни еще раз намекнули, что он может попробовать хотя бы одну затяжку наркотической сигареты, но Гулбис отрицательно качнул отяжелевшей головой... Напился он так, что не помнил, как оказался в мягкой постели. Когда на мгновение он приходил в сознание, то настойчиво звал Герту. Женщины мелькали перед ним, пили, ели сначала в расстегнутых халатах, полуголые, потом голые, парни ходили в чем мать родила. Поднимая от подушки свинцовую голову, не понимал, наяву это или во сне. Потом снова проваливался в тяжелый душный мрак. Окончательно очнулся он оттого, что лежавшая рядом Герта страстно ласкала его, пытаясь разбудить в нем мужскую силу. Ощутив рядом с собой свою мечту, столько раз приходившую к нему в снах, он бессознательно потянулся всем телом навстречу ее телу и снова на мгновение провалился во мрак. Через некоторое время сладкие ласки повторились. После этого он уснул мертвецким сном. Под утро почувствовал, что кто- то несильными толчками пытается разбудить его. Открыв глаза, он увидел склоненное над ним бледное лицо Герты, с фиолетовыми кругами под глазами. Она была по- прежнему нагая. Увидев, что он уже не спит и смотрит на нее с наивно-удивленной детской усмешкой, она тоже расплылась в улыбке и сказала, что давно будит его, чтобы серьезно поговорить. Гулбис плохо соображал: болела голова, стучало в висках, шумело в ушах, о чем он и сообщил хозяйке. Та, накинув халат, пошла на кухню, откуда доносились знакомые голоса, принесла рюмку водки. Предложила ему выпить, убеждая, что сразу полегчает. Действительно, обжигающая жидкость уменьшила болезненное состояние. Хотя голова снова закружилась, стало легко и приятно. Появилось непреодолимое желание привлечь Герту к себе, насладиться ее телом. Он попытался это сделать, но она оттолкнула его, многозначительно кивнув в сторону кухни, и вкрадчиво спросила, любит он ее или только ее тело. Ну как можно задавать такие нелепые вопросы? Он всеми силами своей души любит ее, в мыслях постоянно с ней. «Неужели она еще сомневается в моей искренней, единственной и неповторимой любви?» Она была первой женщиной, которая открыла ему неведомый мир, открыла все прелести женской ласки... И она еще сомневается... Гулбис не находил слов, чтобы выразить силу его чистых чувств. Он лишь блаженно улыбался, не в силах отвести страстного взгляда от ее лица и тела. Она была совсем рядом, нагая, ее красивая грудь ритмично вздымалась и опускалась... Придав лицу выражение обиды и разочарованности, Герта объявила, что мужчинам верить нельзя: они все обманщики, никто из них не хочет постоять за свою любовь, не может доказать свою преданность, пойти на самопожертвование во имя высокой любви, времена рыцарей канули в лету... И юноше нестерпимо захотелось доказать, что он не такой, что он всем сердцем предан ей и ради нее готов отдать жизнь. Об этом, как сумел, сказал ей. Тогда женщина, приняв задумчивый вид, стала вслух перебирать, что бы ей придумать, что позволит убедиться в искренности возлюбленного. Наконец с улыбкой, но вполне серьезным тоном она предложила ему... угнать машину. Это и покажет, насколько правдив и смел ее избранник. Гулбис без колебаний согласился броситься выполнять это испытание сейчас же. А она как ни в чем не бывало начала детально уточнять условия: белые «Жигули» шестой модели с шестым двигателем должны через час-два стоять у ее дома. Если эти условия будут выполнены, значит, он ее любит не притвортно, а по-настоящему, как мужчина и джентльмен...
Аксиома, что любовь безумна и слепа, подтвердилась и на сей раз. Юноша, поддавшись сильному порыву, пошел на преступление. В большом городе он без труда нашел подходившую по всем параметрам машину, пренебрегая мерами предосторожности, забрался внутрь, завел мотор и двинулся в нужном направлении. Страха не было, его сознание, все существо охватило лишь одно желание: доказать, как преданно и искренно он любит. У названного дома ждала не она, а один из ее окружения. Он подбежал к машине и сказал, что Герта не придет: убирает квартиру и с нетерпением ждет его. А парню поручено удостоверить поступок настоящего мужчины. Бросив машину, Гулбис, окрыленный успехом, устремился к Герте.
Следов ночной попойки в квартире как не бывало: было чисто и уютно, пахло весенней предрассветной свежестью. Узнав, что ее каприз удовлетворен, она обвила руками его шею, осыпала лицо поцелуями, от которых у юноши закружилась голова, и он упал на кровать, увлекая ее за собой...
Рассветало. Начиналось воскресенье. Спешить было некуда, и Гулбис провел у Герты почти весь день. Под вечер она его выпроводила, одарив горячими поцелуями. Уставший, измученный и разбитый, он побродил по улицам, добрался до общежития, свалился на кровать и мгновенно уснул крепким безмятежным сном.
Влюбленным, как и опьяненным, свойственно преуменьшать опасность. Гулбиса мало волновал угон автомашины, он считал это шуткой, пусть не очень остроумной: никакого вреда машине и владельцу не сделано, ее отогнали всего лишь на какой-то километр от места стоянки. И найти ее хозяину не составит труда.
Как-то Герта волнующим полушепотом поделилась с ним своей бедой: воспользовавшись ее доверчивостью, подруга похитила у нее два золотых перстня, обручальное кольцо и золотую цепочку с кулоном в виде сердца, в котором находится маленькое фото сына. В милицию обращаться бесполезно: нет свидетелей. На уговоры вер-
нуть похищенное подруга ответила отказом. И сейчас она, его возлюбленная, мучается, не зная, что делать, и просит его совета. Юноша попытался разрешить житейскую проблему, но ничего дельного придумать не смог. Начали искать варианты решения вдвоем.
И тогда юноша, окрыленный любовью, чувствуя себя всесильным, вызвался вернуть ей драгоценности. Он предложил встретиться с воровкой и припугнуть ее, но Герта категорически отвергла это предложение. Оставался последний вариант: тайно проникнуть в квартиру. Герта пообещала узнать, когда подруга не бывает дома и где она хранит похищенное. А чтобы юноша не сомневался, что золото принадлежит ей, он может вскрыть кулон, в котором увидит фотографию сына. Она показала ему такую же фотографию из своего альбома. Юноша и без этого не сомневался в правдивости слов своей возлюбленной...
Вскоре Герта объяснила ему, как расположены комнаты в квартире подруги, где, в каком месте должны находиться ее ценности. Перечислила дни, когда бывшая подруга дома не бывает, даже подсказала, что лучше всего проникнуть в квартиру через балкон. И Гулбис решился. Хорошая спортивная подготовка помогла ему без особых усилий забраться на балкон. Открыть дверь не составило большого труда, так как он заранее запасся небольшой монтировкой и ножом. В комнате все было расположено именно так, как подсказала его возлюбленная. Найдя нужный шкафчик и перебрав в нем различные предметы туалета, нашел перстень, кольцо и какую-то золотую брошь с пятью изумрудными камнями. Но кулона на золотой цепочке так и не нашел. Время шло, пора было уходить из чужой квартиры. Захватив обнаруженные изделия, сразу поехал к Герте. С большой радостью приняла она из рук парня драгоценности, благодарно глядя ему в глаза. В этот миг она была готова сделать для него все, что бы он ни пожелал. А Гулбис желал лишь одного: ее любви. И свидание завершилось постелью. С профессиональным искусством Герта учила юношу секретам изощренной физической любви.
Не прошло и недели после «визита» Гулбиса в чужую квартиру, как его забрали прямо с занятий и доставили в городской отдел внутренних дел. От работников розыска, к своему ужасу, он узнал, что является участником преступной группы наркоманов, занимающихся в угарном дурмане развратом. Для приобретения наркотиков нужно много денег, и для этого известная ему группа совершала квартирные кражи, угнала и продала один автомобиль. При продаже второго в Ереване были задержаны продавцы (парень и девушка). Вся группа уже арестована, а теперь его очередь рассказать правду и ждать приговора суда. И потрясенный Гулбис сразу рассказал о всех своих любовных похождениях...
У меня отношения с Гулбисом были непростые. С одной стороны, он был мне симпатичен: уверенный в себе, открытый, серьезный юноша, с другой — излишне самолюбивый, не считающийся порой с чьим бы то ни было мнением, надменный и гордый, убежденный в превосходстве латышей над другими. Это меня в нем отталкивало. Я чувствовал, что он мне не доверяет: спорит по пустякам, упорно игнорирует мое мнение. Он даже заявил однажды, что у них только один инструктор и слушаться будут лишь его. Но острых стычек у нас не было, жили, в общем, мирно...
Старший инструктор Николай Казимирович, несмотря на внешнюю расположенность ко мне, не захотел делить власть в камере. Да и не мог наверное, простить, что я уличил его в наушничестве майору. Меня в результате вроде бы «повысили в должности» — доверили быть инструктором в другой камере.
КАМЕРА №208
ДЖИНСОВЫЙ БИЗНЕС
РЫЖИЙ ПАХАН С БОРОДОЮ...
С КОНФИСКАЦИЕЙ ИМУЩЕСТВА
ПРЕМЬЕРА НА СЦЕНЕ ЭДИНБУРГА
Пожалуй, самые отвратительные дни в Рижском СИЗО провел я в камере № 208. Два моих соседа — Арвид и Герхард чувствовали себя привольно, и приход старшего — инструктора — был им явно не по нутру. Если Арвид, краснощекий, неповоротливый увалень был просто обозленным бездельником, то Герхард был явным неврастеником, а то и психически неполноценным. Истерика, брань были нормой его поведения. Не желая сразу конфликтовать, я попробовал навести мосты. Первым рассказал, что сижу за спекуляцию, вскользь поинтересовался:
— А что ты не поделил с властью?
— Ну их всех в задницу. Скоро на зону топать. Сунули, скоты, пять лет,— ответил Арвид.
— Многовато для первого раза.
— Второго. Первый раз «условным» отделался.
— Пять лет несовершеннолетнему — значит, серьезное дело у тебя было? Это все-таки срок: не год и не два.
— Да какое там серьезное? Так, мелочевка. Собрали всего понемногу, получилось много.
— Не бреши. Я уже год, как под стражей, и малолеткам по мелочевке много не дают. Ты брось мне по ушам стрелять. Старого воробья на мякине не проведешь.
— А я лапшу не вешаю. Смотри сам: первый раз меня судили за спекуляцию. Тогда мне было четырнадцать лет, и я стал думать, где достать «капусты», чтобы мотоцикл и японский маг купить. Долго размышлял, примерялся — и надумал. Стырил у отца пятьсот рублей и потопал на рынок. А тогда были очень модны и хорошо шли джинсы. Решил я партию подешевле закупить, а продать подороже. «Навар» себе, а пятьсот отцу тихонько возвратить. Полагал, что оптом мне продадут дешево.
Прошвырнулся я в толпе туда-сюда, смотрю, примеряюсь, спрашиваю. Джинсов много: разных, фирменных, производства и США, и ФРГ, и Индии, и Англии. Бара- холовка тогда богатая была, не то что сейчас, когда разгоняют мусора: боятся, что ворованное будут продавать. Ну вот, в основном у каждого одна-две, самое большое три пары, и просят полтораста. Мне такая песня не нравится. Загрустил аж. А тут табор цыган подъехал, прямо на лошадях: писк, визг, хохот, крики, галдят что- то по-своему. Я к ним! Говорю здоровому мужику с черно-смоляной, местами сивой бородой: «Менты шастают, будьте осторожны». Он: «Понял сынок, спасибо. Что хочешь купить?» Я ему: «Джинсы заграничные, фирмен- •ные, да штук десять, чтобы подешевле: приехал издалека. Друзья, родственники просили. Да дешевых нет. Все дорого просят!» «Эх,— говорит,— как ты ко мне всей душой, так и я к тебе! Твою беду пальцем разведу». Кричит: «Земфира, Земфира! Животное безрогое, не слышишь, что ли? Иди сюда». Та бегом пришпарила, стоит с собачьей готовностью: «Что прикажешь, владыко?» Он ей на цыганском: «гыр-гыр». Та головой кивает в знак согласия. Потом скрылась в обозе. Через несколько минут возвращается с большой сумкой. Ставит на телегу и разворачивает передо мной джинсы. Одни, вторые, третьи: ровно десять штук. Я их каждые пощупал — дубяные, как настоящие импортные, посмотрел: фирменные бирки есть. Швы — двустрочные. Без сомнений: «Made in...», не наши. Говорю: «Годится. Пятьсот есть — десять брюк мои». Они опять по-своему. Сивобородый меня тяжелой рукой по плечу похлопал: «Ладно. Забирай товар». Я вместе с сумкой оттуда бегом, чтобы не передумали. Радостный, счастливый домой пришел. Звоню корешу: «Приходи, фраер, дело есть». Приходит, я ему товар показываю, хвалюсь, как удачно цыган провел, сочиняю кое-что от себя. Он долго рассматривал одни штаны, потом примерил и говорит: «Цыгане народ хитрый, они могли тебя и надуть. Давай водой одну брючину смочим, посмотрим, поползет ли краска. Если нет, то импортные, настоящие, а если поползет, то поддельные». Ну, я без всякого страха и согласился. Давай мы одну штатину в воде полоскать, а краска с нее слезла. Стала штанина серого цвета. Вся синька и какое-то вещество типа клея смылись. Стали джинсы мягкие, сморщенные. У меня аж глаза на лоб полезли, волосы зашевелились, потом всего прошибло... И слова сказать не могу. Стою разинув пасть. «Ну, гады, сволочи, паразиты!..» Мы бегом на рынок. Нашли цыганский обоз, а тех, кто мне продал,— нет. Давай расспрашивать, где мол таких найти, а они плечами пожимают: не знаем, не понимаем. Разве от них правды добьешься? Что делать? Деньги — тютю. А отец обнаружит, изобьет. Думали, гадали. Решили продать так же, как мне продали: обманным способом. Пошли назавтра на толкучку. Долго ходили, предлагали и по шестьдесять, и по пятьдесят рублей. Все посмотрят, повертят: дешево, значит, дерьмо. Дошло до нас. Давай, говорю, за сто пятьдесят рублей попробуем сбыть. Стали такую цену просить. Один дурень попался, из деревни наверное, за стольник согласился. А больше — никто. И то легче стало. Пришел домой. Стольник в шкаф на полку отца положил, а девять «джинсовых» брюк вместе с сумкой под кровать засунул. Утром мать убирала квартиру, обнаружила. Отцу сказала. Тот ко мне: «Где взял столько штанов?» Я молчу, не знаю, что и сказать. Он давай меня за волосы таскать. Пришлось все выложить. Полез он в шкаф, посмотрел, что четырех стольников не хватает... Поддал он мне жару тогда, аж сейчас вспоминаю с дрожью...— Арвид замолчал. Встал, закурил, дал сигарету Герхарду, который молча сидел рядом со мной, периодически поглаживая рукой бритую голову.
— А джинсы куда дел? — спросил я.
— Целая проблема оказалась. Кому нужно такое дерьмо? Отец через знакомых в комиссионный магазин сдал по два чирика за штуку. Неудачное начало, неудачный и конец. Как не повезет сначала, так счастья не жди,— не будет.
— А за что первый раз осудили?
— За нее же, за спекуляцию, будь она неладна! Поумнел малость. Стали мы с корешем другим товаром промышлять. Скупили по магазинам разноцветные.спортивные тенниски. Заготовили трафареты с надписями, рисунками. Краску достали, ярлыки, бирки иностранных фирм — и давай штамповать, целое производство наладили. А потом на толкучке продавали как импортные. Засекли нас менты. Дело состряпали — ив суд. Легко отделались.
— А второй раз за что?
— За то же самое: ее величество спекуляция, да еще разбой прибавился.
— За разбой-то и дали пятак. Теперь мне понятно. А то: ни за что! Это ж тяжкое преступление. — Хорошо, что мужик тот концы не отдал. Идем мы по парку, а навстречу хмырь лет за тридцать шпарит, с японским магом в руках. Вечерело. Оглянулись: никого вокруг нет. Побазарили между собой и к нему вдвоем: «Отдавай подобру, а нет, так ляжешь здесь». Дружок кастет демонстративно на руку надел. Побледнел парень, но говорит: «Не отдам: дорог он мне, сам заработал». «Ну, если сам заработал, тогда получай»,— мой кент ему кастетом по башке, тот и сел. Мы за маг и давай драпать. Заметили нас. Гнаться стали. Споткнулся я о корень дерева, упал. Сдали нас в ментовку. Парень тот еле-еле очухался: сотрясение мозга получил. «Тяжкие телесные повреждения» — записали в протоколе. Да еще пару фактов фарцовки надыбали. Вот и отхватил. Пошли они все...— окончил свою исповедь юноша нецензурной- бранью.
— Да! Сидеть тебе, сидеть, как медному котелку,— равнодушно произнес я.
— Отсижу! «Пятак» — это уж точно. Здесь уже два раза в трюм спускали, других нарушений за мной куча. На зоне тоже буду вести себя как захочу. Плевать я хотел на эти сытые рожи. Была бы моя воля, всех бы из автомата перестрелял. Как они мне надоели — мусора, куски проклятые, козлы вонючие...— длинный перечень вновь закончился нецензурщиной...
«Еще и восемнадцати не прожил, а столько злобы и ненависти накопил! А что будет потом? Не вылезать ему из тюрьмы. Испорчен совсем, несчастный парень. Почти законченный преступник. И ничем не поможешь»,— подумал я, но все-таки предпринял попытку:
— Слушай, Арвид, мать, отец как к тебе относятся? Жалеют? Видел ты их в суде, свидание, может, после суда было?
— Видел и в суде, и после. Мать ревела как белуга, отец — ничего, держался. А наплевать мне на их жалость. Раньше надо было ко мне хорошо относиться. «Капуста» у них всегда была. Прошу: «Купите мотороллер». А они: «Голову разобьешь, покалечишься, убьешься!» Говорю: «Тогда маг приличный», а они: «И этот сойдет. Когда сам зарабатывать станешь, купишь, какой захочешь». У меня «Весна» старенькая была: купили, когда в седьмой класс перешел. Их жадность меня и сгубила. А купили бы мне что я просил, может быть, и не сидел бы здесь.
— Купили бы они тебе мотороллер, магнитофон «Юпитер» или другой какой. А ты бы им: покупайте «Яву», магнитофон японский, а то и машину затребовал бы. И так — до бесконечности. Неужели тебе, дубовая башка, не ясно, что они, твои родители, правы, и не в них причина того, что ты здесь?
— Нет: их жадность привела меня сюда. Мне лучше знать.
— Ты был плохо одет? Хуже за тобой смотрели, чем за твоими сверстниками?
— Нет, как все, так и я!
— А чего же ты еще хотел от папы и мамы: чтобы они тебя из соски кормили?
— Маг и мотороллер пусть бы покупали. Другие имеют это!
— А все твои знакомые это имели?
— Нет, конечно!
— Ну вот, видишь! А семья у вас большая?
— Есть сестра, маленькая, и брат, меньше меня.
— Видишь. И брату захотелось бы джинсы импортные, мотоцикл свой иметь. Сестренка — со своими просьбами, ты со своими. Вас же трое в семье. Вы подрастаете, потребности увеличиваются. На мой взгляд, у жадных родителей много детей не бывает. Они для себя живут. А так: трое детей. Не прав ты.
— Все равно они виноваты, век не прощу. Всех ненавижу, всех. И больше с тобой говорить не желаю. Не лезь в душу, а то и врезать могу.
— Брось глупости молоть. Я тоже могу врезать, и гораздо крепче и больнее. Не зная броду, не суйся в воду. Знаешь такую пословицу? — не желая разжигать страсти, заявил я, а сам внутренне собрался, насторожился, готовый к нападению.
Арвид промолчал. Сплюнул на пол и улегся на койку, уставившись глазами в потолок, хлюпая сопливым носом.
Герхард встал с моей койки, широко, со стоном зевнул, потянулся. Его широкий рот ощерился черными и желтыми неровными зубами, лицо перекосилось, в маленьких глазках сверкнул безумный блеск.
— Ты, инструктор, полегче с нами, а то беды не оберешься. Нам на все плевать: терять уже нечего, жизнь сделана, и рюмки выпиты до дна,— визгливо прокричал он.
— Когда же ты, бескрылый птенец, успел рюмки до дна выпить? Жизнь-то у тебя только началась,— как ни в чем не бывало, спокойно спросил я.
Не ожидая такого обращения, несовершеннолетний безумными глазами уставился на меня. Но, не выдержав моего спокойного взгляда, отвернулся и стал быстро ходить взад-вперед по ограниченному пространству камеры, бормоча себе под нос песенку:
Друзья, рожден я под забором,
Черти окрестили меня вором.
Рыжий пахан с бородою Окропил меня водою...
Резко оборвав пение, он остановился против меня и, уставившись в пространство поверх моей головы своими стеклянными глазами, сказал:
— Хотя я и мал, но видал больше тебя. Тебе и во сне не снилось, что я прожил и пережил!
— Когда же ты успел обогнать меня? Судя по твоему внешнему виду, ты в два раза моложе меня. Сколько тебе?
— Скоро восемнадцать.
— Вот видишь, а мне скоро пятый десяток пойдет, ты говоришь, не таких видал, через забор бросал?
— Сколько перевидел, не счесть. Сколько зубов выбил, сколько чернил перепил. Ого-го!
— Мать-отец есть у тебя, или ты и в самом деле без роду и племени?
— Были да померли,— не то шутя, не то всерьез ответил юноша.
— А рос ты с кем?
— Вначале — в детдоме, потом у бабушки, царство ей небесное,— Герхард замолчал.
— А потом где рос? — поторопил я его, стремясь сохранить направление беседы, пока он не перестроился на новый лад.
— А дальше?.. Все-то ты знать хочешь! Любопытный очень. Любопытной Варваре в Риге на базаре нос оторвали.
— Я не на базаре. Мне интересно: как ты до такой жизни докатился? Многих и я встречал на своем веку, но такие экземпляры, как ты, мне редко попадались.
— Какие такие, что-то я не понял? — грозно насупившись, переспросил юноша.
— Настолько искалеченные, не видевшие в жизни никакого просвета. Без надежды и планов на будущее. Ведь ты же спорить не станешь, что каждый человек загадывает на будущее, строит планы, на что-то надеется, о чем-то мечтает? Ты же какой-то беспросветный. Все темно и темно перед тобой: жизнь кончена, жизнь сделана... и в таком духе. Загробный, что ли?
— Ты бы с мое хлебнул, может, еще больше завопил. Испорченный и искалеченный я? Ходячий, бесчувственный труп? Вот смотри,— юноша в экстазе схватил со стола иголку и молча воткнул ее в руку, проколов ладонь насквозь.
У меня от такого «фокуса» расширились зрачки: «Больной, как пить дать, дурак».
— Хочешь, попробуй сам,— предложил он мне.
— Зачем? Я и так убедился, что у тебя не все дома. К врачам ты обращался?
— Ха-ха-ха! Да у меня голова здоровее твоей башки. Сколько спецов смотрели! Все сказали, что здоров. А вот это от моей искалеченной житухи осталось.
— Слушай, ты постоянно долдонишь, что она у тебя искалечена, испорчена. Чем же жизнь виновата?
— Чем, чем? Всем! Первое, что родился я без отца и матери. Подкидыш. Впервые увидел не глаза родителей, а чужие — нянек. Потом нашлась бабушка. Сжалилась, забрала. Перед ее смертью, а я как раз из спецшколы на каникулы к ней приехал, она мне и рассказала, что ее дочь, будь она проклята, стерва, проститутка, скотина... родила меня от своего хахаля, убежав от мужа. А хахалю-то она была до одного места. Он ее драл как Сидорову козу. У него своя семья была, а она к нему прилипла. Еле отодрал. А потом и пошла по рукам. Этот самозванный отец меня не признал. Сказал: «Не мой ребенок, ко всем подстилалась: кто разберет, чей. Сотни ее ...» Бросила она меня под дубом, в центре городка. На улице, говорят, чуть не родила, в судорогах забрали чужие люди, отвезли в больницу. Уехала она в Сибирь, на ударную комсомольскую стройку. Несколько писем матери написала, что живет, мол, неплохо, гуляет в свое удовольствие: баб там мало, а мужиков — хоть косой коси. Она за первую красавицу там слыла. Потом написала, что лежит в больнице: по женской части что-то не ладно стало. Потом телеграмму бабушка получила от врачей: умерла раба божья, рак матки. Наблядовалась... Рос у бабушки, она старенькая уже была, немощная. Что она со мной сделает? Я сутками дома не ночевал. Помню, в четвертом классе на три месяца летом сбежал. Жил с одним корешем в лесу, по подвалам, деревенским домам шарили. Жратвы наберем — гуляем по лесу. Склад оружия нашли, с войны остался. Пистолеты, автоматы, гранаты смазанные, блестят, как новые, без ржавчины. Стрелять попробовали, да легавые накрыли нас, привели обратно. Кореша сдали отцу, а меня — бабушке. В пятый класс пошел — вообще от рук отбился: в школу неделями не ходил. И не только я, были еще такие. Соберемся, обворуем кого, костер в лесу разведем, кортошку печем. Курим, самогон, чернила пьем. Не жизнь — малина. Свобода, чистый воздух, птички поют. Зимой в подвалах, в котельных кайфуем. Опять менты выловили, на комиссию и — в спецшколу. А там — своя жизнь. Только держись! Многому я там научился: замки открывать, самодельные ножи, кастеты, пистолеты даже делали. А драки — постоянные. Потихоньку опыта у старших набирался. Через два года сам боссом стал. Вокруг себя корешей собрал... Всю школу в руках держали. Учителя, воспитатели нам были до одного места. Что хотим, то и делаем, хотим — удерем, чернил, водки или самогона где стырим и пьем до посинения. Один фраер в такой попойке концы отдал. Директора сняли, а нам — до лампочки. Жили сытно: что есть в школе, то все наше. Балдел я там и кайф ловил лучше, чем на свободе, в Крыму каком! Мужеложством стал заниматься. Вся моя компания имела «девочек». Выбирали на любой вкус: могли хором, могли по одиночке... Воспитатели не знали, как от меня избавиться. Дни считали, когда мне исполнится шестнадцать, чтобы выпроводить быстрей. А время, оно медленно шло. Тогда меня в шестнадцать лет определили в спецучилище: решили строительную специальность дать. Я быстро нашел общий язык с местной мафией. Вначале босяком полгода ходил, а потом стал боссом в группе своей. Опять зажил на широкую ногу. Кайфовал, педерастил, пил. Доставалось мне от администрации. Били иногда, но я привык к побоям. Чем больше меня били, тем больше у меня становилось злости и желания отомстить. Упорный, настырный я. Пацаны из училица неоднократно толпой меня дубасили: один раз так оттырили, что сотрясение мозга получил, другой раз руку сломали. Во, видишь, неправильно кость срослась,— Герхард показал мне руку.
— А нос где сломали? — спросил я.
— Это в драке на улице, когда грабанули одного военнослужащего. Афганец оказался, приемы знал. Загрел мне добро: сразу вырубон... Но нас четверо было. Кореши тоже бывалые. Два ребра ему сломали, зубы выбили. Это было, когда я из зоны уже откинулся, в прошлом году. А до этого я в училище одному череп проломил. Здоровый детина, общественник и козел. Сдавал всех. Вот я и подловчился: когда он спал, ногой в кеде так заехал ему, что череп треснул, еле откачали. А мне полтора года сунули лишения. На зоне я был тоже в своей тарелке, в масле катался. Вокруг меня сразу толпа образовалась. Не работали, опять мужеложство в ход пошло, «вафляки» — там это развито. Опыт у меня есть. Хотели дополнительный срок дать, но пожалели: безотцовщина, нет семнадцати. Выкинули за ворота: иди куда хочешь. А куда идти: ни кола, ни двора. Бабушка умерла. Сел я на скамейку возле тюрьмы, смотрю и думаю: может, повеситься? Стал сук подбирать. А тут появились молоденькие симпатичные девочки, смеются: «Эй, аре- стантик, куда полез?» Они меня, видимо, по шмоткам определили. «Там яблоки не растут, забыл, что ли? Иди с нами!» Слез я с дерева, посмотрел: ничего чувихи. От сердца отлегло. Пошел с ними. Говорю им: повеситься хотел — не верят. Одна, правда, черная, как цыганка, а может, жидовка, квадратная такая, на меня посмотрела и говорит: «Дурак ты, дурак. Жизнь прекрасна и удивительна. Молодой: женишься, дети будут». А я в ответ: «Для кого прекрасна, а для кого — белый свет не мил. Откинулся вот, а родных никого нет, идти не к кому». А она, тоже стерва хорошая, уже на фабрике работала, девятнадцатый год ей шел. С лица некрасивая, но добрая, говорит: «Живу я одна, ко мне и пойдешь». Посмотрел я, посмотрел: уж больно рожа страшная. Но подумал: «А как я с мужиками спал, педерастил их?.. А это все- таки — баба, и все у нее есть...» «Хорошо,— отвечаю,— пойдем». Приходим, а она жила на квартире, в частном доме. У нее отдельный вход, одна комната. Хозяевам до нее дела не было: лишь бы «капусту» исправно платила. Работала она ткачихой, копейку неплохую имела. Стал у нее поживать. Баба хоть и толстая, плотная, но страстная. Молодец, а это дело... ох, как любила. Готова день и ночь голой, раскинув ноги, лежать. Но мне скучно стало без дела сидеть. Начал думать и гадать. На учет стал в ментовке, те на работу послали, на стройку. Крутанулся я несколько дней: холодно, грязно — не по мне. Сбежал. Стал ошиваться по бойким местам, присматриваться, компанию сбивать. Натура у меня такая: люблю общество. Один никогда на дело не хожу, боюсь, а с компанией — хоть в огонь, хоть в воду. Нашел еще двух тунеядцев и бродяг, скорефанились. Моя клуша деньги мне давала, но крохи. А жить хотелось на широкую ногу. Начали думать: куда податься, где поживиться? Обобрали одну квартиру, вторую, третью... По городам кататься стали. Кое-где грабанули. По пьянке хулиганили часто. На одном разбое и залетели. Поймали с поличным. Ночью в рижском парке избили одну молодую пару. Она колец на каждый палец понацепляла, на шее — золотая цепь, в ушах бриллианты светятся. Мы сидели втроем, поддавшие, курили, а они, как на грех, напротив примостились. Мы хорошо их рассмотрели: электростолб с лампой прямо над ними возвышался. Тихо переговорили между собой, решили грабануть. Один из нас подошел, попросил закурить, мы — сзади. Как только парень полез за сигаретами, кент его кастетом в подбородок: сразу вырубил. Его подружка вся побелела, не успела рта раскрыть, как я ее тоже маленько «погладил». Быстро золото стали снимать. А тут из-за деревьев дружина возникла. Когда перстни с рук стаскивали (те плотно сидели, не содрать), увлеклись и не заметили, как нас со всех сторон обложили. Да еще под газом все были. Рванули поздно: одному удалось смыться, а нас заштопорили. Долго крутили, вертели. Сумели размотать еще один грабеж, пару квартир. Суд мне семь лет отмерил, одному кенту — шесть, другому — восемь. Много за ними и без меня грехов водилось. Вот и суди сам: жить честно я не могу и не желаю. А после семи лет что от меня останется? И сейчас половины зубов нет: выбили. Во, смотри,— обнажил он оставшиеся зубы.— Голова моя побита. Видишь, сколько бугров,— наклонил он голову. (На бритой голове было много шрамов и шишек.) — Желудок тоже барахлит. Хорошо, если свой срок отмотаю, а то, может, и на зоне умру, а может, кто и пришьет. Скорее бы.— Лицо юноши посерело, как у трупа, в его глазах я прочел отчаяние и безнадежность.
С трудом, но мне удалось вырваться из кошмара, который ежедневно устраивали эти распоясавшиеся юнцы. После многочисленных жалоб и заявлений наступили перемены.
Я все-таки попал на прием к заместителю начальника изолятора. Майор Воронцов оказался редким исключением из правил: внимательно выслушав мои жалобы, он наконец избавил меня от «приятного» соседства.
И вот у меня снова новоселье. Изобилие дневного света с непривычки ослепило — даже на полу лежали солнечные блики. В камере было свежо, чисто и просторно. Перешагнув порог, я вздохнул полной грудью и от удовольствия зажмурился. Ко мне подошел средних лет мужчина, высокого роста, с внушительным животом. Это был инструктор. Вокруг стали вертеться подростки, которые, не называя себя, пытались выведать: кто я и что я. Утолив первое любопытство, юноши расселись группами по углам камеры, шумно обсуждая свои проблемы.
Мое место оказалось рядом с инструктором. Двухъярусные койки были аккуратно заправлены. Только на первом ярусе покрывала большинства коек были помяты: на них сидели и лежали подростки. Наши с инструктором койки тоже были двухъярусные, но в отличие от других их верхний ярус не был занят. Немного освоившись, я стал рассматривать камеру и ее обитателей. От моей койки начинался длинный деревянный стол со скамейками, который тянулся вдоль всей стены. В конце стола возвышалась кирпичная перегородка в рост человека, за которой размещался санузел: умывальник и туалет. В камере было два больших окна, не застекленных, а замурованных толстыми стеклоблоками, непрозрачными для глаз, но хорошо пропускающими дневной свет и солнечные лучи. Вентиляцию обеспечивали фрамуги в верхней части оконных рам. Пространство между окнами занимал книжный шкаф с тумбочками. На полках было много книг и журналов. «Красота и благодать. Здесь действительно комфорт и рай по сравнению с той вонючей и серой пещерной камерой»,— подумал я. Обратил внимание на «оригинальное» запорное устройство выхода из камеры: перед обычной дверью, метрах в полутора, в пол и потолок была вмонтирована решетка из толстых железных прутьев с дверью и запорным устройством. Поэтому из камеры (закрываемой также на задвижки и замки) до двери дотянуться было невозможно.
Осмотрев внимательно свои новые апартаменты, я переключил внимание на жителей. Насчитал одиннадцать несовершеннолетних. Особенно выделялись трое. Один высокий, крепкий, широкоплечий юноша, второй — шустрый, юркий, быстрый, в очках, третий — чернявый, смуглый, очень подвижный, типичный цыган. Около них вертелись еще двое: рыжий заморенный паренек и небольшого роста коротко остриженный круглолицый юноша. Эта компания держалась вместе. Они громко переговаривались, подавали команды, которые остальные выподняли беспрекословно. Явно они были заводилами и первостольниками в камере.
Громче всех раздавался нагловатый голос Верзилы. С первых минут пребывания я понял, что здесь это самый распущенный парень и с ним придется повозиться. И, как бы читая мои мысли, инструктор сказал:
— Не обращай внимания на его гогот и крик: он, видать, немного чокнутый. Хорошо, что завтра должен уехать. И вообще — хулиган и наглец. Жду, вот-вот должен вызвать воспитатель для разговора.
— А что случилось?
— Да я их вчера до полночи успокаивал: никак спать не ложились, кричали, бесились. Я уже устал на них кричать, уснул, а они меня ночью водой облили. Я и доложил начальству. Хамье, особенно вон та пятерка. Они особняком держатся, прибрать их к рукам у меня уже нет сил.
— Вдвоем мы быстро их обуздаем. Вдвоем легче. Да и веры со стороны начальства нам будет больше. Если ты один против них — оговорить могут: не отобьешься от наветов и клеветы.
— Поэтому я и стараюсь не трогать их. Но они все больше наглеют, на голову садятся. Иногда так выведут из себя, что, кажется, смазал бы так, чтоб под койку улетел. Терпение лопается. А потом как представишь, что из этого могут пожар раздуть, плюнешь и подумаешь: да хоть головы себе поразбивайте. Если воспитателю, администрации до них дела нет, то мне и подавно. Только вот спать, черти, не дают. Того и гляди, что-нибудь натворят. Такие распущенные, что диву даешься, как они себя на улице вели, как дома, в школе с ними справлялись?
— Поэтому они и в тюрьме, что слишком шустрые и наглые. Но не все же такие?
— Нет, вон те — нормальные ребята: читают, играют, спокойно себя ведут, а эта пятерка — все один к одному: распущены до предела. А предводителем у них вон тот здоровый бугай, что зверем рычит, не переставая...
— Если завтра его от нас не возьмут, обломаем рожки. Завтра им займусь сам,— самонадеянно заявил я.
— Попробуй. Но смотри, беды не наживи, не переборщи. Сами жаловаться начнут. Они грамотные: не силой, так кляузами замучают. Я пришел сюда месяц назад, стал закручивать гайки. Так они ночью мой матрац и одеяло подожгли. Чуть не задохнулся от дыма, хорошо, что проснулся, а то бы «каюк». Тогда зачинщиков отсюда убрали й в маломестную перевели. Психически больные были.
— А куда их перевели?
— А всех разгильдяев и самых непослушных дебильных переводят во второй корпус, в маломестку. Там, говорят, их содержат, как в зверинце: камеры маленькие, не повернуться, а их как селедок в бочку натолкают: бейте себе головы, черепа друг другу раскраивайте, руки- ноги ломайте. Один из них прибыл сюда из зоны на «раскрутку». Так этот садист мне ночью в ботинок свои естественные надобности справил. А утром смеется, зубы черные неровные скалит. Точно зверь какой.
— Как его звали? — насторожился я.
— Как? Постой, сейчас вспомню... Кажется, Герхард. Да, да, Герхард.
— Герхард? Небольшого роста, бледное лицо, очень подвижный, мускулистый? Сидит за разбой, грабежи и квартирные кражи. Говорит отрывисто, быстро. Он?
— Да, точно он. Откуда ты его знаешь?
— Да была у меня с ним встреча. Угрожал одной женщине, контролеру, пакость сделать.
— Он, я помню, любил говорить о женщинах похабно, постоянно матерился. И что он обещал еще учудить?
— Он обещал, что по всем камерам записки разошлет, что она проститутка, развратничает с мужчинами на работе... Я предупредил воспитателя. Не знаю, чем эта история кончилась.
— А как выглядела эта женщина?
— Склонная к полноте, среднего роста, приятной внешности. Волосы густые, светлые, голубоглазая, немного картавит.
— Недели три тому назад, может, чуть больше, на нашем этаже появилась новая дежурная, женщина лет тридцати, похожая на ту, которую ты описал. Глаза у нее блудливые, как у кошки. Может, она?
— Скорее всего она. Мне тоже ее глаза такими показались...
Загремела дверь. На пороге появился воспитатель — молодой парень в гражданской одежде, атлетического телосложения. Увидев меня, как будто удивился, но, ничего не спросив, предложил всем следовать за ним. Построились и пошли. Воспитатель повел нас через коридор к тем самым боксам, в которых когда-то мне предлагали опознать подозреваемых нарушителей, забравшихся ночью в нашу камеру. Оказывается, из одного корпуса в другой можно попасть и не выходя наружу — по внутреннему ступенчатому коридору. Разместив несовершеннолетних в двух боксах, воспитатель пригласил нас, инструкторов, к себе в кабинет.
— Ну, рассказывайте, что произошло вчера ночью и кто виноват? — предложил он моему соседу.
Тот коротко рассказал о хулиганских действиях несовершеннолетних. Высказал предположение, кто мог окатить его водой. Особое внимание он обратил на Верзилу как зачинателя всех безобразий и попросил быстрее убрать его из камеры. Воспитатель вызвал названного молодца. Здесь, в кабинете, этот высокий, широкоплечий Верзила показался мне похожим на огромного орангутанга: длинные, свисающие почти до колен руки с огромными кистями, крючковатые пальцы с большими ногтями, сутулая фигура, длинные кривые ноги, огромная, приплюснутая спереди голова...
Молодой воспитатель, волнуясь, стал отчитывать Верзилу, но по плоскому лицу того нетрудно было догадаться, что до него слова не доходят. Вскоре его вернули в бокс. Примерно так же повторялась воспитательная процедура и с остальными несовершеннолетними. Воспитатель пообещал завтра же удалить Верзилу из нашей камеры. Снова строем привели всех в насиженное место. Несовершеннолетние приступили к своим обычным занятиям. Мой сосед по койке и первый инструктор поведал мне о себе.
Феликс Ольгерт, так его величали, оказался умным и толковым собеседником. По образованию он был инженер-строитель. Много лет активно увлекался спортом. Побывал во многих городах Союза и за границей. Одно время работал начальником крупного строительного управления...
— Слушай, Феликс, а почему ты ушел с руководящей работы? Насколько мне известно, начальник СУ — престижная должность, оклад хороший,— поинтересовался я.
— Скажу тебе откровенно: работа мне нравилась. Но не давали спокойно работать. Замучили бесконечные, пустые вызовы в райкомы, исполкомы, горкомы, горисполкомы, беседы, заседания, совещания. На это уходила половина рабочего времени. А комиссии! Одна за одной проверяют, копают, нотации читают. Они отнимали вторую половину дня. Это меня изводило, как зубная боль. Никакой самостоятельности: планы доводят, потом их корректируют, меняют. Вечная нехватка людей, строительных материалов, искусственно созданные авральные ситуации: с одного объекта силы и средства то и дело приходилось перебрасывать на другой. Вот, например, по плану надо в первом квартале сдать жилой дом, во втором — школу, в третьем — детский сад. Только наладишь производство, со снабжением, с людьми все утрясешь, начнешь продуктивно работать на жилом доме, а тут секретарю райкома или председателю исполкома захочется, чтобы детский сад сдали в первом квартале: видите ли, он пообещал на собрании в каком-то коллективе или перед избирателями досрочно сдать этот самый детский садик. Перебрасываю технику, людей, материалы на садик. Начинаем работать. А Тут снова секретарь горкома или председатель горисполкома или кто повыше пообещал сдать досрочно в эксплуатацию жилой дом. Перебрасываю технику, людей обратно. А потом комиссия за комиссией: качество, экономия, смета, кадры — и пошло... Такая неразбериха, такая катавасия, что только держись. Нервы постоянно в стрессовом состоянии. Все кругом над тобой начальники, успевай только взбучку получать, а возразить не смей. За тебя думают и решают исполком, райком, Госплан — все, кому не лень. Три года я продержался, а потом положил на стол своему руководству заявление: прошу, мол, освободить по собственному желанию, не могу, дескать, выдерживать дальше напряженный режим, хочу спокойно пожить... И что ты думаешь: отпустили? Как бы не так. Приступили ко мне с разборами, уговорами, а когда не подействовало, стали угрожать. Представляешь: человек понимает, что долго не выдержит, сорвется, уйти желает. Нет! По партийной линии его раскручивают, по административной... Как говорится, кому это надо и кто это выдержит? В общем, ушел я рядовым инженером, с выговорами, конечно. Но денег семье стало не хватать, пришлось заняться приработком. И вот финал — решетка и тюремная баланда. А жил хорошо: машина, квартира в центре Риги — все имел. Руки у меня неплохие, и много за жизнь специальностей освоил. Но увы: корабль сел на мель.
Я слушал сокамерника внимательно, пытаясь понять, как и за что этот неглупый седой человек попал в разряд отбросов общества, стал преступником? Многое он недоговаривал, но уточнять детали было неудобно, затрагивать больные струны души, не зная хорошо человека, я пока не решался. Много интересного рассказал мне
Феликс о своей жизни в Латвии, о молодости. Незаметно подошло время отбоя. Увлеченный разговором, я не замечал, что творится в камере. Но когда, умывшись, с наслаждением растянулся под одеялом, то обратил внимание на обстановку в нашем жилье. Лежа головой к стене, я обозревал всю камеру: одни несовершеннолетние укладывались спать, другие вольготно разгуливали, явно не собираясь раздеваться. Знаменитая пятерка приступала к своей «концертной программе». Вначале они, громко разговаривая и хохоча, носились по камере, шныряли между коек, бросали в улегшихся спать ботинки. Когда им это надоело, они уселись на одну из коек в центре камеры и стали громко распевать блатные песни. Феликс несколько раз попытался урезонить их, но никто не реагировал. Пели они час или больше, затем уселись за стол есть, после чего снова стали громко орать. Я молчал, присматриваясь, кто в этой шумной компании чего стоит. Громче всех кричал худой, очень бледный юноша в очках. Издали он казался слабым и болезненным. Второй скрипкой тут, очевидно, был Верзила, громовой бас которого не мог, как ни странно, перекрыть писклявый, нудный и противный «козлетон» очкарика. Третьим по усердию и крику был цыган невысокого роста, но крепкого телосложения, с копной черных густых волос на небольшой голове. Сверстники называли его Чавэла. Он охотно отзывался на такое прозвище. Четвертый, полный, круглый, был пассивен и держался компании явно из-за престижа быть в числе лидеров, первостольников, властителей камеры. Пятый — высокий и худой рыжий парень, весь в синяках, был на побегушках. Он стремился завоевать авторитет, утвердиться среди лидеров, но его били, отталкивали, над ним постоянно смеялись. Беспрекословно выполняя приказы четверки, он тем самым обеспечивал себе место рядом с ними.
Разобравшись наконец в строении этой иерархической лестницы, я подозвал к себе очкастого. Тот на удивление послушно подошел к моей койке и настороженно застыл.
— Присядь на койку, потолкуем малость,— предложил я, внимательно вглядываясь в его глаза. За линзами очков они казались маленькими, блестели, как у кота в темноте.
— Нет времени: фраера ждут, петь надо,— бросил он коротко и деловито.— Чего хочешь? Говори, или я пойду.
— Хочу многого. В двух словах не объяснишь. Только вот смотрю на тебя и думаю: поймешь ли? Уж больно ты распущенный,— сурово ответил я, внимательно следя за выражением его лица. Но на этом тощем, почти прозрачном лице не дрогнул ни один мускул, только чуть иронично скривились губы и в глубине глаз блеснул злой огонек.
— Каким родился, таким умру, и не каждому дано судить меня! Путаются тут разные под ногами, мораль читают. А мне на все наплевать. Пока, начальник! — ехидно бросил несовершеннолетний, быстро вернулся к компании, которая, на время притихнув, ждала очкарика. Когда тот появился, они выслушали его рассказ и дружно заржали, а потом опять стали горланить блатные песни. Второй инструктор, Феликс, слышал мой разговор и, выждав, когда очкарик уйдет, повернул ко мне голову:
— Не трогай их и не обращай внимания. Только себе нервы попортишь. А то еще какую-нибудь пакость ночью сотворят. Побесятся и уснут.
— Нет, я долго не смогу безучастно смотреть на их безобразия. У меня нервы и так расшатались. Если не помогут уговоры, придется применить силу. Когда не действует метод убеждения, вступает в права метод принуждения.
— Не спеши и не горячись. Подождем. Завтра уберут Андриса, потом поговорим с остальными. Он у них главная ломовая сила. А скандалить незачем. Я и сам иногда хочу двинуть обнаглевшего, но сдерживаю себя. Наломать дров легко. А потом чем это обернется? Вот в чем вопрос. Хорошо, если все обойдется без последствий. А если раздуют кадило? Им только дай повод...
Я понимал, что это мудрая позиция. Да, в отношениях с несовершеннолетними необходимо соблюдать гибкость и выдержку, чтобы завоевать их доверие мирным путем. Мне, как правило, это удавалось. Но сейчас передо мной были предельно распущенные, обнаглевшие от безнаказанности дикари, на которых никакие слова не действовали: для них веским аргументом была только сила. Говорят, что применять ее к несовершеннолетним негуманно. Но некоторые человекообразные ведут себя хуже, чем скоты, ибо ни одно животное не может придумать таких изощренных методов глумления и издевательства над личностью, какие придумывают озверевшие типы в облике людей. Как же относиться к таким «людям», если окажешься в их среде? Терпеть, молчать, соглашаться или взорваться и силой покорить осатаневшую в изуверстве толпу? Мнений тут может быть много, и самых противоречивых. Но мнения мнениями, а жизнь есть жизнь. К хулигану, грабителю, чтобы пресечь его бесчинства, чаще всего применяют силу. И чем раньше она будет применена, тем скорее будет обезврежен преступник, нарушитель общественного порядка, тем меньше вреда нанесет он окружающим. Но остановить хулигана силой, а тем более ударить его до того, как он избил и даже убил кого-то — значит самому стать преступником, а применять физическое воздействие к преступнику после того, как он совершил насилие или убийство,— бесполезно. Таковы противоречия реальной жизни.
Утром во время завтрака пятерка заняла места во главе стола, рядом с инструкторами. Я понял, что здесь укоренилось первостольничество. Перед верховодами лежало много разнообразных продуктов, дальше в глубь стола — меньше, а перед теми, кто сидел в конце стола, лежали только тюремные пайки. Феликс подал мне кусочек сала, предложил не стесняться и смело брать масло, белый хлеб, чай. Я не очень упирался: после голодной камеры мне очень хотелось есть. Но чтобы сгладить неловкость, я объяснил, что на следующей неделе должен получить передачу от жены и что у меня есть деньги на отоварку. Как мне рассказали, продукты куплены на деньги, заработанные камерой. Белый хлеб входил в состав пайка для несовершеннолетних. Многие получали из дому передачи.
Инструктор и пятерка были обеспечены обильной едой, другим доставалось меньше. Мне такая дифференциация не понравилась, и я демонстративно отдал часть своей доли сидящему у дальнего края стола юноше. Поймал на себе неодобрительные взгляды вожаков, в которых при желании можно было прочитать: «Сам на халяву жрет, еще другим отдает». Но никто ничего не сказал. После завтрака стали собираться на прогулку. В коридоре я увидел ту самую красавицу, которую дразнил Герхард. Она узнала меня, улыбнулась и, подойдя вплотную, взяла за рукав и отвела в сторону. Мурлыкающим голосом спросила:
— Скажи, что затевает против меня тот больной бритоголовый? Воспитатель посоветовал мне переходить в другой корпус, а то здесь, мол, готовится неприятность. А какая — не сказал.
— Герхард угрожал оповестить все камеры, что вы гулящая, падшая женщина и чтобы в следующий раз, когда будете дежурить, все заключенные на этаже кричали об этом...
— Вот психопат, дурак неполноценный! Мало ему, что сам меня оскорбляет, так он еще и других подговаривает. А я-то думала: что это вдруг случилось? Ну, хорошо. Идите в строй. Я с ним еще разберусь.
Для прогулки здесь был отведен маленький дворик на втором этаже. Дворик был такого же размера, как и в Минском изоляторе.
После прогулки в камеру принесли работу. Необходимо было на картонные коробки для лекарственных ампул наклеивать этикетки с названиями. Работали сокамерники ловко и быстро, только скандальная пятерка и здесь отлынивала. Для видимости каждый из них клеил, но работали они медленно, больше болтали. Верзила вообще не работал, кричал и бегал по камере. Я подозвал его к себе и спросил:
— Андрис, за что ты сидишь?
— За хулиганство.
— И что, сразу арестовали?
— Да, часть третья: с ножом; да еще от моего удара «перышком» тот тип чуть не сдох. Малость не хватило до сердца.
— Бандит ты, Андрис: человека ведь чуть не убил. И теперь постоянно дебоширишь. Отчего?
— Что — отчего? Я на голову больной, мне простительно, инструктор.
— Какой же ты больной, если тебя держат со всеми вместе и не лечат? Психически больных содержат в больницах.
— Откуда ты знаешь? Может, я уже лечился? Подлечусь малость — становлюсь здоровым, а как начнется приступ — снова больной. Эпилептик я, понял? Что хочу, то и делаю.
— Понятно! Больному все можно? Такая твоя философия, да?
— Да!
— Тогда снимай штаны и ходи голым, раз больной. Чего стоишь? Давай, снимай!
Верзила сначала застыл от неожиданного предложения и удивленно уставился на меня, потом, сообразив, пробасил:
— Пошел ты... Чему учишь? Сам знаю, что делать. И не вмешивайся в мою жизнь. А то и врезать могу!
— Ну, а у меня руки есть?
— Есть!
— Так почему я не могу тебе врезать? А?
— Ты слабее меня!
— На голову или на руки?
— При чем тут голова?
— А при том, что даже в драке берут не только силой, но и умом. Понял, дурья башка?
— Я сильный, мне ничего не страшно...
— Сильный, говоришь, и хочешь со мной потягаться? — поднялся с койки я и принял боксерскую стойку, приготовившись для нанесения удара. Такой выпад произвел на юношу сильное впечатление. Он испуганно попятился назад, задел скамейку и чуть не упал. Раздался многоголосый хохот. Верзила испуганно забормотал:
— Тоже, видать, не все дома. Из-за ничего драться лезет. Ненормальный!
— Давай, инструктор, со мной поборемся,— подскочил ко мне цыганенок.
— Вообще-то я не борец, но если хочешь, давай.
В центре камеры мы стали ловить друг друга на прием. Я был выше ростом, крепче телосложением, опытнее и хитрее соперника. Но цыган был очень подвижным, легким и без труда уходил от моих попыток ухватить его за руку или рубашку. Долго гонялся я за ним по камере, устал чертовски, но поймать верткого, прыгучего юношу так и не удалось. Это состязание надоело мне, и я предложил:
— Хватит! Что я буду бегать за тобой? Прыгаешь, как заяц. Разве это борьба? Если хочешь, давай обнимемся и поборемся. Что толку пыль поднимать...
— A-а, начальник, слаб ты, не можешь меня повалить,— широко улыбаясь, хвастался запыхавшийся юнец. По нему было видно, что он торжествовал и весь сиял от счастья.
— Чавэла — молодец: загонял инструктора,— раздались одобрительные голоса. Но кто-то из несовершеннолетних произнес:
— Инструктор свернул бы его в бараний рог, если бы он не удирал. Борец нашелся...
Я устало опустился на койку и посмотрел на соседа. Тот во время состязания явно болел за меня. Но теперь предостерег:
— Не боишься ты? Смотри: эти черти могут что угодно сотворить. Толпой налетят, еще и побьют.
— Волков бояться — в лес не ходить. А если кто всерьез полезет, сдачи сполна получит. Не лыком шиты, опыт кое-какой есть,— самонадеянно ответил я.
— Против толпы не устоишь: свалят с ног, а потом лежачего побьют.
— Оно, может, и так. Но в таком случае хоть одному ввалю так, что другим закажет. Буду отбиваться головой, руками, ногами бить, но не унижусь. Да, я чрезмерно самолюбив и эгоистичен. Не хочется быть в хвосте, в лидеры всегда тянуло. А такое тщеславие не всегда к добру приводит,— разоткровенничался я, не скрывая досады.
— Да, этой болезнью многие страдают. Но быть слюнтяем тоже нельзя. Заклюют. Много наглецов теперь развелось, и каждый хочет себе получше кусок урвать, а другому на голову сесть, подмять под себя. Тут надо и сдачи дать, и схитрить, и словчить.
— Вот то-то и оно. Хитрить-то как раз я не умею. Привык ходить прямо, как говорят, грудью на амбразуру. Свое мнение всем открыто высказывал. За это и получил. Но тюрьма уже многому меня научила. Здесь не схитришь, не словчишь — в дураках останешься. Здесь кто наглее и хитрее — тот и пан...
— Оно и на свободе — почти то же самое. Чтоб хитрить, большую голову надо иметь,— заключил Феликс.
— А я уже стал забывать, как там, на свободе. Такое ощущение, будто всю жизнь в тюрьме провел. А воспоминания о прошедшем порой кажутся сладким сном. Уже закрадывается сомнение, что эти кашмарные дни когда- нибудь кончатся...
— Да, мне тоже кажется, что я провел здесь долгие, бесконечные годы жизни и что выхода отсюда нет, и так будет продолжаться до конца дней моих.
— А сколько месяцев ты, Феликс, находишься под стражей?
— Пятый, но уже потерял ощущение времени. Все одно и то же изо дня в день: не человек, а робот. За тебя думают, все расписано по часам и минутам. Пожить так несколько лет — полнейшая деградация наступит. Ничего уже в жизни не надо будет: превратишься в бездумное животное, которое кормят, водят на прогулку, укладывают спать и поднимают. Человек не может долго находиться в таких условиях. Он непременно сойдет с ума, все зависит только от крепости психики: один — раньше, другой — позже...
— Быстрее всего срыв наступает у тех, кто находится в одиночных камерах, лишен возможности общаться. Я был около двух недель в одиночной камере, как только меня арестовали. Ощущение не из приятных, особенно если учесть, что руководитель прокурорской группы грозил продержать меня в одиночке не менее года...
— Мне, слава Богу, не доводилось. А за что тебя в одиночку запирали?
— Следователи попались неблагородных кровей: карьеристы и беззаконники...— раздраженно произнес я, взбудораженный нахлынувшими воспоминаниями.
— А за что тебя арестовали? — не отставал Феликс. Видно было, что он не верит моей версии, будто я сижу за спекуляцию.
— За спекуляцию, валютные операции,— в который уж раз солгал я.
— Так. Я тоже за спекуляцию,— вздохнул сосед.
— А какая часть?
— Вторая!
— Значит, с конфискацией имущества?
— Кто его знает? Суд решит. Вообще-то, думаю, что заменят на первую да и выпустят из-под стражи... Посуди сам, какая это спекуляция: продал по той же цене, что и купил. Но, как выяснилось, государственная цена оказалась ниже продажной, разница составила всего пару тысяч. Говорят, крупные размеры. Я не юрист, кто их разберет... Может, и крупные. Да только махинаций я никаких не делал.
— Мне трудно судить. Я тоже не ахти какой спец. Был бы Кодекс под руками, попробовали бы вместе разобраться, а так, извини,— уклончиво ответил я, хотя кое-что кумекал в тонкостях спекулятивной деятельности и в критериях ее квалификации. Но жизнь под стражей приучила меня, может быть, к излишней осторожности. Но любопытство возобладало:
— И что же, на большую сумму ты спекульнул?
— Я тебе уже говорил, что, когда ушел с командного поста, стал работать рядовым инженером с зарплатой в сто сорок рублей. Для семьи маловато. Решил подзаработать. Умею клеить обои, красить, сам делаю всю столярку, кладку. Подрядился ремонтировать квартиры. Делал все качественно, добротно — получался неплохой
приработок. Когда вошел в ритм, отладил вопросы с клиентурой, решил уволиться с инженерной должности и найти организацию, где свободного времени было бы побольше. Пошел работать в пожарную часть. Сутки дежуришь, двое свободный. Времени прибавилось. Квартиру стал ремонтировать за квартирой. Прибыльное это дело: иногда больше тысячи заколачивал. Но без добротных материалов хорошего клиента не заполучить. Требуются красивые обои, плитка облицовочная с рисунками, паркет, краски и т. д. Стал я искать материалы. Завел знакомства со стройбазами, магазинами, стал узнавать, что можно достать в других городах. Изъездил тысячи километров. Знал, где и когда будет дефицит и как можно его приобрести. Теперь у меня уже был солидный запас материалов. Потому и заказчиков хватало. Делал все на совесть. Высокопоставленные особы приглашали меня ремонтировать свои квартиры и особняки. Однажды в магазин стройматериалов привезли импортную облицовочную плитку. Мне один знакомый работник магазина шепнул, в какой день она будет продаваться. Этот день держали под большим секретом, так как высокое партийно-советское начальство претендовало на эту плитку. Заявку директору передали. А легально вывезти материал из магазина сложно: можно на скандал напороться. Так они своих жен, родных для видимости в очередь поставили. Попробуй потом докажи, что и как. Я приехал заранее и занял очередь в числе первых. Начали продавать, сверяют с подпольным списком, смотрят. Подходит моя очередь. В списке моей фамилии не значится, да и хотел купить я плитки не на одну ванну, а на несколько. Возник скандал: кто такой, почему много берет?.. А тут, как всегда в таких случаях, переодетая милиция дежурила. Меня — за руку, представились и говорят: пойдемте, поговорить надо. «В чем дело, моя очередь подошла, дайте плитку взять...» Они ни в какую — в машину, что за углом стояла, и давай выяснять: кто такой, откуда узнал, что дефицитный товар привезли. Не будешь же называть человека, который для меня хорошее дело сделал. Я им показал паспорт, рассказал, зачем плитка нужна. Отпустили, когда очередь уже, естественно, прошла и распродажа закончилась. Так и остался я с носом. А за мной, видно, слежку наладили. Вскоре достал я дефицитную плитку в другом месте. А потом она оказалась ненужной, да и места много в гараже занимала. Решил продать ее по такой же цене, что покупал. Подъехал к магазину, показал людям образцы, желающие сразу нашлись. Приехали, договорились, забрали. Через пару дней заявляются ко мне из ОБХСС и давай крутить: где взял, по какой цене продал. Нашли моих покупателей, те и сказали. Выше государственной цены почти в два раза. Я им свое: мол, сам по такой цене покупал, переплачивал. Называю, где и у кого. А их, вижу, это мало интересует: вот вам прейскурант. Получается, что спекулянт. Арестовали и посадили. Наука мне впредь: не суйся с суконным рылом в калашный ряд. Перешел боссам дорогу — и вот результат... Но, думаю, разберутся. Я же квартиры своими руками ремонтировал. Они этот мой заработок стали перепроверять, перелопачивать. К высокопоставленным не лезут: руки коротки, а только по рядовым клиентам катаются. Допрашивают их, выискивают, чтоб меня еще основательнее уличить. Но там все законно: оплата по договоренности, комар носа не подточит,— со вздохом закончил свой рассказ Феликс. Его, конечно, грызла обида на работников милиции, которые, по его понятию, незаконно предъявили обвинение. Переубеждать я не стал: у каждого свое...
— Однако много же материалов ты продал, если разница по сравнению с государственной ценой составила несколько тысяч.
— Ничуть не много. Плитка импортная, дорогая. Еще обои шведские — за рулон по десять рублей платил. Беспокоюсь, как бы машину не конфисковали. Как ты считаешь, дарственную могут конфисковать?
— Наверное, нет... Ну и везет же тебе: машину подарили. Пусть бы мне кто такой праздник устроил.
— Повезло. Даже сам не ожидал. Родственница по отцовской линии в 40-е годы уехала за границу. Тогда многие уезжали. Обосновалась в Штатах. Мы с ней уже и связь потеряли. Вначале письма шли, а потом перестали, мы место жительства поменяли. Написали как-то по старому адресу, но оттуда сообщение пришло, что такая уехала из штата. Прошли годы, родители мои умерли. И неожиданно получаю письмо. Пишет моя тетя из-за границы, что стара стала, хочет навестить близких и свою родину перед смертью. Списался с ней, приехал на вокзал, встретил, стала она у меня гостить. Рассказала, что живет одна: замуж больше так и не вышла, муж ее здесь в войну погиб, как будто на стороне оккупантов воевал. Лет под восемьдесят, а все хочет молодой, красивой быть. Удивлялся я: костюмов, платьев понавезла, наряды меняет. Кое-какие подарки нам привезла: не очень дорогие, по мелочам. У меня старый «Москвич» был. Просит она отвезти ее к старым знакомым. Отказывать неудобно, катаю, делаю довольный вид. Однажды она мне и говорит: «Машина у тебя старенькая, не современная, да и бензином воняет». Я ей в ответ: «Какая есть, не обессудьте. У нас автомобиль — роскошь...» Через несколько дней приносит бабуся квитанцию и подает мне: «Иди завтра в магазин и выбери себе новую машину, деньги я внесла». Смотрю и глазам своим не верю: чек на автомобиль «Волга». Опомнился, поблагодарил, но из вежливости стал отказываться. Мол, это очень дорогой подарок, самой деньги пригодятся. Она мне в ответ: «Бери, коль даю. Не кочевряжься. А мне немного надо. Дом у меня свой, двухэтажный, детей и родственников нет. Встретили вы меня хорошо, гостеприимно. И я к вам — всей душой...» Обменялись любезностями. Проведя бессонную ночь, утром чуть свет помчались с женой в магазин. Оттуда прибыли на новенькой «ГАЗ-24». Повезло здорово: никогда не ожидал такого подарка... Да вот боюсь, как бы не конфисковали...
Я посмотрел на озабоченное лицо собеседника, пытаясь определить: правду он говорит или обманывает? Может, и машину купил на свои прибыльные приработки? Кто знает.
— Не должны. Если подарок, то это легко установить. Ведь она куплена за валюту? Деньги прошли через баьк, следы остались. Когда это счастье к тебе привалило?
— Пять лет назад. Чек должен в банке, конечно, остаться. А если его уже уничтожили по истечению срока давности?
— Не горюй. Есть в магазине работники, что продавали. Вспомнят о таком случае. Соседи, родственники твои подтвердят. Не каждый день «Волги» дарят и покупают. Случай ведь не обыденный...
Я встал, чтобы немного размяться... Поднялся и собеседник. Вместе мы стали прогуливаться по камере. Благо, в ней было где развернуться.
Перед обедом Андриса увели из камеры. Молодой воспитатель выполнил свое обещание. В этот же день Феликс получил из дому передачу. Облегченно вздохнув после ухода Верзилы, он подозвал к себе очкарика и, усадив рядом с собой за стол, повел с ним назидательную беседу, убеждая прекратить безобразия, творимые им
и его сообщниками. Говорили они долго. Я не вмешивался. Несовершеннолетний держал себя вызывающе, раздраженно спорил с инструктором, доказывая, что он зрелая личность и наставники ему не нужны: сам знает, как себя вести. В конце беседы Феликс, видимо, отчаявшись переубедить упрямца, предупредил:
— Смотри, допрыгаешься! Не пожалею, что ты худой и костлявый: выведешь из себя — так тресну между глаз, что запомнишь надолго. Веди себя как все, иначе я за себя не ручаюсь. К тому же я тебя уже предупреждал, что, в случае чего, пойдешь в маломестную камеру, а там, сам знаешь, не мед. Понял меня?
— Чего ко мне пристал как смола? Каждый живет как хочет и как умеет. Мы тебя трогать не будем, ты только нас не трогай. Мировая между нами. А если начнешь притеснять — житья не дадим. В камере чисто, порядок, все блестит — ни соринки, ни пылинки. Я лично за этим смотрю. Надо что, скажи мне. Я своим орлам быстро наставление дам. Но ко мне не придирайся и не рой могилы. Я уже ученый-переученый...
Разговор закончился на повышенных тонах. Мне очень не понравился тон разговора очкарика и его слова. Придется с ним повоевать, чтобы поставить на место, либо убрать из камеры. Я обратил внимание на то, что в камере между несовершеннолетними обязанности были четко распределены: один убирал стол и мыл посуду, другой ежедневно вытирал утром и вечером пыль с окон и подоконников, коек, третий убирал туалет, двое подметали пол. Только пятерка (теперь уже четверка) ходила, следила, командовала. Этой группе все подчинялись.
К концу дня вместо ушедшего Верзилы в камеру вселили нового несовершеннолетнего. Он произвел на меня приятное впечатление. Юноша был красив собой: высокий, стройный, крепко сложенный, тонкие интеллигентные черты лица, проницательный взгляд выразительных глаз. Как только он появился, его обступили подростки. Новичок ростом оказался выше их всех и сверху с любопытством смотрел на них. Юношу подозвал к себе Феликс. Он достал свою тетрадь со списком жителей камеры. Истребовав необходимые данные, инструктор рассказал ему о распорядке дня, условиях содержания, взаимоотношениях в камере. Я отметил, что Феликс ничего не сказал новичку об утвердившемся здесь перво- стольничестве как инструменте возвеличения одних за счет унижения других. Юношу звали Янис. Арестовали
его за угон автомашины и мотоцикла «без признаков хищения». Это меня очень удивило и я спросил:
— Скажи, Янис, тебя арестовали только за угон автомашины? По-моему, это не такое тяжкое преступление, чтобы с первого раза несовершеннолетнего арестовывать.
— Меня бы не арестовали, но я уже имел судимость за участие в драке. В клубе как-то сорвали торжественный вечер по случаю одного юбилея. Была большая потасовка и нас, девять человек, отдали под суд. Всем тогда определили условную меру.
— И ты вывода не сделал? Захотелось в тюрьму? На вид посмотришь — приятный, симпатичный парень, а на- самом деле — дурак...
— Да, дури у меня еще много. Может, потому что в жизни везло. Семья обеспеченная, нужды не знал. Учился хорошо в школе с художественным уклоном: рисую неплохо. В обществе «Спартак» успешно занимался борьбой. Подрался случайно. Несколько человек напали на моего знакомого, я вступился, одному зубы выбил... Меня и осудили. Массовая драка, не разберешь, кто прав, кто виноват. Все друг на друга стали вину сваливать и сели на скамью подсудимых. Это меня сильно взбесило: характеристика хорошая, а получил наравне со всякой шпаной и бездельниками. После этого старался лучше учиться, в секцию ходил. Однажды в компании поспорили, смогу ли я управлять машиной. Ночью сели в чужую машину, я завел, покатались, бросили. Затем захотелось покататься на чужом мотоцикле. Баловство, шалость — так мне казалось. А это, оказывается, преступление. Вот и посадили. Теперь уж не знаю, что со мною будет. Кто мне поверит, что случайно все произошло, без умысла? Судимость в кармане: могут запросто на зону упечь. А так мечтал в художественное училище поступать, как десятый класс окончу... И все пропало. Как теперь быть — ума не приложу...
Глаза юноши наполнились слезами. Стараясь хоть как-то успокоить и приободрить его, я сказал:
— Не раскисай. У тебя все еще впереди. Мне бы твои годы. А суд разберется, много не дадут. Скоро дома будешь. Поверь моему опыту. Только веди себя хорошо на следствии и в суде, говори правду, раскаивайся в содеянном, заверяй, убеждай, что больше такого не повторится. Делай все, чтобы тебе поверили.
— Да я и не обманывал следователя. Он, кажется, сочувствует мне. Но, говорит, опасается, как бы я еще куда не влез. Вот и советует: лучше посиди и подумай...
В этот день обед у нас был еще сытнее обычного. Феликс получил передачу. В ней были копченая колбаса, яблоки, кусок окорока. Это оказалось для всех нас «царской» трапезой. Инструктор сразу стал делиться содержимым передачи со всеми по порядку. Но нетерпеливый цыган, не дождавшись своей очереди и приглашения, сам полез выбирать себе лучший кусок, на что Феликс недовольно заметил:
— Ты находишься не в цыганском таборе у костра. У нас принято просить разрешения, если хочешь взять чужое.
— Наглость — второе счастье,— ничуть не смутившись, ответил Чавэла.
— Да, наглость — ваш конек. Вы и живете тем, что обманываете и обираете доверчивых людей. Скажи, сколько ежедневно приносит денег твоя мать? Небось, с утра до ночи бродит по улицам, гадает, все дураков ищет.
— Не знаю. Мать меня маленьким бросила. Я с другой жил и с отцом.
— Ну, а другая сколько зарабатывала?
— Как когда. Когда «стольник», когда «кварт», когда «чирик», когда копейки. Если меньше червонца — отец дубасил ее. Помогало: в другой раз больше приносила. ...А я вообще работать не буду. Воровал с детства и буду воровать, пока не умру. И детей своих тому же научу. Доходное это дело. А спину пусть другие гнут. Наша доля цыганская — простор и размах во всем,— гордо заявил Чавэла и пропел веселым цыганским речитативом, постукивая себя ладонями по груди: «И петь будем, и гулять будем, а смерть придет — помирать будем».
— На зоне, если гулять и петь будешь, быстро тебя уму-разуму научат.
— А я и на зоне работать не буду, причину всегда найти можно,— ответил цыган, с наслаждением засовывая в рот жирный кусок копчености.
После сытного обеда захотелось полежать. Взяв кипу журналов, я с удовольствием растянулся на койке и стал их листать. Незаметно уснул. Но спал тревожно: снился родной дом, сад, озеро. Старушка мать, жена и дочь идут к озеру через огород. Весело о чем-то кричат, призывно машут руками, понимаю — зовут меня... Проснулся внезапно от непонятного шума. Протерев глаза, увидел шумное скопище подростков в углу возле туалета. И тут до меня дошло, что в камере совершается обряд традиционной здесь приемки и прописки новичка. Несовершеннолетние обступили Яниса со всех сторон и задавали ему глупые вопросы, которые не требовали разумных ответов. За неправильный ответ он получал удары то по шее, то по брюшному прессу, его заставляли пить воду до тошноты. Экзекуцию, конечно, производила неугомонная четверка.
Я проснулся, когда прописка подходила к концу. Крик, хохот, глухие удары. Несовершеннолетние обступили новичка, и мне его не было видно. Потом, когда подростки расступились, я увидел раскрасневшееся лицо юноши, мужественно переносившего пытку. Прописка была окончена, но Янис теперь был не в силах самостоятельно встать со скамейки: сидел привалившись к стене и усиленно растирал шею мокрым полотенцем. Вода стекала ему за шиворот, в рукава, под одежду, но он не замечал этого. Глаза его слезились. Я не знал, что предпринять. Экзекуция окончена. Медицинская помощь юноше не нужна. Сочувствие? Какое тут может быть сочувствие, если он добровольно согласился на такое глупое испытание? Он же был здоровее и сильнее любого из сокамерников, наносивших ему жестокие удары. Крепкий, спортивно сложенный, обученный приемам юноша молча, услужливо подставлял под удары то живот, то шею, а то большими дозами глотал сырую воду из-под крана...
Как бы я повел себя в его годы в такой ситуации? Скорее всего, дрался бы, а может быть, согласился. Ведь ситуация необычная: первое посещение тюрьмы. Незнание ее обычаев, законов вполне закономерно порождает страх, веру в их незыблемость. Сейчас, в зрелые годы я никому не подставляю так покорно и безропотно свою шею. Но как бы я поступил в юношеские годы, Бог весть...
«Надо вплотную заняться этой необузданной четверкой. Привлечь на свою сторону слабых и новичков и покончить с этими средневековыми традициями: приемками, прописками, столами»,— решил я. Но осуществить задуманное не пришлось.
На третий день «райского» житья в новой камере отворилась дверь. Вошел дежурный по корпусу с карточкой в руке и, назвав мою фамилию, приказал собираться с вещами...
...Двадцать месяцев провел я в следственных изолято- pax Минска, Витебска, Риги, Смоленска, Саратова, Нижнего Тагила и других городов бывшего Союза. Затем отбывал наказание в Нижнетагильском спецлагере, где содержатся осужденные работники правоохранения, партийные и советские высокопоставленные лица, номенклатура. Так что о жизни в тюрьмах и на зоне знаю не понаслышке, на своем здоровье испытал все «прелести» этих заведений. Подтверждение своим наблюдениям нашел и в тщательно маскируемой статистике. Так, например, в местах лишения свободы уровень заболеваемости туберкулезом в 17 раз выше, чем в нормальных условиях; 70 процентов всех туберкулезников — бывшие и нынешние заключенные. Корни таких страшных явлений, как наркомания, гомосексуализм и их производного — СПИДа, находятся за колючей проволокой и тюремными стенами.
Готовя эту книгу к печати, я, естественно, стал интересоваться, как же относятся к подобным мне — подследственным, обвиняемым или осужденным — в других государствах, что ожидает человека, если он попадает в места заключения. И к моему изумлению, я, юрист по образованию, впервые узнал, что существуют Минимальные стандартные правила ООН по обращению с заключенными. Их, кстати, подписал и бывший Советский Союз. Не стану перечислять пункты и параграфы этого документа, сошлюсь лишь на примеры Великобритании — страны самого консервативного уголовного законодательства.
Тюрьма Уондзуорт. Одна из самых старых и строгих в Англии. Расположена в центре Лондона, на берегу Темзы. Место выбрано не случайно: удобно адвокатам и судьям, а главное, родственникам. Они могут каждый (!!!) день встречаться с обвиняемым. Предоставление свидания — не прерогатива следователя, не плата за поведение, не милость правосудия, а способ сохранить социальные и родственные связи, не дать им ослабнуть, способ внушить подследственному: не забывай, ты остаешься частью общества. Если близкие не пришли на свидание, заключенный может позвонить им по телефону-автомату, купив кодированную карточку.
В камерах Уондзуорта постоянно бывают проповедники разных церквей — англиканской, католической, буддистской, исламской, индуистской. Служители основных вероисповеданий — в штате тюрьмы, остальных специально приглашают. Для справки: тюрьма Уондзуорт — это полторы тысячи убийц, вооруженных грабителей, насильников, многие в пожизненном заключении (после содержания в СИЗО и суда их по желанию оставляют на «привычном» месте).
Тюрьма Грендон, полтора часа езды от Лондона. Популярность среди заключенных — исключительная. Такой же интерес проявляют к ней и юристы всего мира. Это — тюрьма-коммуна, в которой объединены и работники «учреждения», и заключенные. Тридцатью-сорока камерами (крылом) управляет совместный комитет, состоящий из представителей обеих сторон, имеющих равные права. Предмет забот комитета — распорядок дня, ежедневное меню, досрочное освобождение, учебные занятия... Необходимо соблюдать четыре требования: не допускать насилия, не употреблять наркотики, не заниматься гомосексуализмом, не отлынивать от работы (подобранной по склонностям). Все вместе производят уборку, составляют одну спортивную команду. Различие в одном: у штатных работников на поясе ключи...
Шотландская тюрьма Барлинни в окрестностях Глазго. В пятиэтажном здании — девятьсот шестьдесят заключенных, так называемый «общак». Рядом — двухэтажная крепость, в которой постоянно находятся восемь узников и одиннадцать человек охраны (четыре офицера и семь караульных). У всех (!) заключенных — пожизненные сроки: убийцы, насильники, вооруженные грабители. Этот необычный замок напоминает наше рабочее общежитие: общая кухня, общая прачечная (стиральная машина, сушильная установка, гладильня). Рядом — меблированная комната с цветным телевизором, видеомагнитофоном, графиком дежурств. У осужденных отдельные камеры, с утра до вечера открытые. Один из заключенных, некто Билл (данные 1991 года), пишет пьесы, постановка одной из них осуществлена на сцене Эдинбурга. Премьера была приурочена к помолвке Билла, который вместе с невестой пригласил на торжество около сотни гостей.
Все три описанные выше тюрьмы — для особо опасных преступников. Но даже эти взявшие на свою душу грех люди могут требовать в суде, чтобы место их заключения находилось не далее двухсот-трехсот километров от дома. В противном случае правительство Ее Величество Елизавета I ства обязано оплатить родственникам проезд к месту заключения. Эти узаконенные свидания обходятся ежегодно английской казне в два миллиона фунтов стерлингов. И самый старый и, повторюсь, самый консервативный парламент в мире не видит в этом ничего предосудительного.
Вот еще одна картина с натуры, на этот раз из ФРГ. Невысокий, чисто символический забор, охраняющий скорее от любопытных взглядов («у нас все-таки не зоопарк»); миловидные молодые женщины с рациями вместо автоматов, которые не любят, чтобы их называли надзирателями — это слишком режет ухо. Великолепное футбольное поле, на котором проводятся встречи команд тюремной бундеслиги, три спортивных зала, бассейн — все это в распоряжении заключенных. В довершение всего небольшой супермаркет, где заключенные за свои заработанные на зоне марки могут купить любую одежду и самые разнообразные продукты, вплоть до бананов и киви.
Заключенные разбиты на три категории в зависимости от тяжести совершенных преступлений. Получившие небольшой срок имеют целый ряд льгот, например в воскресенье могут на день уехать домой к семье и вернуться только к вечерней перекличке, которая наряду с утренней является единственным обязательным мероприятием на зоне. В остальное время можешь заниматься чем хочешь: играть в футбол, накачивать мускулы на тренажере, слушать музыку. Запрещается, правда, пить спиртное, даже пиво. И правильно — гораздо полезней для здоровья будет сходить к пастору, тюремному священнику, поговорить с ним о спасении души.
Предупреждение преступлений обойдется обществу дешевле, чем их раскрытие, считают в Германии и стараются не жалеть средств на образование и воспитание подростков, снижая тем самым социальную напряженность в молодежной среде. Можно позавидовать здравомыслию, с которым немцы подходят к решению задач, над которыми у нас ломают копья.
Поверьте, я далек от того, чтобы идеализировать зарубежные системы правосудия и наказания: неволя — она везде неволя. Но мой горький опыт дает право утверждать: зловещая тень ГУЛАГа по-прежнему висит над нами. Беззаконие, издевательства, глумление над человеческой личностью до сих пор правят свой сатанинский бал. И мечутся в этом адском водовороте оступившиеся люди, превращаясь в безвольных и жестоких рабов.