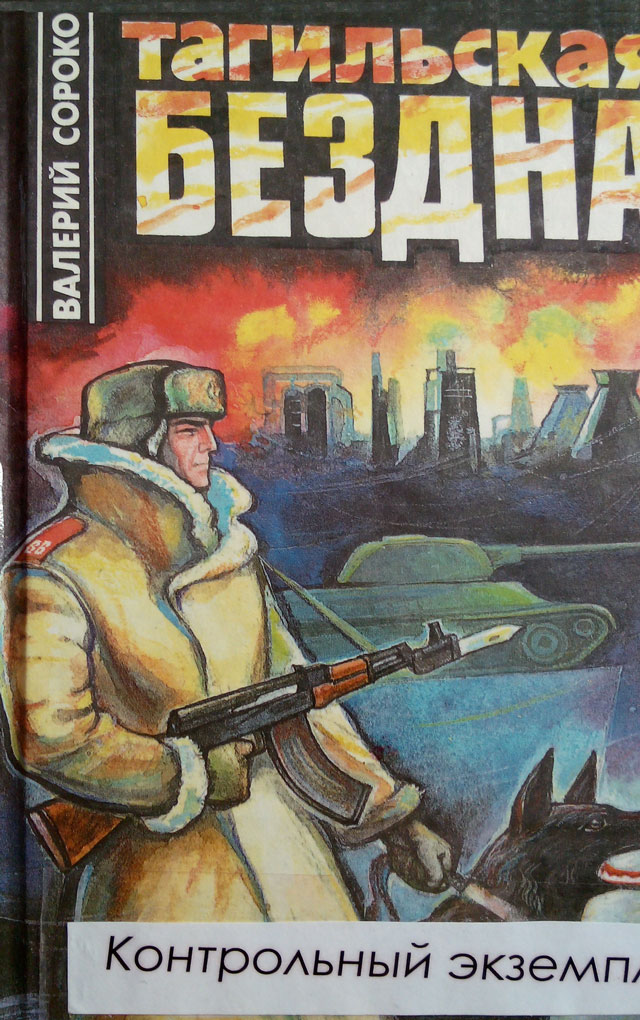документальная повесть. – Минск, 1994. – 352 с. : ил.
Автор продолжает беспристрастное повествование об условиях содержания в местах заключения осужденных. Эта повесть тем более ценна, что Валерий Сороко, бывший сотрудник Белорусской транспортной прокуратуры, сам прошел через изоляторы Минска, Риги, Воронежа, Саратова, Свердловска... Срок отбывал в Нижнем Тагиле, в колонии для бывших сотрудников правоохранениня. О начале скитания по зоне бесправия В. Сороко рассказал в повестях: "SOS: спасите наши души" и "Оставь надежду...", вышедших в 1993 году. В 1994 году свет увидела еще одна книга - "Бывшие сотрудники". Дебютировал В. Сороко остросюжетной повестью "Витебское дело", или двуликая Фемида".
БОЛЬНИЧКА ПО ИМЕНИ «НАДЕЖДА»
Копоть и дым Нижнего Тагила въелись мне в печенки. Наша серая колонна еще не успевала дойти до цеха, а меня уже выворачивало наизнанку: начиналась спазматическая тошнота, бил кашель, не оставляло ощущение, что желудок вот-вот вылезет наружу через носоглотку. Пересилив немочь, переступал порог литейки. Шум, грохот, вонь обрушивались на голову, на плечи, на человеческое естество. Казалось, секунда — и рухну под этим безжалостным напором, сдамся. Неподъемная тяжесть трехпудовых ящиков, непосильный темп, злые окрики — ия превращаюсь в ничто, в тряпку, в дерьмо, в дорожную пыль. По мне ходят, на меня плюют, мною вытирают милицейские сапоги.
Одна надежда — на судьбу, на счастливый случай, на... Черт знает, на что надеешься, но этим ожиданием несбыточного чуда только и живешь. И вот...
Позади остался еще один рабочий день. Как только отряд вышел за пределы промышленной зоны (промки), ко мне подошел друг-одессит и обрадовал:
— Ты едешь в больницу. Так что будь готов. Никому только не говори, что я тебе сказал.
— Спасибо. Это точно?
— Туфту не передаю.
— Как жизнь в больнице?
— Нормально. Кормежка, правда, не очень — мало дают, но зато чисто. Спокойно отдохнешь. А если будешь помогать писать жалобы, заявления, ставь условия. За «так» в тюрьме ничего не делается. Пусть «подогревают».
— Но там и рецидивисты, и мы, БС, вместе?
— Нормально, в больнице разборок нет. Смотри на этапе. Главное, чтобы не попал в общую камеру. Тогда помалкивай, кем раоотал. зэки традиции соолюдаюг: все разборки откладываются до выхода на зону. Не бойся, ты не пропадешь. А пока помоги Сане написать жалобу.
— Времени мало. Собраться в дорогу надо.
— Что там собираться? Возьмешь самое необходимое. Ты еще вернешься.
— Кто его знает? Мой протест в сентябре рассматривается. А вдруг повезет и выскочу за забор? Эх, как хочется отсюда вырваться!
— Всем хочется, но редко удается. Может, тебе и повезет... А пока все-таки зайди к Сане, он пригодится.
— Хорошо.
Тут же заглянул в каптерку завхоза:
— Сан Саныч, разреши?
— Что, на больничку?
— Еще не знаю...
— Едешь. Мне уже позвонили из спецчасти. Так мы с тобой и не собрались написать жалобу.
— Время есть. Обычно отправляют после вечерней поверки, а сейчас только пять.
— Сейчас свободен?
— Хотелось бы сложить вещички.
— Договорились. Забирай свой сидор, а после ужина сразу ко мне. Закроемся и посидим. Мне говорили, что ты большой специалист.
— Постараюсь. Что ты посоветуешь брать с собой?
— Возьми полотенце, мыло, нижнее белье...
— Конспекты, тетради?
— Бери. Времени у тебя будет достаточно.
Забрал из каптерки вещмешок и, оставив его на своей
койке, вышел из казармы на улицу. Мне пришло в голову найти Кома, земляка из Бобруйска. Как раз в это время его отряд должен был возвращаться с работы. За «лопатку» — шлагбаум проходной — заходить не разрешалось, но многие пренебрегали запретом. В случае опасности всегда можно успеть нырнуть обратно во двор и раствориться в массе одинаково одетых зэков.
Ком шел в центре колонны. Мы встретились взглядами. Отделившись от отряда, предварительно оглянувшись, он протянул руку:
— Что нового?
— Сегодня еду на больничку. Надо переговорить.
— Лады. Я сейчас предупрежу завхоза и вернусь. Никуда не уходи.
— Куда я пойду? Сам знаешь, какие у нас порядки. Сразу сдадут.
— Жди...
Он скоро вернулся и мы пошли в наш кубрик.
— Отрядника нет. Располагайся, обсудим ситуацию.
— Так ты точно едешь? — переспросил земляк.
— Завхоз меня предупредил. Я уже и вещмешок забрал.
— Что ты будешь делать со шмотками? С собой возьмешь?
— Нет. Оставлю здесь.
— Могут увести. Давай я заберу. У меня сохранятся.
— Конечно. Если не вернусь, тебе они пригодятся. Повезет — выйду на свободу, что смогу, сделаю для тебя. Помни наш разговор...
Николай вздохнул, потом медленно заговорил:
— Поверь. Я очень хочу, чтоб из больницы ты сюда не возвращался. У меня легче на душе тогда будет. И надежда появится, что ты меня отсюда вытянешь. Адрес мой у тебя записан. Сможешь, встретишься с моими... Не знаю только, стоит ли тебе связываться с женой? Она ведет себя как-то напоследовательно. Надежды на нее нет. А вот сестра — мой верный товарищ. Она не подведет. С ней поговоришь.
— Главное, вырваться из неволи. А там раскрутим дела...
— Если не сможешь уйти на волю после больницы, старайся получить освобождение от тяжелого труда. Как только привезешь ограничение, я возьму контролером.
— Как этого добиться? От меня ничего не зависит.
— Делай, как я учил. Куда врачи денутся? Только не переборщи...
— А вдруг все сорвется? Напишут в истории: «симулянт», тогда не видать условно-досрочного освобождения.
— Будь осмотрительным. Мужик ты неглупый... Ну что? Удачи тебе! Как говорят, ни пуха, ни пера...
— К черту!
На прощание крепко обнялись. Я провел Кома до «лопатки» и на прощание напомнил:
— Мой адрес у тебя тоже есть. Если выйду, черкну. Будем жить надеждой на лучшее.
— Хорошо жить, когда есть надежда! У меня же пока никакого просвета. Как медному котелку...
— На следующий год домой вернешься.
— Не тревожь сердце. Прощай!
— Счастливо!
Быстрым твердым шагом, немного сутулясь под моим мешком, удалялся земляк вдоль бесконечного забора. Я смотрел ему вслед, пока он не скрылся с глаз, и только тогда побрел в кубрик. По пути перехватил несколько пристальных взглядов.
«Тотальная слежка. Подслушивают, ловят каждое слово. Потом бегут к оперу, к отряднику и наперегонки доносят, кляузничают. Да, обмельчал нынче народ, тени боится».
Не обращая внимания на соглядатаев, пошел в спальное помещение. На только что освободившейся койке сидел Олейник и что-то писал. Оторвался от работы, заинтересованно спросил:
— Сегодня уезжаешь?
— Да.
— Повезло, отдохнешь от литейки.
— Повезло, да не очень. Был бы здоровый — тогда другое дело.
— Ничего, там подремонтируют...
С дальней койки поднялся еще один знакомый, Юрий, мой кредитор. Я пошел ему навстречу.
— За мной три пачки сигарет, верно?.. Надо было подогреть нужного человечка. Даже если не вернусь сюда, черкну земляку Кому. Он тебе отдаст.
— Лады. Верю. Пока не горит...
Олейник дождался, когда мы решим материальные проблемы, нерешительно попросил:
— Освободишься, свяжись с матерью и братом. Вдруг они помогут побыстрее вытянуть меня из зтой ямы.
— Хорошо. Давай адрес.
Записывай...
— Если появится возможность, сделаю все, чтобы ты вырвался.
— Неплохо бы. Я рассчитаюсь, деньги у меня есть. Не зря работал в ОБХСС, да еще отец оставил неплохое наследство.
— Не будем пока говорить об этом. Сначала дело, а потом расчет.
— Чтобы ты знал, что я состоятельный...
— Сначала мне самому надо отсюда выбраться.
— Да, все это не так просто. Некоторые протесты по году рассматриваются, и все безрезультатно.
Вспомнив, что меня ждет завхоз, собрался в каптерку. Но тут последовала команда строиться. В столовой, когда относил пустые бачки с посудой, увидел в окошке посудомойки нужного человека — Фарадея.
— Анатолий!
— Сейчас, подожди,— ответил тот, быстро ополаскивая миски.
— Нет времени, уезжаю на больничку,— я беспокойно смотрел в зал, который покидали последние осужденные.— Слушай, отряд уходит. У меня могут быть неприятности.
— Не бойся, обойдется...
— Некогда. Подойдешь в казарму.
— Хорошо.
Выбежал из столовой и втиснулся в строй. Мое опоздание не осталось незамеченным, послышался ропот:
— Опять его ждать надо!.. Совсем обнаглел.... Прокурору наплевать на кодляк.
Пришлось молчать. Отряд двинулся к казарме. Не успел зайти в спальню, как услышал свое имя. Обернувшись, увидел запыхавшегося Фарадея. Он, видно, только что снял резиновый фартук и, еще не остывший, потный, стоял у ограды:
— Надо отправить жалобу. Хочу, чтобы ты ее подправил.
— Одну я тебе писал, вторую ты сам сочинял. Зачем третья? Ты думаешь, важно количество?
— Почитаешь, увидишь. Очень важен, например, такой момент, как мои предположения...
— Никому не нужны твои предположения. Нужны доказательства и факты...
— Ты что, не хочешь со мной пойти?
— За «лопатку» выход запрещен. Увидят, сразу же сдадут.
— Не увидят, незаметно рванем. Я пойду впереди.
— Бесполезно. Все равно засекут. Видишь, кругом люди.
— Да плюнь ты на них. У тебя протест в кармане, в больничку едешь, а все боишься.
— У меня еще выговор в кармане, и я не хочу осложнений. К тому же еще один мужик просил написать жалобу.
— Пойдем ко мне, хоть на десять минут.
— Не могу. Если хочешь, оставайся у нас во дворе.
— Здесь чужих глаз много, а я не хочу, чтобы нас вместе видели.
— Понятно, с прокурором опасно, значит...
— Ладно, иди,— окончательно обиделся Фарадей и быстро пошел прочь.
— Подожди! — закричал я ему вслед.— Не обижайся, Толя, я приеду, посидим, обмозгуем...
— Спасибо.
«Вот так-то лучше. Столько помогали друг другу, а на прощанье рассориться — это незачем»,— подумал я и бегом помчался в спальное помещение, без стука вломился в каптерку, где за столом сидели завхоз и незнакомец.
— Я не помешал? — на всякий случай спросил я.
— Заходи, заходи. Я уже заждался. Давай сразу приступим к делу... Виталий, ты иди, а мы здесь посидим, по- гутарим,— обратился завхоз к товарищу. Тот без слов удалился. Закрыв за ним дверь на замок, завхоз достал из стола свой приговор. Быстро пробежав его глазами и уловив главное, я спросил:
— Выходит, у тебя три эпизода получения взяток? Давай пройдемся по каждому в отдельности. По ходу буду задавать уточняющие вопросы. В какие инстанции ты уже писал?
— Остались только Верховный суд и прокуратура СССР.
— Напишешь эту жалобу в оба адреса.
— Понятно.
— Так-с, первый эпизод. Ты в то время кем работал, что в трудовой книжке записано?
— Числился в колхозе заместителем председателя. Кроме того возглавлял комиссию по сохранности артельной собственности, был начальником опорного пункта профилактики правонарушений, начальником охраны, являлся внештатным сотрудником милиции.
— Должностей много, а за что получал зарплату?
— Как начальник охраны, но оклад заместителя председателя.
— Чушь какая-то.
— Судья тоже был такого же мнения.
— Но ты же не имел права рассматривать материалы о хищении. Это компетенция милиции.
— Правильно, но суд посчитал, что имел.
— Кто тебе попросил не направлять акт о хищении в милицию?
— Он же, ворюга. Его поймали с зерном и составили акт. Он с перепугу сбежал, сына ко мне прислал. Я и говорю: «Пусть отец сам придет». Связался с участковым, посоветовался. А когда пришел ворюга, сообщаю: «Материалы передал участковому». Тогда он мне деньги сунул. Я взял, думал, потом верну. Акты порвал. А во втором эпизоде оговорили меня. Будто бы работая в милиции еще шесть лет назад, остановил машину и стал составлять протокол на шофера об управлении транспортом в нетрезвом состоянии. И тот дал мне взятку, чтобы уничтожить протокол.
— Шофер местный?
— Нет. Он приезжал в колхоз по договоренности и ночевал у своей любовницы.
— Она подтверждает дачу взятки?
— Да. Из-за нее-то все и началось. Перешел ей раньше дорогу. Она и написала в милицию заявление, а сожителя подбила подтвердить.
— А за что она на тебя имела зуб?
— Привлекал за самогоноварение. Вот и пригрозила отомстить.
— Есть свидетели?
— Есть.
— Ты слышал о постановлении Президиума Верховного суда СССР о взяточничестве?
— Нет.
— У нас в отряде у одного паренька есть подшивка. Там очень интересно трактуется определение должностного лица. Взяткополучателем может быть только то должностное лицо, которое в силу своих служебных полномочий решает вопросы, интересующие взяткодателя. Получение денег за услуги, которые не в компетенции должностного лица, квалифицируется как мошенничество, вымогательство и т. п. Ты — не судья и не мог рассматривать дело о хищении. Другое дело, что не сообщил о факте передачи денег. В общем, в твоих действиях усматривается мошенничество. А санкция за мошенничество в два раза меньше, чем за взятку.
— Но суд квалифицировал мои действия как взятку. Определили, что я имел умысел на получение взятки.
— Здесь умысел не является квалификационным признаком. Хотя проситель, дающий деньги, осознает этс как дачу взятки. К сожалению, у нас нередко наблюдается очень обширное толкование того или иного нормативного акта. И каждый применяет его по-своему. Сходи, разыщи подшивку.
Вскоре завхоз вернулся. Отыскав нужное решение пленума Верховного суда СССР, я стал диктовать текст жалобы. Сочиняли мы бумагу около двух часов, но до конца дойти не успели. Раздался телефонный звонок — завхоза пригласили в нарядческую на инструктаж. Но то, что успели сделать, просителю очень понравилось.
После вечерней проверки я с сумкой отправился к дежурному по колонии. У «лопатки» оглянулся, загадывая навсегда расстаться с этим местом, и натолкнулся на множество настороженных глаз: в одних отражалось удивление, в других — любопытство, в третьих — злость, в четвертых — насмешка...
Меня и еще четырех арестантов отвели в ШИЗО. Здесь каждого тщательно обыскали. Распоряжался пожилой щуплый прапорщик. Все называли его Яшкой. Он проявлял необычное усердие. Мой спутник не выдержал:
— Что ты, Яшка, так тщательно нас шмонаешь? Сам знаешь, что ничего нет. Обеднели совсем.
— Я не первый год здесь. Всегда хоть что-нибудь да нахожу.
— Тут тебе не обломится. Не впервые на этап идем.
Прапор даже попробовал разобрать электробритвы,
но отвертка не подошла к отверстию крепления. Огорченно повертев в руках потенциальные тайники, вернул их владельцам.
Камера оказалась той же, в которой я провел первую ночь в колонии. В ней ничего не изменилось, остались даже тараканы, что без страха бегали по стенам, доскам, санузлу, полу. От нечего делать принялся наблюдать за ними. Вот один остановился у дырочки на стене, пошевели;! усами, к нему подбежал другой, они о чем-то посовещались и быстро разбежались по углам. Но долго оставаться неподвижными не позволяла натура, и они побежали по бело-грязной стене вниз к унитазу. Помыв лапки и попив воды, они спустились на пол, очевидно, в поисках еды; водой сыт не будешь. И тут им повезло — один наткнулся на корку хлеба, к нему подбежал другой. Они успокоились и долго сидели рядом, шевеля усами. Насытившись, юркнули по разным углам.
Сморенный усталостью, я незаметно уснул. Среди ночи вдруг заскрежетали засовы: поступила команда выходить на этап. Сонные, волоча сидоры, шлепали мы по коридору вслед за работником изолятора. У проходной помощник дежурного произвел перекличку, и мы поступили в распоряжение караула. На станцию привезли в спецмашине. После выгрузки снова построение, пересчет, сиденье на корточках под охраной злобных овчарок и молчаливых солдат с автоматами наизготовку в ожидании нашего знаменитого «графа Столыпина». Мы изрядно озябли, когда, наконец, подошел поезд. Погрузка. И вот вагон уже скрипит, подпрыгивает, словно от кого-то убегает. Неурочный подъем вскоре сказался — многие улеглись на нары и сразу уснули. Лишь самые впечатлительные глядели сквозь решетки на заоконную свободу. Занималось утро. Вначале в смутных, размазанных силуэтах лишь угадывались пробегавшие мимо деревья, но чем дольше они бежали навстречу нам, тем очертания их становились яснее, четче. Туманную дымку пронизывали первые солнечные лучи.
Эту идиллию прервал обыск. Сержант и двое солдатиков вошли в купе-камеру неожиданно. Нам приказали стать лицом к стенкам. Пересчитали, простучали молотком обшивку, заглянули под нары, обследовали потолок и все щели. Убедившись, что запрещенного нет, и не обнаружив приготовления к побегу, караул вышел. Сержант закрыл дверь на замок, дернув его для убедительности несколько раз. В Свердловск поезд прибыл, когда солнце уже съело туман. Но воздух еще был прохладным и влажным.
На станции всех, кто следовал в больницу, отделили, погрузили в автозак. И вот знакомый уже мне забор, опоясывающий административное здание темной траурной лентой. Вывеска на фронтоне здания: «МВД СССР. ИПТУ Свердловского облисполкома. УЖ 349/2». Кто-то из спутников громко процитировал: «Оставь надежду всяк, сюда входящий...»
Майор внутренней службы повел в колонию. Автоматически читаю надписи на производственных корпусах «Цех № 1», «РМЦ» и т. д. Перед побеленным двухэтажным зданием с зарешеченными окнами остановились — это больница. Майор нажал кнопку, вмонтированную в косяк двери, и широкие железные ворота со скрежетом раздвинулись. Через узкий коридор прошли в терапевтическое отделение; именно здесь оборудованы этапные камеры. Узкие скамейки в них служат и лежанкой, и сиденьем. Правда, долго сидеть не пришлось: начали по одному вызывать и уводить. Когда дошла очередь до меня, я, забрав пожитки, спустился вслед за прапорщиком в подвал. Там хмурый заключенный из хозобслуги принимал личные вещи и выдавал халаты. Прапорщик внимательно осмотрел скарб, разрешив взять с собой лишь туалетные принадлежности и домашние тапочки. Затем подъем на второй этаж. В моей палате уже находились трое зэков, а всего я насчитал четырнадцать коек. Проходы между ними были такими узкими, что трудно разминуться. Два раскрытых окна с металлическими решетками, батареи под окнами. Высокие пололки, линолеумный пол. Освещение — лампа дневного света под потолком. Двери закрываются на засов из коридора. Выбрав себе койку в углу, из которого хорошо просматривалась вся палата и входная дверь, спросил:
— Мужики, а когда выдадут белье?
— В конце коридора есть бельевая. Там у очкарика получишь кальсоны и рубашку.
Вместе с таким же этапником пошли получать нательное белье. Но костеляна на месте не оказалось. Не дождавшись его, вернулись в палату.
— Нет на месте.
— Ясное дело. Здесь у нас мать-анархия.
— А что, хозобслуга из заключенных?
— Да. Завхоз ништяк парень, а санитары... Мы с ними постоянно воюем. Обнаглели, будто не такие же зэки, как мы. Большинство — штатные доносчики...
Обмундирование получил к обеду, и меня вызвали к лечащему врачу. Женщина лет сорока с умными, добрыми глазами, приятным восточного типа лицом, внимательно прочитала медицинскую карточку, спросила:
— Вы раньше почки лечили?
— Да, четыре года назад стационарно. Диагноз — острый пиелонефрит. Лежал долго. Помогло внутривенное введение цепарина. Подлечился.
— Какие симптомы?
— Высокая, а к вечеру очень высокая температура и боли в поясничной области.
Урограмму делали?
— Да. Делали еще цистохромоскопию — вводили в вену какой-то наркотик и контрастное вещество.
— У нас здесь необходимой аппаратуры нет. Вы, видимо, лечились в спецбольнице?
— В республиканской железнодорожной...
— Мне трудно определить степень вашего заболевания. Для исследования функционирования почек нужен специальный состав. Но его не достать. На свободе, я слышала, покупают ампулы с рук по двадцать пять — тридцать рублей. Вам нужны четыре ампулы. Поэтому будем лечить тем, что у нас имеется. Не обессудьте.
— Я понимаю: это же больница для заключенных. Рассчитывать на действенное лечение здесь не приходится.
— Вы не правы. Я врач и руководствуюсь врачебной этикой — лечу больного, а не заключенного. И в обеспеченности медикаментами наша больница не уступает многим гражданским. Но дефицитных импортных лекарств нет во всем Союзе. Нужна валюта, а где она?..
— Насколько я знаю по опыту, больные-заключенные испытывают дефицит милосердия. Может, такое слово здесь вообще забыли?
— Зачем же вы так? У нас нет палат для выгодных и невыгодных больных, для должностных особ и обыкновенных работяг. Здесь все равны. Я отвечаю за состояние здоровья каждого из вас, лечу имеющимися у меня средствами.
— А человеческими?
— И человеческими. Мне жаль вас всех. Я здесь давно и убедилась, какие мужественные люди поступают к нам. У некоторых открытые, прободные язвы, а они работали на производстве до тех пор, пока не падали. А уж терпению можно только позавидовать — любую боль выносят, даже не поморщившись.
— Вы правы. Жалуемся, умоляем обследовать, облегчить страдания, а начальство колонии и сотрудники медчасти смеются, не верят нам. Вот я, например, месяц ходил, неоднократно сдавал анализы, а мне не верили, даже издевательски советовали: «Потаскаешь тяжести, все болезни пройдут...»
— Кощунство! Я слышала об этом... Пу, что ж, приступим к осмотру. Снимите халат...
Ощупывала, выстукивала, выслушивала меня, потом заключила:
— Общее состояние организма удовлетворительное. Имеются функциональные отклонения в деятельности желудка и почек, чуть увеличена печень. Сердце в порядке. Сдадите желудочный и желчный соки, мочу, кровь и по результатам повторного исследования, а также рентгеноскопии, фиброгастроскопии окончательно установим диагноз и назначим лечение.
— Как насчет диеты?
— У нас вся еда считается диетической, но пятый стол мы даем только язвенникам. Пока у вас язвы не нахожу.
Вернулся в палату немного успокоенным. Соседи подтвердили, что врач добрый, чуткий человек, в общем — исключение из тюремных правил. Собрался было прилечь, но санитар объявил, что пора на обед.
— Так рано? А который час?
— По московскому — девять, а по местному — одиннадцать часов.
— И что, уже идти на обед?
Здесь такой распорядок.
— А ужин когда?
— В семнадцать ноль-ноль по местному времени.
— Кормят как?
— Паршиво. Жаловались начальнику отделения на повара. Да что толку?
— Вы, новички, спросите вначале у баландера, дадут ли вам поесть. Может, еще не поставили на довольствие.
Столовая занимала небольшую комнату, в которой стояли три длинных стола и табуретки. У раздаточного окошка было многолюдно. Баландер сразу же предупредил:
— Новички получают в последнюю очередь. Что останется.
На первое дали уху, на второе — черпак каши с куриным рагу. Но как только я попробовал так называемое рагу, зубы наткнулись на дробленые кости. Мяса я так и не обнаружил...
— Действительно, дают не густо.
— Раньше еще хуже было. Жалобы заставили кухню крутиться.
— Придется прижать баландеров. Явно крадут.
— Бесполезно. Полезешь в бутылку, выпишут досрочно.
— Чего их бояться? Они такие же, как и мы.
— Да, но знают все ходы и выходы. Устроились по блату. А может, и за деньги. Это место теплое; и с администрацией они заодно.
— Полежим, посмотрим...
Бывшие сотрудники правоохранительных органов содержались в отдельных палатах. В нашей вместе со мной было пять человек. Девять коек пустовали. Как объяснили аборигены, долго здесь не задерживаются: курс лечения кратковременный, хотя все стараются под любым предлогом остаться здесь подольше, нередко придумывая мнимые болезни.
У входа койку занимал мужик лет сорока, к которому все обращались по фамилии — Дудинский. С противоположной стороны лежал Сергей, у окна Нурали, плотный лезгин средних лет. Старожилы не ссорились, но и не интересовались жизнью друг друга. Каждый был, как говорится, при своих интересах. Дудинский целыми днями писал жалобы. Сергей в свободное от процедур время исчезал куда-то и приносил нам новости больничной, а порой вольной жизни. Нурали сутками спал. Наше с Николаем появление внесло свежую струю. Я с интересом слушал рассказы соседей, не таился и сам. Иногда у нас возникали жаркие споры. Отбой объявляли в 22 часа и тут же выключали свет. Но от безделья спать не хотелось и разговоры продолжались, правда, вполголоса. Самой заметной личностью в нашей палате я считал Дудинского. Как-то он разоткровенничался:
— Работал участковым инспектором в одном из райотделов Киева. Имею высшее юридическое образование. Начальство часто подключало к расследованию уголовных дел, хотя меня вполне устраивала должность участкового. От следствия я старался любыми путями открутиться, но, к сожалению, не всегда удавалось. На следствии я и погорел. Пришили мне, что невиновного посадил в тюрьму. Материалы уголовного дела сфальсифицировали. А во всем замешана прокуратура. Был бы динамит, без раздумий взорвал бы ее.
— Какую прокуратуру?
— Свою, районную. Или областную. Правда, все идет сверху, из прокуратуры СССР. Сколько я жалоб написал, а они пересылают назад тем, на кого жалуюсь.
— Здорово тебе насолила прокуратура...
— Это точно. Впрочем, и я ей. Всегда воевал с начальством, был неудобным для прокурора, вот меня сюда и запрятали. А сделали все очень просто. Поручили собрать первичный материал для возбуждения уголовного дела на женщину-торговку. Ее заподозрили в присвоении выручки. Многие мужики из райотдела ее знали, стали просить меня, чтобы спустил дело на тормозах. Я ни в какую. Тогда она сама подкатилась ко мне. Объяснил, что поздно: заведена карточка, дело закрыть нельзя. Но она в меня впилась, словно клещ. А я в это время с женой развелся, подгуливал немного. Торговка эта баба что надо: красивая, одинокая. Сначала держался стойко. Но однажды она позвонила мне на работу и предлагает: «Давайте встретимся. Я буду ждать на остановке трамвая». И тут черт меня попутал. Не устоял, согласился. Пришел на остановку, огляделся — вроде ничего подозрительного. Я и говорю: «Иди впереди, а я за тобой». Двинулись к ее дому, но раздельно. Соблюдаю дистанцию, чтобы только не потерять из вида. Краем глаза заметил, что за мной следуют двое. Один высокий, в костюме и при галстуке, а другой — плотный, в джинсах и цветной рубашке нараспашку. Но не придал этому значения. Успокоил себя: «Старик, у тебя развивается мания преследования». Подошли к дому. Она — впереди, я за ней. Предложила подняться в лифте — отказался. Тогда она стала совать мне в руки что-то завернутое в платок. Я толкнул ее и выскочил из подъезда. Был в милицейской форме, с капитанскими погонами. И тут на меня как раз те самые двое мужчин, которых я только что видел на улице, налетели и давай крутить руки. Я кричу: «В чем дело! Кто вы такие?» А они мне объявляют: работники КГБ и прокуратуры. Вокруг люди собрались. Возмущаются: почему напали на милиционера? Подкатила машина, открылась дверца, и они меня в нее затолкали. Сверток в платке запихнули в мой карман. Я пытался его выбросить, так они мне карман разорвали. Отвезли в прокуратуру, обыскали и тут же допросили. У меня было шоковое состояние, и когда подсунули протокол, подписал не читая. Лишь бы поскорей отвязались. А в том протоколе, оказывается, было написано, что я шел на встречу, чтобы получить взятку. Абсурд да и только!
— Платок в кармане обнаружили?
— Я просил назначить по нему экспертизу. Должны же на нем остаться отпечатки моих рук? Как, прокурор?
— Сомневаюсь, что на платке обнаружат отпечатки пальцев. Другое дело — наложение какое-либо: крошки карманные, ворсинки от соприкосновения с твоей одеждой. Изымали все это?
— Да. Но ничего не обнаружили.
— И какую сумму она передала?
— Около двух тысяч.
— Но как они узнали, что она хочет тебе сунуть деньги?
— Элементарно. Завербовали ее и мне подсунули.
— Провокация, ясно. Если работать такими методами, кого угодно зацепить можно.
— Но как докажешь? Она теперь утверждает, что я вымогал взятку. Написал уже сотни жалоб. Напишу еще столько же — мне не трудно. Буду бороться. Твари! А как они метелили меня в прокуратуре! Долго потом почки чувствовал...
— Ты такой крепкий, здоровый мужик, а тебя били? Трудно поверить...
— А я никого не прошу верить. Просто констатирую факт. Дал бы сдачи, пришили бы еще одну статью. Я кодекс хорошо знаю. От них всего можно ожидать.
— Понимаешь, в твоем рассказе есть неувязки.
— Какие, например...
— Почему ты пошел на встречу с ней? Непонятная встреча где-то в городе.
— Конечно, сделал большую глупость. Клюнул на ее смазливость.
— И дальше. Почему пошел с ней в подъезд? — наступал я.— Это же явно не в твою пользу.
— Сложно объяснить... Понимаешь, я думал, что она ведет к себе на квартиру. Она разведена, я тоже холостякую.
— Соскучился без ласки, ясно. А что за конфликт с прокуратурой?
— Выступал на всех собраниях, резал правду-матку. Критиковал начальство и защищал тех, кем оно было недовольно.
— Тебя осудили с конфискацией имущества?
— Да. Но ничего не забрали. Я жил у одной, скажем, дамы, личной собственности не имел...
— У меня такая же история — сел ни за что. Признал вину полностью. Думал, отделаюсь легким испугом. А оно вон как вышло, четыре года сунули,— завел разговор о своей беде Николай Волкогонов.— Работал в милиции, в конвойном взводе. Три года привозил и увозил преступников. И не мог подумать, что и самому придется посидеть на скамье подсудимых.
— За что отхватил? За превышение власти?
— Нет, за хулиганство. Уволился я из органов. Однажды вечером шел со знакомыми ребятами по улице, были навеселе. Навстречу три парня. Не поделили что-то, скандал, а потом драка. Один мне два зуба выбил и деру. Я за ним. Он заскочил в какой-то подвал. Мои товарищи повыбивали там окна, дверь, а все это приписали мне... Сунулись в подъезд, а там одна малолетка начала воспитывать,— мол, пьяница, как не стыдно. Толкнул ее, она об стенку и лицо поцарапала. За такое преступление другим дают самое большое — химию, а мне как бывшему милиционеру — четыре года. Судил тот самый суд, в котором я десятки раз бывал на процессах.
— Нашего брата давят. У меня превышение власти, неумышленное, а дали пять лет. Невиновен, а сижу.
Родитель жалуется, адвокат пишет, а справедливость нет,— горячо заговорил Нурали.
— Толкач нужен, без него ничего не сделаешь. Надо, чтобы кто-то там на свободе постоянно куда-то ходил, жаловался. А лучше, если кому-нибудь деньги предложить. Законность у нас соблюдается только на бумаге.
— Моя жена,— вернулся, видимо, к наболевшему Николай, такой же новый, как и я,— такая стерва оказалась. Я получил квартиру, вселились. Мои родители помогли купить обстановку. Когда судили, мать за адвоката заплатила. Попросила жену, чтобы она помогла мне, с адвокатом связь держала. А она палец о палец не ударила. Я ей этого не прощу.
— Откуда тебя в Тагил занесло?
— Родители в Латвии. А сам я работал милиционером в Москве. Жил в общежитии, а потом, перед самым увольнением, уже после убийства, мне выделили двухкомнатную квартиру.
— Как это? Знали, что совершил убийство и тебе квартиру?
— Что тут непонятного? Все в отделе, в том числе в управлении, понимали, что я застрелил человека правомерно, но доказать твердолобой прокуратуре ничего не смогли. И чтобы хоть как-то меня поддержать, сохранить семью, выделили квартиру.
— Как это случилось?
— Мы патрулировали в микрорайоне. Зашли в винно-водочный магазин. Вы же знаете, какой ажиотаж с водкой? Очередь — человек пятьдесят. Один нахал прется без очереди, его отталкивают, а он все равно лезет. Скандал, крик в магазине. Я и двое дружинников подошли к нему, начали урезонивать. А он на меня попер. Не сдержался я, ударил. Он здоровее, давай на меня жать, вижу, может избить. Дружинники в кусты. Выскочил я из магазина, решил, как не стыдно, дать деру. Он за мной. Я пробежал метров пятьдесят, поскользнулся. Обернулся, вижу, он метрах в двух от меня, а в руках нож. Я выхватил пистолет и выстрелил. Хотел по ногам, а дуло при падении приподнялось, и я снизу в живот ему попал, ранил. Тут подбежали люди. Потерпевший, оказывается, был в очереди не один, а с друзьями, родственниками. Они его окружили. Где делся его нож, неизвестно. Навалились на меня. Хорошо, что подоспела милицейская машина, а так мне бы не сдобровать. Прокуратура возбудила дело. Сначала признали мои действия правомерными, дело прекратили. Потом родственники стали жаловаться, вмешалась областная прокуратура, отменили постановление о прекращении и снова следствие. И меня сделали виновным. Я не ожидал, а тут — обвинение и в суд. Сопротивлялся, доказывал, а мне шесть лет.
— В кассационном порядке рассматривали жалобу?
— Рассматривали. Что толку? Заместитель областного прокурора с родственниками потерпевшего, говорят, какую-то связь имел. А областной суд не захотел ссориться с прокуратурой. Не хочу даже жалобы писать — бесполезно. Нет веры, что разберутся по-справедли- вости.
— Все равно доказывать свою невиновность надо.
— Доказывать можно на свободе, а что ты будешь доказывать в тюрьме? Кто нашим жалобам верит?
— Не только жалобам, но и нам самим.
— Нет, законность у нас на уровне анархии.
— Почти как в сталинское время. Тогда судьбы людские решали «тройки», «двойки». А кто сейчас? Следователь. Его мнение, как правило, прокурор и утверждает. Либо сам лично, либо его помощники поддерживают государственное обвинение в суде и навязывают свое мнение председательствующему.
— Есть адвокат, два народных заседателя,— попытался я возразить. Но Дудинский горячо запротестовал:
— Адвокаты — пустое место. Они боятся рот раскрыть. Если защитник пойдет против прокурора, суда, ему быстро прикроют кормушку. Начнут клиентам сроки накидывать, так сами заказчики откажутся от его услуг. А если он с прокуратурой и судом в ладах, смотришь, кому-нибудь и меньше дадут. Потом слух пойдет, что адвокат помог. Хотя от него же пользы, как от козла молока. Что до народных заседателей, то я их назвал бы «кивалами». Они только и умеют в знак согласия с прокурором и председательствующим кивать головами. Нет у них ни нужного образования, ни специальной подготовки. Разве колхозница или рабочий смогут дать правильную оценку действий подсудимого? Смешно, не правда ли? Верховенство закона при рассмотрении дел в суде, как впрочем при всех разбирательствах, не более, чем показуха, обман людей. Придумали какое-то «мнение народа».
— Мнение — еще не знание. Люди в массе не могут во всех законах разбираться, знать их. А наши современные демократы предлагают утверждать новые законы путем всенародного обсуждения,— заметил я.
— Бутафория. В конце тридцатых годов оболваненный народ требовал уничтожить «врагов народа». Проходили собрания, митинги, резолюции принимались. А ныне оказалось, что расстреливали не врагов народа, а честнейших, лучших людей. Так и сейчас: что и как народу преподнесут, за то и станет голосовать. Впрочем, вряд ли: одни будут требовать для взяткополучателей высшей меры наказания, другие — минимального срока, кто за усиление карательных мер, кто за смягчение. Я уже не говорю о жилье, пенсионном обеспечении, заработной плате. Разброс мнений здесь громадный. Отсюда следует, что принимаемые законы выражают интересы и волю не всего народа, а верхушки, стоящей у власти,— убеждал Дудинский и с ним трудно было спорить. Хотя и тут нашлись возражения:
— Но Ленин учил, что в законе надо учитывать не только волю большинства, но и интересы меньшинства...
— Ты знаешь, как это сделать?
— Об этом думают психологи, социологи, экономисты, юристы, философы... Небось, опять предложат провести референдум.
— Какой еще референдум? Что могут сказать здесь тетя Маня, дворник Иван или рабочий Петров? Каждый из нас начнет отстаивать свои узкие интересы: тетя Маня, пенсионерка, будет говорить об увеличении пенсии; доярка потребует, чтобы меньше наказывали за хищение кормов; дворник Иван станет жаловаться на малую зарплату, на нехватку продуктов, на суровость наказания за употребление алкоголя в рабочее время. Рабочий Петров будет выступать против снижения расценок.
— Но референдум проводится, чтобы учесть интересы как можно большего количества граждан.
— Сейчас стали модными так называемые всенародные обсуждения. Но кто учитывает мнение этих миллионов, кто обрабатывает поступающие предложения? Опять те же, кто стоит у власти, кто готовил проект, кто будет предлагать закон на утверждение! Поле для манипуляций огромное.
...Распорядок дня в больнице был уплотненным до предела. Утро начиналось с поверки. В начале седьмого в палату заходил завхоз со списком и проводил перекличку. Несколько минут спустя шли на завтрак. Еще не прожевав еду, получали лекарства или отправлялись на лечебные процедуры- Незаметно подходило время обеда. После него снова лекарства, уколы. Через час-два объявлялась прогулка. Через железные ворота с сигнализацией попадали на площадку, со всех сторон окруженную стенами больничного корпуса. Прохаживаться между цветочными клумбами можно было около часа. Затем поднимались в отделение и расходились по палатам. Начинался врачебный обход. К концу дня — вечерняя доза лекарств, процедуры. И наступало самое лучшее время. Слушали радиопередачи, читали газеты, которые получали, правда, от случая к случаю. Вели бесконечные разговоры о житье-бытье, но больше всего о болезнях, действительных и мнимых. Кто надеялся на избавление от них или хотя бы облегчение страданий, другие репетировали как обмануть врача, чтобы продлить свое пребывание в больнице.
В нашей палате № 11 основной темой вечернего трепа была выработка тактики, которая помогла бы остаться в больнице хотя бы еще на неделю. Были разработаны специальные приемы. Увидев врача в коридоре, начинали интенсивную физзарядку: многократно отжимались от пола. Сергею поручалось стоять у двери и следить за продвижением врача из палаты в палату. Но он и сам не прочь был «закосить». Вот и спрашивал всех с беспокойством:
— Мужики! Подскажите же, на что сегодня жаловаться?
— Говори, что болит живот.
— В каком месте?
— На три пальца ниже ложечки.
— Не получится. Я уже несколько раз сдавал желудочный сок, глотал гофрированную трубку... Глотка болела потом целую неделю. Еврей, который заталкивал и вытаскивал у меня этот пожарный шланг, порвал все голосовые связки. Нет, надо что-нибудь другое...
— Почки...
— Проверяли. Моча хорошая.
— Температура?
— Бессмысленно! Я каждый вечер нагоняю. В процедурной повторно измерят — и картина ясная. Неудобно уже.
— Ты пробовал втягивать внутренности, не дыша и поджав под себя ноги?
— Пока нет... Зачем?
— Давление повысится.
— Попробую. А если не получится?
— Просись в неврологическое отделение.
— Психиатр сказал, что с головой все в порядке.
— Остается кожно-венерологическое. Болеешь мужскими болезнями?
— Какими?
— Гонореей, сифилисом?
— Кое-что было. Но от сифилиса и СПИДа пока Бог миловал.
— Не огорчайся, у тебя все впереди. Сейчас заразы всюду много. Все найдешь, если поищешь.
— Вообще-то, это идея! Буду проситься, чтобы проверили мои половые органы. Пусть переводят в кожно-венерологическое.
— Идет! Идет! Атас! По кроватям.
В палату вошла, приветливо улыбаясь, терапевт:
— Как поживают мои больные?
— Соскучились без вас, Ирина Васильевна. Почаще бы к нам заходили! С вашим появлением становится светлее в палате, веселее на душе.
— Я бы с удовольствием, но вы у меня не одни. И домой успевать надо вовремя: дети маленькие без присмотра. Скоро забудут о маме.
— Сколько их у вас, если не секрет?
— Двое мужчин. Беспокоюсь, когда они остаются одни. Как бы чего не натворили...
— Главное, чтобы в тюрьму не попали.
— Сплюньте три раза... Не дай Бог мучиться так, как вы.
— У такой женщины и дети должны быть добрыми. Есть с кого брать пример.
— Давайте не будем терять времени. С кого начнем осмотр?
— Давайте с меня,— предложил Нурали. Врач присела на краешек его койки.
— Где больно?
— Здесь.
— Я нажимаю: болит или нет?
— Нет.
— А здесь?
— Больно.
— Здесь?
— Ой!
— Пришли сюда, не жаловались, а сейчас заявляете, что болит живот?
— Спать две ночи не мог, честное слово! Урчит все время...
— Теперь не разговаривайте. Я послушаю...
— Сердце тоже плохо работает.
— Пора на пенсию,— советует сосед по палате.
— Вздулся живот, аж сердце побаливает. Может, почки?..
— Анализы хорошие.
— Честное слово, я не обманываю. Весь потею. Зубами скриплю.
— Надо его к сестре на ночь отправлять, тогда в палате тихо будет,— подсказывали соседи.
— Потерял сон, такое чувство, что меня вот-вот запустят в космос.
— Это вы собираетесь на этап, поэтому такое и самочувствие. Может, дерматолога пригласить: у вас покраснение на коже?
— Пригласите!
Пока врач слушала Нурали, Дудинский с соседом по койке за ее спиной бесшумно делали частые приседания, чтобы усилить сердцебиение и поднять давление. Работали оба, как заправские гимнасты. Лежа в углу, я изо всех сил сдерживался, чтобы не засмеяться. Но все-таки не выдержал, несколько раз фыркнул.
— Что у вас? — пришла очередь следующего.
— Вчера вечером была температура 37,3.
— Что же вас беспокоит? В области живота не болит?
— Уже лучше.
— Обзорный снимок не делали?
— Нет.
— Хорошо^ я назначу. А пока измерим давление... Так, оно у вас сейчас стабильное — 130/80.
— Видите, доктор, я спокоен, и давление в норме. А попаду вновь на промку...
— Конечно, стрессовые ситуации никому пользы не приносят...
Подошла к новой кровати.
— Как у вас со стулом?
— Сейчас все в порядке.
— Здесь больно?..
— Нет.
— А здесь?
— Больно. Вверху.
Врач щупает живот.
— Сейчас буду вдавливать руку, а вы постарайтесь ее не выталкивать.
— Как будто пульсирует кровь.
— Правильно, сокращение кишечника...
Обход продолжается.
— Что у вас?..
— Спасибо, мне гораздо легче.
— Анализы у вас неплохие.
— Вчера была температура.
— Это что-то нереальное.
— Может, у меня грудная жаба?
— Да нет же, наверное, появилась новенькая медсестра и у вас повысилась температура?
— Вообще-то я неравнодушен к женщинам. Вы правы.
— Какое лекарство принимали?
— Маленькие желтые таблетки.
— Это но-шпа. Она на температуру не влияет. Аспирин вам давали?
— Да.
— Хорошо... Давление измеряли?
— Измеряли. 135 на 80. Но что-то сердце барахлит. Послушайте...
— Зачем?
— Может перестать биться, послушайте!
— 87 ударов.
— Это много?
— Нет, нормально...
— Мне бы операцию мениска.
— Ну, у вас все в норме: бегаете, прыгаете.
— Что вы, я хромаю!
— Ладно: покажу вас хирургу. Пусть он даст заключение. Повторную операцию я не советую.
— Видите: одно колено толще другого.
— Не вижу...
— Внимательнее посмотрите.
— Да нет ничего у вас!
— Я плохо спал.
— Почему?
— Боли мучали.
— Да?
— Да. Не верите?
— Доктор, а доктор!
— Что?
— Сегодня сорвалось зондирование.
— ???
— Пришел, заглотил нормально зонд. Ждал, ждал, никто не подходит, й мне плохо — тошнит. Не выдержал я, вырвал трубку и ушел.
— Зря. Я так ждала результата. Туда ведь очередь...
— Доктор, температура держится, сохнет во рту. Как после хорошего перепоя...
— Вы что, еще помните вкус и состояние после спиртного?
— Не забывается...
— В чем дело, подскажите: когда я хожу на свидание, там во время еды меня начинает тошнить. Где-то через полчаса после свидания все проходит. Два-три часа — и нормально.
— Волнуетесь, вот и поднимается давление. Голова болит?
— Вроде нормально все...
— Жалобы еще есть? Давление измеряли?
— Да. Нормальное.
— Давайте посмотрю живот. Дышите... Здесь больно?
— Чуть-чуть.
Врач щупает, слушает, выстукивает больного. Затем записывает в блокнот свои соображения, объясняет их больному. И так от одной койки к другой...
— Что у вас? Эту ночь спали хорошо?
— Живот болит. А как пришел с обеда, заболела печень.
— Через какое время?
— Вот пришел с обеда и заболела.
— Через полчаса, час, два?
— Где-то через час. Ходил на зондирование, сок не пошел. И магнезию глотал, долго сидел с трубкой — безрезультатно.
— Странно. Курс лечения прошли. Уже на выписку пора...
— Ночами сны кошмарные снятся. Зубами скриплю.
— Смотрите, чтобы зубы не сломали.
— Я не шучу. Действительно, кошмары снятся. Горчичники ставил, сердце перестало болеть. А раньше болело.
— Сердце у вас в норме. Давление тоже, как у космонавта...
— Вас могу обрадовать: кардиограмма нормальная,— присаживается к очередному больному.
— А откуда это видно? Интересно посмотреть... Но приступа теперь не будет, правда?
— Правда. Голова болит?
— Да.
— Биение сердца чувствуете, когда лежите?
— Хорошо чувствуется.
— Минуточку, я вас послушаю. Лежите вы неудобно... Так, давление 150 на 90. В каком месте головы ощущаете боль?
— Крыша болит, верх.
— Проверим пульс...
— День прожил, ближе к смерти...
— На ультразвук ходите?
— Нет, не делали два дня. Не вызывают Почему-то.
— Голова меньше болит?
— Таблетки пью, снимают боль.
— Похудели?
— Нет. Хочу похудеть, не получается...
— Надо, надо. Много двигаетесь?
— Не очень. Тяжело ходить. Учащенный пульс, появляется боль.
— Ив портели?
— А у меня все по-прежнему.
— Не лучше?
— Нет, ребра болят. Вот здесь болит и жжет от уколов. После уколов подхожу к батарее и грею.
— Может образоваться гематома. Какая температура?
— Вчера была 36,9, а сегодня — 37,5.
— По одному говорите... Боли в суставах чувствуете? Нет?
— В области спины. Она никогда не проходит. И на свободе такое было.
— В детстве часто болели?
— Часто. Несколько раз лежал в больницах.
— А из органов не пытались уволить?
— Я скрывал.
— Спина у него, Ирина Васильевна, заболела после обеда.
— Он об этом не говорил.
— Знаете почему?
— Почему?
— Потому что много ест. Необходимо лишить пайки и перестанет болеть...
Обход закончился на дружеской ноте. Доброе слово и кошке приятно.
Как-то Нурали и Волкогонов затеяли спор. Начался он с того, что лезгин заявил:
— Спорим, что на турнике буду держать угол около минуты, сделаю до ста переворотов и подтянусь на руках раз тридцать-сорок. В отряде я это часто показывал. Правда, один мне проспорил, а потом стал выкручиваться, даже полез драться. Я его так прихватил, что пижон чуть сознание не потерял. А недавно выиграл у мастера спорта по каратэ. Спорили на отоварку. Надо было бороться до болевого приема или до удержания. Вначале он меня бросил через спину, аж косточки затрещали. Но я собрался, провел прием, сдавил, и он сдался, стал проситься...
Судя по всему, Нурали говорил правду. Бугристые мышцы играли и перекатывались под кожей, когда он умывался или упорно отжимался от пола.
— Вы что, в одном отряде?
— Да. Но он председатель СП, и я его ненавижу! Прямо в глаза и при всех ему заявляю,— разговор приобрел неожиданный поворот. Волкогонов вскочил с койки:
— Я кандидат в мастера спорта по боксу!
— Какой из тебя кандидат? — застонал от смеха Нурали.— Тебя какие-то забулдыги отметили — вот и весь твой бокс.
— Что? Не веришь? Могу и на турнике «солнышко» прокрутить!
— Юморист! Что ты можешь? Ты ни разу не подтянешься. Лежишь сутками на койке. Лень в сортир сходить. Мышцы дряблые, как кисель...
— Давай пари: я дольше тебя буду держать угол! — распалился Волкогонов.
— На отоварку?!
— Ладно! — отступать было некуда.
— Перебиваю я,— вскочил с койки мой сосед.
На прогулке Нурали предложил сопернику доказать правоту. Волкогонов замялся, не сейчас, мол, а вот в зоне докажет, чего он стоит. Вмешался Дудинский:
— Николай, спор есть спор. Слово надо держать.
— Мы же не оговорили время. Сейчас я просто не хочу.
— Хочешь, не хочешь — это не разговор. Выходит, проиграл.
— Почему проиграл? Просто говорю: посоревнуемся в зоне...
— В какой зоне? Мы так не договаривались! Либо сейчас, либо ты сдался, струсил!
— Слова «сегодня» не было, ты не ставил таких условий...— Спор разгорался и переходил во взаимные оскорбления.
— Гнида,— стискивая зубы, шипел Нурали.— Я знал, что ты струхнешь. Жалею, что еще тогда не придавил тебя...
— Чего ты кипишь, как самовар? Полегче на поворотах! Не очень-то испугался. Просто не хочу о тебя руки марать. Мне хочется уйти на «химию», В следующем месяце — на комиссию. А то я...
— Что? Давай сейчас! Давай! Тронь хоть пальцем, вобью в землю — никто не откопает. Подонок! Сколько ты в отряде людей заложил? Чуть что, сразу к начальству чешешь?! Кровь нашу пьешь, шестерка поганая! Сука!
— Полегче на поворотах! Живу сам по себе, тебя не трогаю. Я не виноват, что ты дурак, вот «звонком» и сидишь. А я умнее.
— Ты не умнее, а хитрее, гаденыш! — Нурали был распален до предела, вот-вот готов был взорваться и броситься с кулаками на соперника. Пришлось срочно вмешаться нам с Сергеем. Вдвоем оттащили разъяренного Нурали. Волкогонов притих и отступил. Чувствовалось, что он боится конфликта. Прошло несколько минут, пока горе-бойцы успокоились и разбрелись по разным углам. Но после стычки отношения между Волкогоновым и Нурали натянулись до предела. Они открыто ненавидели друг друга. Особенно бесился лезгин, к тому же Дудинский изводил Николая напоминаниями о необходимости отдать проигранную отоварку. Время от времени он занудливо повторял:
— Наемся я повидла, да с белым хлебом или — лучше — с пряниками. У нас на зоне продаются мятные. Возьмешь в рот — они тают. А сверху намажу повидла с маргарином. Поем от пуза, причем — на халяву! Вот угостишь нас, вот обрадуешь!..
К сожалению, не обошли подобные конфликты и меня. Однажды в банный день я первым занял наиболее удобную секцию душа. Но оказалось, что на это место претендует узкоглазый пациент из палаты № 4 по фамилии Ухтомин. Не церемонясь, он грубо приказал:
— Убирайся! И побыстрей!
Не желая сразу скандалить, я предложил мыться вдвоем под одним душевым краном и подвинулся, уступая ему место. Но Ухтомин заорал:
— Тебе что, непонятно? Тогда я могу растолковать другим способом.
— Что?
Тут в наш разговор вмешался Дудинский:
— Заткнись,— заявил он Ухтомину,— знай свое место! Ты его мизинца не стоишь, а еще какие-то претензии предъявляешь? Это твой душ? Или ты в джунглях?
— Тебе-то какое дело? Чего в чужой базар нос суешь? Давно получал?
— Не при на буфет! Наглость здесь не проходит.
— Пойдем, поговорим,— угрожающе пригласил Ухтомин.
— Да что мне с тобой разговаривать? Ты ж двух слов связать не можешь.
— Что, струсил?
— Спокойно мойся,— предупредил я.— Я с тобой сам позже поговорю.
— Что с ним говорить, один черт, ничего не поймет, чурбан,— заявил Дудинский.
— Зачем же так. Может, и он чего-нибудь стоит. Кто знает, слышал ли он хоть одно доброе слово за всю жизнь. А подонком его назвать — это самое простое.
— С волками жить — по волчьи выть... А иначе будешь белой вороной и тебя раздавят, растопчут и даже опустят.
— Пусть я буду белой вороной, но ломать себя не собираюсь. Сначала надо по-человечески. А вдруг дойдет?..
— Исключено! Не та публика.
— Скажи, за что тебя не любят в отряде?
— Не по душе тем, кто нечист на руку.
— Говорят, ты накапал на тех, кто за деньги и по блату устроился на теплых местах...
— Никого я не закладывал. Когда меня поставили к прессу-развалюхе, попросил слесаря наладить его. А тот попер на меня: «Ты только пришел, а работать не хочешь. Кто твою норму делать будет? Или, может, побежишь, заложишь меня? Беги, да оглядывайся: ноги переломаем!» Я ему: «Станок ты мне отремонтируешь. Твою работу я выполнять не стану. Жаловаться не пойду, но пока станок не отладишь, к работе не приступлю». Побегал он, попрыгал, а станок все-таки сделал.
— Зачем было конфликтовать?
— И вашим, и нашим — я так не умею. Это зэков- екая психология, хоть они и кричат о своей честности. А сами в любой момент готовы продать друг друга. Печально, но факт: приходится опасаться не столько начальства, сколько друзей по несчастью. Мы сами друг друга съедаем.
— Вот, скажем, Серега-завхоз заложил меня однажды мастеру,— продолжил Дудинский.— Я сработал два кольца, принес ему, а они потекли. Он решил показать свою принципиальность и накапал...
— Брак есть брак.
— Туфта все это — качество, совесть рабочая. Я зэк — и наплевать на высокие материи. Как ко мне относятся, так и я в ответ... А начесать начальство проще пареной репы. Помню, несу явно бракованное кольцо, запорол я его. А тут навстречу мастер прется. Я к нему с подходом: «Посмотрите, пожалуйста, у меня сомнения: пойдет оно в дело или нет?» Мастеру понравилось, что я такой честный. Глянул мельком, скорчил умную рожу и изрекает: «Деталь качественная. Можешь сдавать.» А вообще-то, объегорить кого угодно можно, лишь бы голова на плечах была. Сам не раз видел: испортит станочник заготовку — ив бочку с маслом ее. Целый склад там образовался. А после все, правда, вылезло наружу. Приказало начальство эту бочку вывезти. Согнали зэ- ков-работяг, а те сдвинуть ее с места не могут. Как приросла к полу. Подходит пижон один, базарит, что штангист бывший, мастер спорта. Пыжился он, пыжился, а бочка даже не шелохнулась. Догадались масло слить... Мастер чуть не одурел, когда увидел, сколько колец от него заначили...
— И какой же вывод из этой истории я должен сделать?
— Хочешь жить — умей крутиться! И поменьше совать нос не в свое дело.
— Значит, моя хата с краю?
— Точненько! У зоны свои порядки и свои законы, и не нам с тобой их переиначивать.
— Но если в наглую хамят? Если обдирают как липку?
— Повторяю для наивных: здесь зо-на! Ты что, не усек, почему никак норму, к примеру, не мог выполнить? А все элементарно: норма разработана для «Уралвагонзавода», где все станки и механизмы чуть ли не на уровне мировых стандартов или хотя бы рядом с ними. А ты пахал на дедовских, допетровских. И карячься сколько угодно, но ни хрена у тебя не выйдет.
— Спасибо за науку. Вернусь на промку, поговорю с начальством всерьез. Это же прямое издевательство!
— Не дуй против ветра, прокурор. Никому ничего не докажешь. А огонь на себя вызовешь.
— Что же, здоровье гробить ни за что?
— Тихой сапой большего добьешься. Поверь моему опыту.
— Такая тактика не по мне. К тому же я хочу заработать условно-досрочное освобождение. А если не буду давать норму, кто же мне хорошую характеристику подпишет?
— Опять ты ничего не понял. Выбьешься в передовики, стахановцем станешь — тем более никто тебя не выпустит отсюда.
— Как это?
— Все опять-таки очень просто. Что, цеховое начальство такое дурное, чтобы хорошего работника отпускать? Под любым предлогом задержат, найдут к чему придраться. Правда, вначале обещать будут с три короба, а потом — в кусты. Так что из этого замкнутого круга мало кто вырывается. Я же говорю: система отлажена четко. Главное — запомни — это выгодно родному государству. А государственные интересы, как ты знаешь, у нас превыше всего.
Доводы были убедительными, хотя позиция «и вашим, и нашим» вызывала протест. Быть хамелеоном не мог, но гробить здоровье в литейке — это тоже вариант не из лучших. Где выход из этой тупиковой ситуации, как не сломаться морально и выжить физически? Кто поможет разрешить эти проблемы, кто наставит на путь истинный?
Даже самые благожелательные ко мне старожилы, с кем я успел свести знакомство, в большинстве своем уповали на счастливый случай, на удачное стечение обстоятельств и, чего греха таить, на особое отношение администрации. Каким путем достигалось это покровительство, догадаться было не трудно, да никто и не таил секретов. Осведомитель — шестерка, блюдолиз, готовый по первому сигналу броситься выполнять любое гнусное приказание,— слишком скользкой была такая стезя. Не намного привлекательней выглядел еще один традиционный вариант — взятка нужному бугру, будь то нарядчик, завхоз или начальство рангом повыше. В общем, нравы лагеря были зеркальным отражением порядков и законов, по которым жили по ту сторону проволоки, на свободе. Несговорчивых, ершистых брали, как говорится, к ногтю, научившихся безропотно произносить «чего изволите-с?» допускали к кормушке. Я же — к своей беде ли, а, может, к добру — часто забывал эти правила, рвал поводья. И вот зона устраивала мне еще один экзамен, на котором действовал опять-таки поставленный с ног на голову принцип: прямой, честный ответ оценивался «неудом», а использование шпаргалок приносило зачастую высший балл, применительно к конкретной ситуации — досрочное освобождение. Остаться самим собой, или «продать душу дьяволу» — эта дилемма возникала буквально каждый день. И, не буду скрывать, все чаще какой-то неведомый доброжелатель-искуситель нашептывал мне во сне: «Брось ты упираться, наплюй на принципы. Ради свободы, ради семьи можно пойти на все. Все, что во спасение — не грех».
Сомнения усилились после свидания с Людмилой. Огромная радость, такая долгожданная и в то же время неожиданная, ошеломила. Я готов был отдать что угодно, лишь бы короткие часы забытой близости никогда не кончались. Воспаленная память хранила и исстрадавшиеся глаза любимого человека, и промелькнувшую обреченность, и, как мне показалось, возникшую отстраненность. Я вспоминал горячечные, сумбурные фразы, восстанавливал интонации, жесты, заново вслушивался даже в молчание жены, казнил себя за прорывавшуюся несдержанность. И продолжал разговор-исповедь теперь уже в письмах, благо, больница оставляла для этого вполне достаточно времени.
«...Здравствуй, дорогая Людочка! Бесконечно благодарен, что ты, несмотря на все трудности, нашла мужество приехать ко мне за тридевять земель. Наше свидание — это глоток чистого воздуха, родниковой воды в удушающей тюремной атмосфере. Я до сих пор ощущаю прикосновение твоих губ, слышу твой голос, чувствую твое дыхание. Часто во сне протягиваю руку в надежде прикоснуться к тебе, но... рядом пустота. И на сердце вновь наваливается черная тоска. Я гоню ее прочь, не разрешаю себе раскисать, борюсь с отчаянием. У меня, у нас, я надеюсь, есть цель — как можно скорее вновь быть вместе.
Многое зависит от результатов внесенного протеста. Только вот йикаких вестей о его судьбе пока нет. Если удастся, разузнай подробней, как обстоят дела и напиши сюда, в больницу; здесь я пробуду, наверное, около месяца (адрес на конверте). К тому же, есть вероятность условно-досрочного освобождения: треть срока позади. А если все сложится удачно, не исключено, что и вовсе к Новому году буду дома: два года из четырех я уже отсидел, и по закону (боюсь сглазить!) меня могут освободить из-под стражи. Тут многое зависит и от меня, и от администрации колонии. Хорошая характеристика достается непросто... Но ради скорой встречи с вами я готов перенести любые тяготы...»
Дни в ожидании весточки от Людмилы летели быстро', но почти ничем не радовали. Нетерпеливо пишу еще одно письмо: «Дорогая Людочка! Знаю, как ты занята, сколько непомерных забот несешь на своих плечах, и больным родителям надо помочь, и Инночку воспитывать, и по моим делам хлопотать, и на работе справляться. Но прошу! — помни, что каждая твоя строчка служит мне подспорьем, придает силы, вселяет веру в счастливый исход. Без твоей поддержки мне бесконечно тяжело.
Здесь прошел слух (как говорят, из достоверных источников), что наш спецконтингент (бывших сотрудников правоохранения), возможно, сократят. А если проще __ многих выпустят из-под стражи. И даже к Новому году. Что слышно об этом на воле? Хорошо бы, чтобы эта новость оказалась истинной... Напиши, родная!»
И вот наконец держу в руках тетрадные листы в клеточку со знакомым аккуратным почерком. Буквы расплываются, я смущенно вытираю глаза, и даже всегда готовые подколоть соседи по палате тактично отворачиваются.
«Валерочка, здравствуй! Как только получила письмо из Свердловска, сразу взялась за перо. Ты же говорил, что ложишься в больницу, и я ждала весточки оттуда, чтобы написать по новому адресу. Слава Богу, что тебя хоть немного подлечат. И, главное, чтобы освободили от проклятой литейки, от тяжелой работы. У меня сердце прямо-таки разрывается на части, когда вспоминаю, что тебе доводится переносить.
Если сможешь, вышли в Верховный суд Латвии заключение врачей о твоей болезни. Дело в том, что рассмотрение жалоб и протеста перенесено на октябрь. И такой документ будет очень кстати. Правда, я уже сообщила в Ригу, что ты находишься в больнице, и попросила сделать запрос. Но сам знаешь, насколько они там «разворотливые».
Надеемся на лучшее. Ждем скорой встречи.
Твоя жена Людмила.»
В завершение меня ждал сюрприз, от которого перехватило дыхание и учащенно забилось сердце — в пору было принимать успокоительное лекарство. На листке из школьной тетради бросились в глаза слова:
«Здравствуй, папочка!
Я уже школьница. Я люблю ходить в школу. Папочка приезжай скорей. У меня много книг. Мои любимые книги «Карлсон» и «Денискины рассказы».
Я очень люблю тебя и очень жду тебя.
Целую тебя крепко, крепко.
Инночка.»
Горячая волна стеснила грудь, на глаза вновь навернулись счастливые слезы. Старательно выведенные крупные буквы, даже отсутствие одной запятой говорили о том, что моя Иннуленька писала самостоятельно, без маминой подсказки. На душе стало и радостно, и горько — дочь выросла, помнит и любит меня; она уже школьница, но первое письмо отцу написала в лагерь.
...Письма из дома, их искренность и теплота стали стимулом для дальнейшей борьбы за выживание, не давали опустить руки, смириться с судьбой. Я старался держать себя, несмотря на все невзгоды, в постоянной, как говорят спортсмены, боевой готовности. Во всяком случае, если не физической, так моральной. А жизнь в больнице, хотя и протекала внешне однообразно — процедуры, анализы, осмотры — требовала постоянного напряжения. Говоря по большому счету, от медицинского заключения зависела моя дальнейшая судьба, а в конечном итоге — и возможность досрочно освободиться. Если врачи дадут ограничение на тяжелые работы, с меня автоматически снимается выговор за невыполнение нормы в литейке (об этом перед моим отъездом в больницу сказал отрядный). На более легком участке справиться с заданием не так уж и сложно, значит, придраться ко мне будет не за что. Бузить, бунтовать я не собираюсь — перетерплю во имя свободы. К тому же, возможно сработают жалобы в Верховный суд Латвии (на октябрь уже назначен разбор), в московские инстанции. Все вместе взятое и давало определенный шанс на успех. Так что, как это странно ни звучит, фундамент этого успеха закладывался здесь, в Свердловской спецбольнице.
И хотя болезни у -меня были не мнимые — и почки, и желудок изрядно сдали за двадцатимесячное сидение в Минском и Рижском СИЗО, во время бесконечных этапов, особой веры в милосердие и порядочность врачей у меня не было. Нет-нет, да и закрадывалась мысль пойти на какой-либо обман, лишь бы получить заветную бумажку об ограничении на тяжелый труд. Тем более, что соседи по палате, естественно, совсем не рвущиеся назад на зону, прибегали к разным ухищрениям, лишь бы подольше остаться в больнице. Порой это выглядело довольно неуклюже и даже анекдотично.
...Санитар, такой же заключенный, но работающий в обслуге, заглядывает в палату и буднично спрашивает:
— Температуру измерять будете?
— Еще спрашиваешь! Конечно! Давай градусники!
Едва за медбратом закрывается дверь, Дудинский и
Серей начинают тереть наконечником с ртутью по одеялу.
— 37,2,— довольно ухмыляется старший.
— 37,1,— решил быть поскромнее Сергей.
— Зря вы все это, мужики,— пытаюсь урезонить я их.— Перепроверит сестра, погорите как шведы под Полтавой.
— Прорвемся.— Симулянты пока держат хвост пистолетом.
Оказывается, я как в воду глядел (или накаркал): именно их двоих вызывают в процедурную. Там сестра заставляет их повторно измерить температуру у нее на глазах. Ртутный столбик застывает на 36,6. Но дружный тандем не сдается:
— Градусники неисправные. Им уже по сто лет...
Сестра вздыхает и выдает новые термометры. Но
стоит только ей наклониться к столу, чтобы сделать какую-то запись, как опытный Дудинский в одно мгновение повторяет операцию, проделанную в палате, только «разогревателем» служит на этот раз поверхность больничной куртки. Еще одно неуловимое движение — и измерительный прибор возвращается подмышку. Сергей же мешкает, и сестра ловит его на месте преступления.
— Что ты делаешь? Хочешь, чтобы запись в истории болезни появилась? Мне это недолго. А потом нарушение в личное дело перекочует. Ты хоть это понимаешь?!
— Понимаете, от волнения холодный пот выступил,— испуганно лепечет нарушитель.— Я хотел только
вытереть градусник. И вообще — у меня резкие перепады температуры: то в жар бросает, то в холод.
— Все эти фокусы мне давно известны. Не ты первый,— обрывает его сестра и требует показать термометр Дудинского.
Тот невозмутим: у него «законных» 37,2...
После удачно проведенной аферы у Дудинского поднимается не температура, а настроение, и он требует нести горчичники — мол, надо выгонять простуду. Санитар мнется, но тут подключается и Нурали. Двойной удар оказывается результативным, и в палате появляется тощая стопочка горчичников и миска с водой.
— Кому первому ставить? — хмуро спрашивает санитар.
— Мне, конечно, старшему,— командует Дудинский, но тут же спохватывается: — А ты хоть знаешь, как это делается?
— Какая тут наука... Клей — да и все.
— Учись, пока я здесь. Вначале смочи аккуратненько, да не плюхай воду... Теперь клади на лопатки по одному, сверху вниз... Прикрой полотенцем... Укутай одеялом, да еще подушку сверху... Ладно, тройку с плюсом заслужил...
Санитар терпеливо выслушивал инструкции Дудинского, клеил желтые бумажки, бурчал под нос:
— На твоей спине самолеты садиться могут. Аэродром да и только. Тебе эти горчичники, как блошиный укус. Интересно, как ты сюда попал? На тебе воду возить надо. «Закосил», небось.
— Не твоего телячьего ума дела,— с удовольствием покряхтывал Дудинский.— Скажи спасибо, что я тебя хотя бы чему-нибудь научил.
— Симулянт,— огрызнулся санитар и подошел к Нурали.— Тебе куда клеить?..
— Можешь быть свободным,— вошел в роль Дудинский.— Ему я сам поставлю. Погреюсь, а тогда за него возьмусь. Он у нас нежный человек, южный.
— А идите вы, умники... Мое дело маленькое. Хотите — клейте, хотите — нет.
Как только за санитаром закрылась дверь, Нурали начал соскабливать горчицу с листка на газету.
— Что ты делаешь?
— Спокойно, прокурор. Пищевую горчицу приготовим. Соскучился я без остренького.
Новоявленный кулинар ссыпал порошок в банку из-под зубного порошка, разбавил водой и поставил сосуд на батарею отопления.
— Голь на выдумки хитра,— удовлетворенно ухмыльнулся он.— Хочешь вкусно жрать, умей крутиться.— Эта ходовая поговорка имела несколько интерпретаций.
— А как же с твоей простудой?
— Попробую выпросить у медсестры пяток горчичников. Скажу, что этому бугаю,— показал он на Дудинского,— на пятки пришлось поставить.
Как он уговаривал медсестру, я не знаю, но поход увенчался успехом. Дудинский добросовестно выполнил роль санитара и ушел из палаты, приказав Нурали лежать и не шевелиться. Минут через пять наш джигит подал голос:
— Братцы, жжет очень... Снимите, будьте добры.
— Э, нет! Это дело тонкое, под силу только специалистам. А вдруг они присохли, что, с кожей отрывать?
— Не могу терпеть! Спина огнем горит! Помогите!
— Кто начинал работу, тот пусть и оканчивает. Наше дело — сторона. Не дай Бог, что случится? Врачи скажут, что мы тебя умышленно искалечили, а на кой нам это надо?
— Не издевайтесь, там же кожа полопается!
На его счастье вернулся Дудинский.
— Где ты болтаешься, изверг?! Сгорю скоро.
— Еще не время. Процедура должна длиться двадцать минут.
— Снимай, мать твою!
— Надо руки сполоснуть.
— Снимай!!!
Не спеша, комментируя каждое свое движение, пересыпая речь медицинскими терминами, Дудинский отодрал горчичники. На смуглой спине Нурали багровели продолговатые прямоугольники, будто кто-то разложил на коричневой столешнице красные игральные карты.
— Тебе коней лечить и то нельзя, а ты до человека дорвался.
— Зато здоровым будешь. Все твои хворобы как рукой снимет. Выпишут скоро...
Беззлобный треп продолжался еще долго, но понемногу веселье пошло на убыль — давали себя знать настоящие болячки. А меня накануне выписки все больше тревожил один и тот же вопрос: дадут ли мне ограничение, освободят ли от проклятой литейки?
— Послушайте, шутники! Что изобрести, чтоб от тяжелой работы открутиться?
— Закоси под психа, скажи, что тени собственной боишься. Просыпаешься, мол, и чувствуешь, что твоя тень хочет тебя же задушить...
— Точняк: разыгрывай дурака. Толкуй, будто кажется, что потолок падает, >$то под пресс хочется лечь, что вращаешься вместе с каждым колесом.
— Все это хорошо. А положат на обследование? Замучают уколами, таблетками. В самом деле дураком сделают. Лежать придется с настоящими психами. Обстановочка там еще та.
— Да, гнилой это вариант. Повезут в институт Сербского, там быстро расколешься. Говорят, там есть специальная комната, где пол утыкан гвоздями, но не железными, а резиновыми. Настоящий псих не врубается, смело ступает на эти гвозди, а если ты нормальный человек, то идти откажешься. Вот и ловят тебя на этом естественном чувстве боязни. Или ведут, скажем, по коридору. И вдруг включается магнитофонная запись: воет летящая бомба, грохочут взрывы. Дураку хоть бы что, а ты пригибаешься, ищешь укрытие — срабатывает защитная реакция. Тебе и говорят: «Попался, голубчик. Прикидываешься, «косишь»... И чтоб неповадно было, пару укольчиков загоняют, растормаживают.
Ты сам все добровольно и выкладываешь, что хотел обдурить самую лучшую в мире советскую медицину и заодно родное правосудие. А в результате — этап сюда, в Тагил, в ту же литейку. В личном деле, конечно, появляется запись, что такой-то зэк пытался увильнуть от заслуженного наказания. О досрочном освобождении можно уже и не заикаться. Будешь пахать на хозяина до звонка.
— Чего же вы тогда советы даете?
— Это мы воспитываем тебя, прокурор. Очки твои розовые протираем, чтобы понял, в какое дерьмо ты влип.
— Все мы Bl нем барахтаемся...
«Медицинскими» советами пользоваться я, естественно, не стал. А вот по коммерческой части они были большими специалистами. Они предложили мне заняться вполне законным и легальным бизнесом. По словам Дудинского, здесь в палате можно подрабатывать... составлением жалоб. Нет, не на администрацию больницы — это могло закончиться досрочной выпиской, а на вынесенные ранее приговоры. Недовольных решением суда хоть отбавляй — практически каждый заключенный считает наказание излишне строгим. Волкогонов брался подыскивать мне клиентов, за эту услугу требовал себе определенную плату. От меня, дипломированного юриста, требовалось аргументированное и убедительное опровержение решения суда. Таким образом, создавался общепринятый треугольник: заказчик — посредник — исполнитель. Я после некоторых колебаний (все-таки было неловко брать плату с таких же, как сам) согласился. Нажить капитал я не рассчитывал, но дополнение к больничной пайке было совсем не лишним.
Первого клиента Волкогонов привел буквально через полчаса после нашего с ним договора. Пожилой мужик примостился рядом с моей тумбочкой, развернул общую тетрадь с записями.
— Копии приговора у меня, к сожалению, нет,— извиняющимся тоном начал он.— Но в этом гроссбухе все необходимые материалы есть. Нужно только привести их в систему.
Практика составления жалоб у меня была (сколько подобных бумаг и в какие только адреса я успел написать!), так что без лишних слов взялся за работу; процесс, как говорится, пошел. Но... Тут Мельникова (это и был мой подопечный) позвала медсестра. Вернулся он расстроенным:
— Это же надо. Дали два часа на сборы. Иду на выписку. Не везет, так не везет...
Пропало настроение и у меня — первый блин оказывался комом. Мельников предложил вариант:
— Я успел познакомиться со здешним электриком. Толковый кореш. Отдашь жалобу ему, а он после подкинет тебе продуктов. Я передам.
— Добро. За мной остановки не будет.
— За мной тоже. А пока авансом возьми сигареты,— и он протянул мне две пачки.
— Некурящий я.
— Бери, обменяешь на еду,— подсказал Дудинский.— Табак здесь дефицит.
Мельников распрощался и ушел, а я отдал сигареты посреднику — Волкогонову. Тот сразу же выскочил в коридор.
— Зря ты его подкармливаешь,— осуждающе посмотрел на меня Нурали.— С голодухи выкурит все, нечего менять будет.
— За эти две пачки ты можешь консервы получить или банку повидла. Маргарин, если захочешь...
— Понятно. Подожду до завтра, дам ему время для обмена.
Сопалатники дружно расхохотались.
— Да к завтрашнему дню ничего не останется. Сам не выпускает изо рта, да и задолжал уже многим.
Сигареты, в самом деле, таяли катастрофически быстро, и я не выдержал:
— Слушай, дружище. Пора и мне чем-нибудь полакомиться. Повидлом, скажем...
Волкогонов заюлил, стал оправдываться, но сигареты отдал, правда, лишь одну пачку. Обмен я произвел самостоятельно: встретил знакомого, с которым вместе ехал в больницу. Он без лишних слов выложил мне за «Приму» банку кильки, причем, насколько я понял, удивился моей то ли непрактичности, то ли щедрости.
Но аванс надо было отработать, и я добросовестно написал от имени Мельникова Михаила Степановича обширную жалобу в адрес председателя Свердловского областного суда. Мой клиент, несмотря на свой предпенсионный возраст, оказался заядлым драчуном. Суд признал его виновным по ст. ст. 108 ч. 1 и 108 ч. 2 УК РСФСР и определил ему наказание в шесть лет лишения свободы в НТК усиленного режима. Поскольку я выполнял роль адвоката, пришлось целиком принять сторону Мельникова и искать варианты защиты. Из записей и короткого разговора мне удалось выудить некоторые важные детали, не учтенные судом. В одном эпизоде, по версии Мельникова, он вынужден был защищать себя и свою сестру от нападения некоего Чернявского, признанного потерпевшим. Тот состоял на спец- учете как психически больной, нигде не работал, злоупотреблял спиртным. В день, когда произошла драка, Чернявский зашел в дом Мельникова. Было время обеда, и хозяин с сестрой сидели за столом. Пригласили гостя (правда, незванного) разделить трапезу, угостили спиртным. Одного стакана тому показалось мало, и он стал требовать налить ему еще. Когда же услышал отказ, схватил со стола нож и бросился на сестру Мельникова. Хозяин вынужден был ударить нападавшего. Спустя некоторое время тот вновь попытался нанести удар ножом, на этот раз самому Мельникову. И опять был остановлен кулаком хозяина, который защищал свою жизнь.
После решительного отпора Чернавский пришел в себя, попросил прощения. Перед уходом выпил еще стакан спиртного и отправился к своей сожительнице. Но там долго не задержался. Видимо, в поисках спиртного он ломился в квартиры граждан Зайцева и Карабищева. Те несколько раз вынуждены были сталкивать его с лестницы. 'Только утром дебошира поместили в больницу, где были зафиксированы побои. Мельникову предъявили обвинение по ст. 108 ч. 1, хотя сам потерпевший не отрицал, что бросался с ножом на него и его сестру, что конфликтовал с Зайцевым и Карабищевым. Он не помнит, когда получил телесные повреждения: в бытность в доме Мельникова, во время падения с лестницы, на улице... Однако суд не принял во внимание всех этих обстоятельств и однозначно признал виновным Мельникова, что. является грубым нарушением закона.
Не исследован был судом и второй эпизод, который вменен Мельникову в вину и по которому он осужден по ст. 108 ч. 2 УК РСФСР, якобы за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений гражданину Устинову. Неприязнь между ними зародилась давно — еще в 1970 году. В случайном застолье они затеяли борьбу, и Мельников оказался победителем, бросив соперника на пол. Побежденный в отместку ударил обидчика, но получил сдачи. Дальнейшего развития конфликт в те далекие дни не получил, но Устинов пообещал при случае рассчитаться. И вот в сентябре 1984 судьба вновь свела их за одним столом, на этот раз наедине. Мельников по делу зашел к соседу Устинова Сидорову, но того дома не оказалось. Старый недруг неожиданно пригласил в гости. Не будь Мельников навеселе, он вряд ли откликнулся бы на приглашение. Но... алкоголь притупил чувство опасности, в хозяйственной сумке было вино, и соперники подняли стаканы. Быстро захмелев, хозяин вспомнил прежнюю обиду. Г ость попытался уйти, но под каким-то надуманным предлогом Устинов задержал его. Когда пришедший отвлекся на мгновение, прикуривая сигарету, хозяин ударил его по голове приготовленным молотком. Не давая опомниться, нанес второй удар, на этот раз кулаком. Когда Мельников пришел в себя, то увидел над собой занесенный молоток. Перехватив руку нападавшего, он наощупь нашел на столе бутылку и ударил ею Устинова. Бутылка разбилась, но противник не выпускал из рук опасное оружие. В завязавшейся борьбе гостю удалось отобрать молоток и применить его против Устинова. Тот продолжал наступать, и Мельникову пришлось «успокоить» агрессивного собутыльника ударом кулака. Только после этого гостю удалось вырваться из негостеприимной квартиры. Вслед ему неслась брань, угрозы убить.
Через день Мельникова забрала из дома милиция, и следователь Фокин сообщил, что Устинов скончался. В шоковом состоянии задержанный подписал протокол допроса, почти не зная о его содержании. Но следователь сказал заведомую ложь (Устинов был жив), чтобы добиться нужных показаний. Узнав об этом, Мельников потребовал, чтобы его освидетельстовали медики, сняли побои. Фокин и на этот раз обманул, пообещав, что осмотр будет проведен в СИЗО. А там попросту отказались выдать заключение о телесных повреждениях. Лишь полтора месяца спустя, когда дело закрывалось, после настойчивого требования Мельникова было проведено медицинское освидетельствование. Врачи зафиксировали лишь остаточные следы побоев, но даже этого документа не оказалось в уголовном деле. Не опрошен ни один свидетель, который мог подтвердить, что Мельников был избит Устиновым, что именно он был инициатором драки. Суд пошел на поводу у следователя, целиком поддержав его обвинительную версию. Так что и этот эпизод нельзя квалифицировать как умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
Разобравшись в перепетиях извилистой судьбы моего заказчика, изложил жалобу в соответствии с принятыми нормами и стал ожидать, когда ее заберет незнакомый мне пока электрик. Время шло, но ко мне никто не обращался. Решил действовать сам. Встретив заключенного с бухтой проволоки через плечо, спросил:
— Ты Мельникова случайно не знаешь?
— Мы в одном отряде пахали. А что случилось?
— Он тебе о жалобе говорил?
— Да, я и забыл совсем. Ты написал?
— Как и обещал. Можешь забрать.
— Раньше воскресенья заплатить не получится.
— Я-то не тороплюсь, ему надо...
Но и после воскресенья ничего не прояснилось. Электрик как-то туманно объяснил, что не смог найти Мельникова.
— Попробуй еще раз да напомни о продуктах. Долг платежом красен.
— Это ваше дело...
Усомнившись в честности электрика, я забрал жалобу и передал ее на зону через зэка из хозобслуги. Тот уже назавтра доложил, что задание выполнено. Но обещанной платы от Мельникова я так и не дождался. Повторю: первый блин оказался комом...
Как бы то ни было, слух о том, что в палате номер семь объявился «мастер по жалобам», разнесся по больнице. И следующего заказчика долго ждать не пришлось. Им оказался невзрачный молодой человек, почти юноша. Просторная больничная одежда не только не скрывала, а наоборот, подчеркивала его худобу, сквозь смуглую от природы кожу лица проступала нездоровая бледность.
— Говорят, что вы здорово разбираетесь в законах,— обратился он ко всем сразу.— Мне бы телегу одну на администрацию лагеря накатать.— Видимо, ему дали адрес, но не сказали, кто конкретно может ему помочь.
— У нас главный законник вот этот гражданин,— ткнул рукой в мою сторону Волкогонов.— Только он задарма не пашет.
Уловив корыстные нотки, визитер отрезал:
— Мы без посредников обойдемся, без сопливых...
Волкогонов вскинулся:
— Ты чего это в чужой палате выступаешь? Как пришел, так и вылететь можешь!
— Присаживайся, рассказывай, что надо,— не дал я разгореться ссоре и пододвинулся на койке.
— Посоветуй, куда лучше на хозяина пожаловаться — в МВД или прокуратуру?
— Прокурору.
— Пустое дело,— неожиданно вмешался Дудинский, у которого я помимо желания отобрал авторитет главного правоведа.— Местный прокурор по надзору дует в одну дуду с администрацией колонии. Зачем ему лишние хлопоты? В газету писать надо, в «Известия» или «Ли- тературку». Теперь гласность в моде, иногда и про нас, зэков, статьи появляются.
Мне сразу пришел на память очерк И. Гамаюнова, его шушуканье на суде с Адамовым, и в душе поднялся протест.
— Газеты тоже пишут по заказу. Без прокуратуры они ни на шаг. Так что проще идти прямым путем, а не в обход. Пиши сразу в Москву.
— Под сукно твое письмо засунут, кому ты сдался? — стоял на своем Дудинский.— Там считают, что у зэка много свободного времени, вот он и рассылает от безделья телеги по всем адресам.
— Если от Генерального прокурора придет указание проверить твою жалобу, здесь, в Свердловске, вынуждены будут шевелиться. Побоятся, что ты и на них напишешь,— объяснял я растерявшемуся гостю.
— Да я все это ментовское кодло собрал бы в ШИЗО или БУР и не выпускал оттуда пару месяцев! Чтобы на своей шкуре почувствовали, что такое зона.
— Довели тебя, браток.
— Не то слово. Кровь выпили, гады, печень отбили. Сколько жить буду, столько и мстить!
— Куда тебе против такой машины? — Махнул рукой Дудинский.— Раздавят и не заметят. Живи тихонько, сопи в две дырочки... Кстати, какой у тебя срок?
— Три года.
— И только? А отсидел сколько?
— Почти половину.
— И еще трепыхаешься? Ты ж на «химию» скоро можешь выскочить, дурачок. С начальством ладить надо.
— Перед самой комиссией и начали они меня доставать: то не эдак, и это не так. В скотину хотят превратить. Ладно, что попусту трепаться! Короче, кто поможет толково написать? В долгу не останусь.
— Давай попробуем,— согласился я.— Из какой ты колонии?
— Из местной, Свердловской, номер двадцать два.
— Как на зону попал?
— Это долгая история. Если можно, я все по порядку, а то не поймешь. Сам я не с Урала, приехал сюда из Узбекистана после ГПТУ. Правда, отец сейчас в Нижнем Тагиле живет; бросил он нас, приженился тут. Да Бог с ним... Так вот, приняли меня на «Урал- химмаш» электромонтажником, по специальности. Познакомился с хорошей девушкой, теперь она жена моя, Валя. С жильем, сам знаешь, как трудно. Сначала снимали комнатку у частников, а когда сын появился, стали подыскивать что-нибудь другое. Зимы тут холодные, а дом у хозяйки старый — вода в комнате замерзает.
— Да, не Ташкент...
— Не перебивай! Я заявление на работе в профком написал, чтобы помогли. Там, конечно, от ворот поворот: люди, мол, по десятку лет на очереди стоят, а ты еще свеженький. Разозлился я и без спросу вселился в пустую комнату в общежитии для малосемейных.
— Самовольно?
— А что было делать? Не ночевать же с грудным ребенком на улице?
— Дальше...
— Конечно, пробовали выселить. Начал обходить депутатов, исполкомовских начальников. Все вроде сочувствуют, обещают помочь, но... В общем, добрался до областного прокурора. Тот вначале дал втык, а после все- таки оказался нормальным мужиком — написал записку директору «Химмаша», чтобы меня не трогали. Так и прожили по этой бумажке девять месяцев без всякой прописки.
— На птичьих правах?
— Да, постучит кто-нибудь в дверь, сразу испуг: пришли выселять. Жена моя, Валя, думала-думала и решила написать письмо Терешковой, в женский комитет. И, знаешь, помогло. Выдали нам ордер на комнатку, только в другом доме.
— Значит, свет не без добрых людей?
— Ей-то, Терешковой, большое спасибо. Только комнату выделили в старом доме — общая кухня на пятнадцать (!) семей, горячей воды нет. Только и удобств, что топить печи не надо — центральное отопление есть. Но, как говорится, уже не бездомные, свой угол есть.
— Правильно, не сразу и Москва строилась. Главное, что зацепка есть, а там и на расширение можно надеяться.
— Мы с женой так и думали. Только вот вышло все наперекосяк. Отрыгнулось мне самовольное заселение в общежитие.
— Как это?
— Были у нас там соседи — Толик Худоруков и его жена Татьяна. Веселая парочка — он за воротник закладывает и она не отстает. Мы с моей Валентиной дружбы с ними не водили, они постарше нас лет на десять, да и вообще у них своя компания. Если и встречались, так на кухне — она у нас была на две семьи. Вот из-за этой проклятой кухни все и началось. Женщины договорились прибирать там по очереди, как обычно в коммуналках бывает. Моя Валентина вообще чистюля, а тут еще жила на птичьих правах, так что всегда наводила блеск, чтобы не было к чему придраться. А Татьяна постоянно навеселе, убирала через пень-колоду. Но это еще полбеды. Стала соседка ко мне приставать.
— В каком смысле?
— Ну, чтобы переспал с ней. Ее Толик поддавал, а ей, как я понял, мужика регулярно хочется. Так вот, я отбрил ее. Правда, может, не очень вежливо. А чего с ней цацкаться? Она «под мухой» была и залепила мне пощечину. Хотел я ей ответить, но все-таки какая-никакая, но баба... Сдержался. Но Валентине своей рассказал все, чтобы была в курсе дела, если та вдруг сплетни распустит.
— Ах, какой примерный муж,— съязвил Волкого- нов.— Баба сама напрашивается, а он под женкину юбку прячется.
— Мне и своей было достаточно, а кобелем никогда не был,— отмахнулся Виктор (лишь в середине разговора он удосужился назвать себя) и продолжил печальную исповедь.— В общем, разругались соседки. А тут еще Толик пришел, как всегда поддатый. Встал на защиту Татьяны, попытался ударить мою Валю. Хорошо, что не в лицо попал, а вскользь по шее. Тут и я не выдержал, врезал ему. В общем, первый крупный скандал. Пришлось даже пригрозить, что сообщу в милицию, если поднимет руку на мою жену.
— И что же, сообщил?
— Нет, на время они успокоились. А после мы уехали в отпуск, так что все затихло. Но ненадолго. Не успели вернуться в Свердловск, как новая заварушка, теперь уже посерьезнее. И началась вроде бы без причины. У меня был выходной день, и я что-то мастерил на кухне. Жена с сыном и своей подругой была в комнате. И тут на кухню вломился незнакомый мужик и стал допытываться, где его друг Толик. Я молча показал на соседскую дверь. Гостю что-то не понравилось и он начал материться. Не поняв причины возмущения, я предложил ему постучать в дверь и самому узнать, дома ли Худоруковы. Еще раз обматерив меня, он забарабанил в дверь, а я ушел, как говорят, от греха подальше к себе.
— Струсил! — снова не вытерпел и вставил реплику Волкогонов.
— Не с тобой говорят, не лезь не в свое дело,— сразу напружинился Виктор, и кулаки его непроизвольно сжались.
— Сергей, не встревай,— предупредил Волкогонова и я.— Может, эти детали пригодятся для жалобы.
— Конечно,— подхватил Виктор.— С того мужика и начались беды... Значит, зашел я в комнату, а моя Валя вместе с подругой сына на улицу собирает. Я коляску вынес на улицу, они и отправились на прогулку. Возвращаюсь, а тут Толик с четырьмя бутылками вина топает. Очередной выпивон у них, значит, начинается... Так и есть: через пять минут проигрыватель на весь дом загремел, а за стеной загомонили.
— Тебя не пригласили?
— На кой хрен они мне сдались.
— Что, так ни разу с соседом и не выпил? Не верю.
— Почему — «ни разу»? Как только заселился, пару раз опохмелял его, выручал мужика. Потом, после скандала, только здоровались. Значит, гуляют они, а я карниз для шторы решил прибить. Молоток, дюбель в руки — и бью дырки. А чтоб ихняя музыка не дурила голову, включил радиоприемник. Тут заскакивает Татьяна и фыркает: приемник, мол, мешает им культурно отдыхать. Ах ты, сволочь, думаю, у самих гром на всю общагу, и я, оказывается, еще и мешаю. Но приемник выключил, чтобы не лезть в бутылку.
— Сели они тебе на шею.
— Да заткнись ты,— зло сверкнул белками в сторону Волкогонова рассказчик.— В каждую дырку лезешь, как клоп.
— Что-о-о?! — угрожающе поднялся Сергей.
— Сядь! — прикрикнул Дудинский, а Нурали даже вскочил с койки, чтобы осадить Волкогонова.
— Ладно. Надоело слушать, как он сопли жует,— пробурчал возмутитель спокойствия,— пойду, может, где закурю.
— Давно бы так, халявщик,— проговорил ему в спину Нурали и подогнал Виктора.— Говори дальше, земляк.
— Только я за работу принялся, как снова дверь открывается. Заходит тот мужик, что в гости к соседям пришел. Дай, говорит, прикурить. Отвечаю, что спичек нет, электроплиткой пользуемся, а сам я не курю. Тут вижу, что за спиной у непрошенного гостя Толик стоит с сигаретой в зубах. Ну, думаю, что-то не к добру они расходились. А сам говорю как можно спокойнее, чтобы закрыли мою дверь. А мужик этот ни с того, ни с сего размахивается и бьет меня. Прямо между глаз попал. Я и отлетел к стене, грохнулся на диван. Пока очухивался, получил еще удар по шее. Тряхнул головой, немного прояснилось. И первое, что увидел, был молоток, которым я работал. Схватил его и бросился на нападавшего. Координацию, правда, немного потерял и потому попал по шее, и то только по касательной.
— Хорошо, что не по голове,— умерил его пыл Дудинский.— Убить ведь мог.
— Тогда я об этом не думал. Да и они все трое озверели.
— Почему трое? Они же вдвоем зашли.
— Откуда-то третий появился. Может, после к компании прибился. Вот и стали они меня лупить: и ногами, и кулаками. Чуть вырвался — и бегом на улицу. А там жена, Валя, с прогулки возвращается. Как увидела меня избитого, сразу пошла в милицию. Приехал наряд, а они дверь в квартиру закрыли, никого не пускают. Милиционеры дверь выломали, всех троих забрали, отвезли в вытрезвитель.
— Ас тобою что?
— Дал показания, а потом отправили на экспертизу, снимать побои. По-моему, определили, что легкие телесные повреждения.
— По-твоему или точно?
— Точно я не знаю, что написано в медицинском заключении. Но врач посоветовал обратиться к невропатологу. Что я и сделал, правда, через день. На работе начала кружиться голова, слабость появилась. Врач посмотрел меня, вызвал скорую помощь и отправил в больницу. Но я от стационара отказался.
— Ну и дурак,— на этот раз не сдержался Дудинский.
— Это как посмотреть... Что я, жену с сыном одних оставлю? Эти же гады им житья не дадут. И пеленки на пол бросали, и молоко выливали, и детское питание рассыпали... Правда, жена меня тоже отругала, но все-таки мне стало спокойнее. Да и ей, конечно... Жаль только, что тихая жизнь быстро закончилась. Не прошло и нескольких дней, как произошла новая стычка с соседом. Вместе с сыном (он был у меня на руках) я варил кашу. Будто специально на кухню зашел Толик с вечной сигаретой в зубах. Как можно спокойнее я попросил не курить при грудном ребенке. Даже его собственные дети поддержали меня. Он как будто согласился, но затем вдруг схватил кухонный нож и подступил ко мне: «Забери заявление из ментовки! А не то уложу на месте!»
— Ничего не скажешь, веселая у тебя была жизнь!
— Понимаешь, за ребенка, сына, страшно: вдруг пырнет в него? Да и самому не очень хочется попадать под нож. Свободной рукой что было сил толкнул соседа, и тот грохнулся на пол. И пьяный был, и зацепился за что-то — кухонька тесной была. Распластался и вырубился, потерял сознание.
— Однако и силен ты... Вроде тощий, а своего соседа все время в нокаут посылаешь.
— Я же говорю, что он вечно пьяный. А тут еще и злость моя, и страх за ребенка... Короче, жена его побежала вызывать милицию, а соседи — скорую помощь. Из райотдела никто не приехал, а врачи зафиксировали алкогольное опьянение и побои. И оставили Толика дома. А наутро эта Танька сама вручила мне повестку в милицию. Я пошел с Валей, все рассказал, как было, подписал протокол. Только уходить — сам Толик навстречу. Принес бумагу с просьбой не заводить на меня уголовное дело. Мол, прощает он... Оказалось, узнал, что настаиваю на возбуждении дела против него и его дружков. Испугался... Тут следователь и предлагает, как говорят, баш на баш: мы оба забираем заявы — и дело с концом. Я поупирался, поупирался и согласился. Думаю, хрен с ними... Может, возьмутся за ум или хотя бы лезть в мою жизнь не будут...
— Скажи, а не могло быть так, что все скандалы происходили от того, что ты самовольно заселился в комнату? Скорее всего, они претендовали на нее, а ты дорогу перешел.
— Честно говоря, я об этом как-то не думал. Может, и твоя правда... Хотя он не только на меня бросался, на других соседей по общежитию тоже. И Таньку свою лупил, почти все время с фонарями ходила. И детей гонял, сколько раз я их защищал. Отпил мозги, что с него возьмешь...
Виктор только на первый взгляд выглядел юным. Сидя в полуметре от него, я заметил и ранние морщины у глаз, и нервное подрагивание рук, услышал неровное хриплое дыхание, увидел, как он время от времени осторожно поглаживает правый бок — наверное, давала себя знать печень. Да и взрывная реакция на подначки Вол- когонова подтверждала, что нервы у него далеко не в порядке.
...— Когда с помощью Терешковой переехали в свою законную комнату, думал, что все дела с Толиком и милицией завязаны. Хотя нет, к конторе оставался один вопрос: у меня угнали мотоцикл, а розыск не двигался с места. Я писал несколько жалоб, но так ничего и не добился. Одни обещания. Но это — дело, как говорится, пятое. А с Толиком если и встречался случайно, то держался подальше. Знал на собственном опыте, что пьяный он дурной, а трезвым его увидеть и нельзя было.
— Долго запрягаешь, земляк,— не выдержал долгого вступления Нурали.— Уже скоро час базаришь, а за что сел, так и не рассказал.
— За Толика и сел,— как-то буднично ответил Виктор.—День этот черный хорошо помню: 31 мая 1986 года, суббота. Приехал ко мне на работу друг и попросил помочь перевезти его вещи в то самое общежитие «Химмаша» по улице Грибоедова, где я жил по соседству с Толиком этим, Худоруковым. В общем, новоселье у человека, как тут откажешь. Вечером перетащили шмотки, купили пивка, чекушку водки и решили отпраздновать. Все свои: друг с женою, моя Валя с сыном приехала...
— Да, крепко вы решили погулять: чекушка водки на четверых,— ухмыльнулся возвратившийся в палату Вол- когонов.
— Не на четверых, а на троих. Валя ждала второго ребенка, только пивка пригубила.
— Смотри ты, какая интеллигенция,— начал было вернувшийся Сергей, но тут же будто поперхнулся словами — так резко повернулся к нему Виктор. Выдержав паузу, успокоившись, рассказчик продолжил:
— Посидели за столом. Валя стала собираться домой, ей нездоровилось. Попрощались и вышли в коридор. А там — Толик с двумя незнакомыми мужиками. Как всегда под мухой. Я поздоровался, а он и говорит: «Постой, сосед, есть разговор небольшой». Я и остановился, а жена пошла потихоньку. Тут открылась дверь лифта, из него выскочила все та же Танька. Не успел я что- либо докумекать, как меня затолкнули в кабину и начали избивать. Чудом смог нажать на кнопку с цифрой «1», и как только лифт остановился, бросился к выходу из общаги. Но там уже были друзья Худорукова.
— Обложили, как на охоте...
— Оказывается, Танька видела меня и специально подогнала лифт на нужный этаж. Ну, я продолжу. Вырваться из общаги не получается... Я лечу по лестнице наверх, а Толик за мной. На четвертом этаже догнал меня, ухватил за волосы и давай гасить меня головой об стенку. Вырываюсь, а он впился, как клещ. Очутились у окна. Он волосы не выпускает, гад. Стекло зазвенело — это он моей головой по раме ударил. Тут дружки подвалили и стали выталкивать в окно. Чувствую, что сейчас загремлю с четвертого этажа и — каюк.
— А что же жильцы общежития? Трое одного избивают и — молчок?
— Одна женщина — я слышал — кричала: «За что парня убиваете?! Милицию вызову!» Не знаю, откуда силы взялись, но вырвался я, вмазал Толику, он — с копыт. Я бегом вниз, но он поднялся — и следом. Догнал, уцепился за пиджак, тот даже затрещал. На ступеньках я оступился, упал. Толик на полном ходу ударил меня ногой в грудь, аж дух перехватило. Ну, думаю, затопчет. Как-то встал на ноги и что было силы и злости врезал врагу кулаком в лицо. Тот перелетел через перила и грохнулся о бетонный пол. И тут я увидел, что из-под его головы растекается лужа крови. «Человека убили!.. Убили!!!» — как сквозь туман слышал я крики. Сел на ступеньки и заплакал...
— Не убегал?
— Зачем? Да и сил не было. И в голове не укладывалось. В общем, милиция забрала меня в отдел, Толика отвезли в больницу.
— Живой хоть?
— Что ему сделается? Живучий. Его и до меня дубасили, но как на собаке заживает. В райотделе по свежим следам написал объяснение, но что именно — не запомнил. В голове все перемешалось. Думал, домой отпустят, а меня — в вытрезвитель. Чекушку на троих мы ведь выпили. Плюс пиво. Переночевал — снова к дежурному РОВД. И опять объяснение. Старший лейтенант сравнил обе бумаги и даже удивился:
— Смотри ты! Слово в слово повторил, как под ко- копирку.
Слава Богу, отпустили домой. Моя Валя уже места не находит, волнуется. Рассказал ей все, она и посоветовала снова идти в райотдел. Пошли вместе, попали к следователю Тараненко. Еще раз написал, как все произошло. Следователь успокоил, что особой вины за мною нет. Самое большое — светит 106-я статья.
— Превышение пределов необходимой обороны? Правильно?
— Ага. Но через два дня вызывают уже к другому следователю, Миклашевскому. И тот вдруг говорит, что статья уже новая — 109-я.
— Причинение менее тяжких телесных повреждений.
— Недаром ты прокурор, все статьи знаешь. Так вот, взял он с меня подписку о невыезде, дал подписать какие-то бумаги.
— Какие именно?
— Откуда я знаю. Сказал, привлекут меня по этой самой 109-й... И что судить будут в моем цехе с участием общественного обвинителя.
— Ты хоть знаешь, кто это такой?
— Наверное, вроде второго прокурора?
— Будем считать, что приблизительно так. Он должен дать тебе характеристику как работнику, семьянину, оценить твой поступок, предложить меру наказания.
— Приехал в цех следователь Миклашевский. Собрали общее собрание. Я рассказал, как все происходило, ничего не утаил. Миклашевский гнул свое — я, мол, виновник, инициатор. Только ему мало кто поверил. Мужики в цехе меня хорошо знают. Да и анекдот это: я один полез на троих амбалов, погонял их, избил. Но у начальства все было расписано, как по нотам: раз милиция требует общественного обвинителя, значит, он будет. Поставили вопрос на голосование... И пролетели — большинство было против.
— Это же хорошо!
— А что толку? Все равно назначили человека, им на голосование наплевать...
— У него же тогда нет никаких прав. Кстати, надо было в противовес защитника выбрать.
— Если бы я знал тогда. Темный в этих делах, а подсказать некому было. С тобой еще не познакомился.— У него еще сохранились силы улыбнуться.— Но женка у меня кое в чем разбирается, хоть молодая, но ушлая. Повела меня прямо к прокурору. Был как раз приемный день, так что повезло. Выслушал он нас, говорит, что мой проступок больше, чем на 106-ю не тянет.
— Так откуда же взялась 109-я?
— На собрании Миклашевский сказал. И когда я от прокурора к нему пришел, наорал на меня. Что ты, мол, по начальству ходишь, права качаешь. Но хвост немного поджал, видимо, получил втык.
— Пока все в твою пользу...
— О, правильно говоришь: пока. Сделал он нам с То- ликом очную ставку. И мы оба заявили, что не имеем друг к другу претензий. Ну, думаю, и концы в воду... Живу себе, работаю. Одно хреново — голова побаливать стала: и в первый раз по качану получил, и во второй. Лег в больницу, в невропатологию. Однажды отпросился домой — помыться, белье поменять. А тут, откуда ни возьмись, участковый является. Говорит, что меня хочет начальник милиции видеть. И откуда только узнал, что я дома?
— У милиции свои люди везде есть...
— В общем, являюсь в райотдел. И тут сюрприз: оказывается, никакой начальник меня не вызывал, а понадобился я Миклашевскому, следователю. Помуры- жил он меня, помурыжил, подержал в дежурке. Я ему говорю, что лечусь в стационаре, пора уже в больницу. Он садится на телефон и звонит врачу, требует дать справку, что я здоров. Тот отказывается. Миклашевский продолжает давить. И все это при мне.
— Что он, совсем обнаглел?
— Потом одумался... Вызвал сержанта, и тот запер меня в стакан. До трех ночи держали, тогда выдернули и показали справку, что я здоров. А раз так, то мое место в КПЗ... И засунули туда на целых двое суток.
— Постановление об аресте не предъявили или хотя бы протокол о задержании?
— Ничего мне не предъявляли. Захомутали — и все. Из КПЗ, после двух суток, прямым ходом к прокурору, в приемную. Но в кабинет не заводили, вынесли бумагу на арест. И на «воронке» — в тюрягу. Посидел ровно месяц, а тут и суд.
— Быстро управились...
— Еще придумали выездной суд сделать, в опорном пункте милиции Чкаловского района.
— Воспитательный эффект хотели продемонстрировать...
— Кого там воспитывать? Никого в комнату не пустили. Были я с женой, Толик Худоруков со своей Танькой... И все.
— Жива еще показуха. А в отчетах галочку поставят: «провели выездное заседание суда». Артисты!
— И еще какие! Моих свидетелей не вызвали, хотя я и следователю, и судье об этом говорил, настаивал. И адвокат мой этого же требовал. Как горох об стенку!
— Но какие-то свидетели все-таки были?
— Свидетели еще те!.. Одна баба, когда драка была, в кухне находилась, а утверждает, что все видела. Я у нее спросил, как же она сквозь закрытую дверь могла видеть, что она — телепат? Молчит, не знает, что сказать...
— И что, эти показания суд учел?
— А как же! И еще один солдат из войск МВД против меня показал. Он был в составе патруля и вроде бы видел, как я выталкивал Толика из окна. Понимаешь, не Толик меня, а я его?.. Тогда я спросил, во что был одет я, а во что Худоруков. Какого цвета у нас были костюмы? Солдат мнется, ничего сказать не может. А находился он от общаги метров за сто пятьдесят. Но судья и ему поверил. В общем, вклеили мне трояк и — топай, Витя, на зону.
— Неужели и судья, и заседатели поверили, что ты один смог справиться с тремя мужиками? — усомнился Волкогонов.— Что-то темнишь ты, парень.
— В том-то и дело, что дружков Толика отмазали. Их как бы вообще не было. Я требовал, чтобы вызвали свидетелей из общаги — там же полно народу было. Но следователь запугал всех, а кто и хотел придти, того на суд не вызвали или просто не пустили... Помнишь, я говорил, что одна женщина кричала: «За что вы человека убиваете?» Так ее на пушечный выстрел не подпустили...
— Если ты говоришь правду, то дело должны пересмотреть. Ты кассационную жалобу писал?
— Адвокат подавал. Но пришел ответ (так он мне сказал), что областной суд отклонил...
— Ясно. Делаем так: сейчас составляем жалобу на имя председателя Свердловского областного суда. Такую же пошлешь и областному прокурору. Правда, они могут спеться, играть в одну руку, так что надежды на них мало. Как получишь ответы, скорее всего — отрицательные, напишешь в Верховный суд РСФСР и республиканскому прокурору. Тогда тут, на месте, зашевелятся. Согласен?
— Ради этого я и пришел к тебе. Чувствую и знаю, что правда за мной, а вот слов не хватает, чтобы все толково изложить. Поможешь, век не забуду. Последнюю рубашку продам, но в долгу не останусь.
— Рубашку можешь оставить.
— Это я так... Вот скоро посылку получу, поделюсь.
И вообще, Валерий, давай кентовать. Я вижу, ты мужик толковый, серьезный. Выйдем, возьми в помощники, чем бы ты не занялся. Никогда не подведу, я добро умею помнить. Как на себя можешь положиться.
— До воли еще дожить надо. Но, если мне память не изменяет, ты, как только пришел, сказал, что на администрацию колонии решил жаловаться? А мы с тобой телегу на следствие и суд сочинили...
— Ия лежу и думаю, когда это он до сути дойдет,— подал голос со своей койки Дудинский.— Прибежал, кричит, что поразгоняет все начальство колонии, что не простит никому, а сам все о другом толкует...
— Мне Валерий сказал все по порядку рассказывать. Вот и начал с начала. До колонии еще очередь не дошла. Если можно, я после обеда приду?
— Правильно глаголешь,— изрек Дудинский.— А то нагнал аппетит своими росказнями. Перед второй серией подкрепиться не мешает.
Виктор ушел. И только за ним закрылась дверь, как Волкогонов начал мне советовать:
— Ты задаток у него возьми, аванс. Гляди, чтобы не вышло, как с Мельниковым. Обдурит, а потом ищи ветра в поле, точнее — в другой зоне.
— Тебе-то какая забота? На проценты рассчитываешь? — поддел его Нурали.— Прокурор не такой дурак, чтоб с тобой делиться. К тому же Мельникова привел ты. Забыл, что ли?
— И этого я сосватал...
— Вот публика! — не выдержал я.— За меня решают, сколько брать и когда. А если я бесплатно?
— Зря ты это. Он местный, дачки может запросто получать, не то что ты из своего Минска. Так что пользуйся моментом, прокурор!
— Без сопливых обойдемся! — Волкогонов успел надоесть своей назойливостью, мелочностью, неистребимым желанием урвать кусок с чужого стола. И я решил не церемониться с ним, при каждом удобном случае ставить его на место.
— Что, съел? Получил выволочку? — поддержал меня Дудинский, тоже не испытывавший особой симпатии к Волкогонову. Тот обиженно умолк. Молчал он и во время обеда, слышно было только его громкое чавканье. Отучить его от свинской привычки жадно хлебать из миски нам так и не удалось. Горбатого могила исправит...
К вечеру Виктор пришел снова. В знак благодарности (маленький аванс) принес несколько стержней для авторучки. Так что первую плату за труд я уже получил.
Мой клиент на этот раз был более логичным, сосредоточенным. Видимо, не раз прокрутил в голове все факты, которые хотел сообщить мне, вспомнил все обиды, все придирки со стороны начальства ИТК.
— Поначалу я считал, что мне повезло: как-ни-как, оставили в Свердловске, в колонии номер два. Это жена постаралась, пообивала пороги. Пошли навстречу — к этому времени Валя родила второго ребенка. На кого же она двоих оставит, когда на свидание поедет? В общем, вроде бы пофартило. Но уже в карантине начались неприятности. Активисты подступили с ножом к горлу: вступай в общественники — и все тут. Но я еще заранее решил, что буду просто тянуть лямку, пахать, как на работе. Тем более, что профессия у меня нормальная — электрик.
— Раскатал ты губу! Думаешь, так тебя по специальности и поставят? Эта работа считается халявной, в электрики по блату устраивают,— прокомментировал Дудинский.
— Это я после понял. Но что сразу отказался идти в «красные» — это факт. И когда в отряд попал, тоже не поддался на уговоры. И завхоз на меня давил, и его подпевалы, но я уперся. Это же западло — таких же зэков закладывать, перед хозяином выслуживаться. Правду я говорю?
— Истинную правду,— подтвердил Нурали.— У нас только вот этот тип задницу начальству лижет,— показал он на Волкогонова.
— Каждому свое,— огрызнулся тот.— Я досрочно домой хочу. А каким способом — это мое дело.
— Он может на задних лапках ходить, я — нет,— продолжил Виктор.— Вот и начали меня в отряде прижимать. Сразу же в ночную смену загнали. Поставили на клепочный станок. А он добитый, его в музей пора сдавать. Короче, не сделал я норму. Те же активисты кричат: «Бригаду подводишь, мы за тебя пахать не будем!»
— Да, бригадный подряд. Или — один за всех, все за одного...
— Правда, перевели на другую операцию. А там работа тонкая, зрение хорошее нужно. У меня же — плюс четыре... Как ни стараюсь, а брак все равно лезет. Мастер орет, работяги-зэки бочки катят, обещают отметелить... Пошел к начальнику цеха, попросил, чтобы поставил работать отдельно. Тот оказался нормальным мужиком: перевел в пресзал, отливать пластмассовые крышки. Лады.
— Повезло. Штампуй себе — и никаких забот,— заметил Нурали.
— Ия так считал. Сразу потребовал, чтобы отремонтировали пресс, наладили его. И пошел гнать план, даже перевыполнял норму. Думал, буду вкалывать на совесть и безо всякого актива хорошую характеристику заработаю. Я и на воле, когда на «Химмаше» работал, не очень лез вперед, не высовывался. Делал свое дело.
— С такими коммунизма не построишь,— опять ввязался в разговор Волкогонов.
— Иди ты с твоим коммунизмом знаешь куда? И следователь, наверное, коммунист, и прокурор, и судья... А меня на зону ни за что загнали... Да ладно, чего там... Я и говорю, вроде наладилось у меня — штампую крышки, все чин-чинарем. Но приглянулось мое место кому-то из стариков. Решили съесть меня. Стали липовые акты составлять, что я гоню брак. Что ни смена — то на меня телега. Пошел разбираться, до самого опера добрался. Проверили мою продукцию — крышки качественные. Дали втык кому надо.
— Накапал, значит, на своего же брата-зэка? Шестерить начал? — Это не удержался от подколки Волкогонов.
— Чья бы коровка мычала,— фыркнул Нурали.— Не меряй всех по себе.
— На воре шапка горит,— добавил Дудинский.
Не ожидавший такой атаки, Волкогонов затих, а Виктор, переждав пикировку, повел рассказ дальше:
— Не вышло у того кодляка с липовыми актами, решили достать через зарплату. Знаю, что перевыполняю норму, а начисляют копейки. Добрался до бухгалтерии, выяснил, что мне закрывают наряды совсем за другую деталь, где расценки самые низкие. Оказывается, бригадир «химичил». Дошло до заместителя начальника колонии по режимно-оперативной работе. Тот поднял шум, и бригадир загремел в ПКТ.
— Помещение камерного типа,— расшифровал Волкогонов.
— И без тебя знаем, не первый год замужем,— отстранил его от разговора Дудинский.
— Тут и началось. Кент бригадира пообещал отомстить. И на каждом шагу стал придираться, жизни не стало. Дело до мордобоя доходило. И хотя не я был зачинщиком, в другой отряд, а после и в другую бригаду, перевели меня. Я — салага, а у того полцеха кенты. Снова мне самый старый пресс подсунули. Как ни карячусь, чуть больше половины нормы даю. Опять на меня бочки покатили. Но тут повезло — пресс на капитальный ремонт поставили, и стал я пахать на подхвате. По всем операциям прошел, пригляделся, что к чему.
— На пользу, значит, пошло.
— Получается, что так. Но лишнее на пуп брал. Не по своей охоте, заставляли. И нажил, стыдно сказать, геморрой. Молодой мужик, а такая болезнь. Сделали операцию, вырезали шишки эти. После больнички мастер поставил на легкую работу. И опять на меня зэки окрысились: мы, говорят, план даем, а он... груши околачивает. Мастер, чтобы кипиша не было, поставил меня на пресс. И я в первый же день дал две с половиной нормы...
— Стахановец!
— Я же говорил, что вкалывал подсобником, около всех машин и станков потерся. Вот и пошло-поехало: два месяца подряд по двести процентов даю. Бригада первое место получает, все довольны. А я больше всех — подкатило время подавать заяву на условно-досрочное. Но только какой-то невезучий я. Уперся рогом отрядник, не хочет ксивы оформлять...
— Что же, он прав по-своему: зачем ему ударника отпускать? Дураков работа любит,— философски заметил Дудинский.
— Потопал я к начальнику колонии. Все и выложил: как, что и почему. Тот пообещал, что заставит отрядника подготовить бумаги на первую же комиссию. Обрадовался я, конечно, думаю: прощай, зона!
— Наивняк, салага,— ухмыльнулся Дудинский.— Непосредственного начальника объехать задумал. Да он тысячу зацепок найдет, чтобы прижать тебе хвост. Не дуй против ветра, парень.
— Так и получилось,— вздохнул Виктор.— Не успел я в цех придти, как мастер коршуном налетел: где, мол, болтаюсь? И отправляет... к психиатру. Я говорю, что не записывался на прием, а он и слушать не хочет. Иди, говорит, и не выступай. Прихожу к врачихе, а она и спрашивает так ласково: «Скажи, дружок, правда ли, что ты повеситься хотел?» Я глаза выкатил на нее, аж заикаться стал... Врачиха проговорилась, что информацию эту получила из оперативной части...
— Конечно, дурной. Две нормы выдавать — это же надо додуматься! И еще права качать вздумал,— не утерпел и загнал шпильку Волкогонов.
Но Виктор даже глазом не повел в его сторону; он торопился выложить наболевшее:
— Вернулся в цех, а там уже звон пошел... То один подходит, то другой: «Что, правда, в дурдом забирают?..» Оказывается, отрядник слушок пустил. А мастер даже подколол: «Задумаешь вешаться, так не делай это на участке. Зачем мне лишние неприятности?» Но ни хрена у них не вышло — побазарили и притихли. А тут еще мне премию подкинули — пятнадцать рублей... В общем, стал я готовиться к выходу на «химию». Уже и отрядник сдался, сказал, что бумаги подготовит. Работаю, жду комиссии, но...
— Опять во что-нибудь влез? — нетерпеливо спросил Нурали.
— И понимал, что не надо высовываться, а не вытерпел... То ли команда откуда поступила, то ли начальник колонии с замполитом сами придумали, но появился в цехе «ящик гласности». На собрании или лекции объявили, что каждый может бросить туда бумагу с предложениями, как улучшить работу. Я сдуру и написал про все беспорядки: как нарочно портят станки, как приписками занимаются, как зажимают тех, кто чем-то не понравился начальству.
— Ты же самый настоящий активист, только подпольный,— ухмыльнулся я.
— Натура у меня такая: работать — так работать, а не сачковать. Но послушай. Написать я написал, но в ящик этот не бросил. Понимал, что многих цепляю, начальство в первую очередь. А тут как раз шмон. Нашли мою писанину, прочитали. Завхоз, мастер, начальник цеха забегали, стали уговаривать, чтобы я забрал бумагу. А я уперся: передавайте, мол, начальнику колонии — и все тут.
— Шлея под хвост попала...
— Думал сделать, как лучше, а вышло наоборот. Начальнику цеха выговор вклеили за развал работы, а меня отрядник специально похвалил за рацпредложения.
— Лопух ты, лопух! Ничему тебя жизнь не научила. На воле и то такое не прощают.
— Так и вышло. На комиссии меня бортанули... Я до сегодняшнего дня не врубился, почему. Врачиха по зрению дала какое-то заключение, и меня оставили на зоне.
— Тут что-то не так. По состоянию здоровья могут освободить, а не оставить.
— Ия так думал. Но они там все друг с другом повязаны, одна шобла. Та же врачиха, когда я хотел добиться ограничения на тяжелые работы, ухмыльнулась и заявила, что таскать кирпичи и копать лопатой можно и в очках. Короче, перевели меня в другой отряд, а там зажали по-настоящему. Что ни сделаю, все — не так. Мастер оказался зверь-зверем. Я психанул и отказался выходить на работу.
— И загремел, конечно же, в ШИЗО?
— Туда, на десять суток. Вышел, от ветра шатаюсь, а меня на работку потяжелее. И докладные на меня пошли сразу, что брак выпускаю. Начальник цеха разгон мне устроил, а я в ответ послал его подальше. Снова ШИЗО. Подохну, думаю, в этих изоляторах. Взял и накатал жалобу прокурору по надзору. Прокурора не дождался, а к хозяину колонии все-таки попал. «Не умеешь ты жить с людьми. Все жалуешься, всем недоволен. И на мои погоны замахнулся. Нехорошо.» Я понял, что помощи от него не будет и решил идти до конца. Сочинил еще жалобу на имя прокурора...
— Они же за ворота зоны не выходили, лапоть,— решил показать свою осведомленность Волкогонов.— Кому охота неприятности иметь?
— Прокурора я все-таки увидел. Не знаю, специально ко мне приезжал, или ему по плану положено, но выслушал он меня. Поверил — не поверил, но сказал начальнику колонии, чтобы дали мне возможность спокойно работать.
— Дежурная фраза, лишь бы ты не дергался.
— Все это я давно понял. Но остановиться уже не мог. А тут еще дали «хорошую» работу — сделали подсобником. Каждый, кому не лень, гоняет: подай, принеси, убери. И все это с подначкой: что, мол, добился справедливости? Заездили, чуть ноги тягаю. Объявил в знак протеста голодовку. На десятый день потерял сознание. Пришел в себя... в дурпалате, в изоляторе для психбольных.
— А почему там?
— Это у них надо спрашивать. А потом отправили в психиатрическую больницу. Мне одна врачиха сказала по секрету, что администрация решила таким образом сплавить меня из колонии, чтобы не мешал спокойно жить. Обследовали меня и никакого лечения не назначили. Ни таблеток, ни уколов, ни процедур. Только там и нормальный дурным сделается. Санитарами, как правило, уголовники со строгого режима, они долго не разговаривают. Кто не понравится или права начнет качать, скрутят и загоняют сразу четыре «успокоительных» укола. Ни врачи не знают, ни медсестры. А, может, и знают, но им наплевать... Так вот, после этих уколов на человека глядеть страшно: дергается весь, хрипит, голову запрокидывает, бормочет что-то... Один мужик после такого «лечения» пролежал два дня под капельницей и концы отдал. И ничего, только санитаров куда-то убрали.
— Но тебя же не кололи?
— Не вытерпел один раз, шум поднял, что издеваются над людьми. Так и мне вшпилили сульфазина. Думал, в самом деле сойду с ума. Так что этот поселок Азан- ка, где находится больница, я хорошо запомнил.
— У тебя, оказывается, богатая биография. А на вид — почти малолетка.— Дудинский даже поменял покровительственный тон на уважительный.— И настырный ты...
— Не люблю, когда на мне ездят, это точно,— подтвердил Виктор и поинтересовался у меня: — Валерий, ты успеваешь записывать, я не быстро рассказываю?
— Нормально. Правда, много лишних деталей, их в жалобу не вместишь.
— После отберешь самое главное. А мне так проще рассказывать... Так я продолжу? Дали в больнице справку, что я здоров, и этапом — в колонию. А там меня не ждали, точнее, не хотели видеть. И сразу же начали давить со всех сторон. Зэков подговорили, начальство придирается, особенно шавка эта — завхоз. Я ему под злую руку пообещал башку проломить. Тот сразу же капнул, куда надо. Снова разборки, снова давиловка. Ну, дамаю, сколько же можно? Собрался с духом и написал жалобу аж в Президиум Верховного Совета СССР. На восемнадцати (!) страницах. И отдал отряднику. Попала она к начальнику колонии; вызывает: «Наказания тебе выносил я. В моих силах и снять. А жаловаться куда-то не следует». «Мое право,— говорю ему.— Отправляйте!» Вечером снова поволокли к нему. Объявляет: «За невыполнение распоряжения начальника колонии назначить 15 суток ШИЗО». «Какое распоряжение? — спрашиваю.— Вы мне ничего не приказывали. Где закон, где правда?» Чтоб не базарил, на меня наручники — ив ШИЗО.
— Прописался ты там на постоянно.
— Решил добиваться своего до конца. Сразу же отказался от приема пищи и потребовал встречи с прокурором. Явился ко мне сам начальник колонии и предупредил: «Голодовка — это твое личное дело. А вот работать ты обязан». И отправляет на три месяца в ПКТ — помещение камерного типа.
— Все круги ада...
— Но я и там отказался от работы. А режимник подсказал зэкам, которые там были, чтобы силой заставили меня пахать. Целый кодляк набросился; впихнули в рабочую камеру. Старший из них пригрозил, что если буду упираться, отметелят. И вломили, что до сих пор бока болят. Ногами били, кулаками. Рубашка была вся в крови, после к телу присохла. На мои крики о помощи никто не отозвался, будто и не было никого из дежурных.
После обеда (я от него отказался) вызвал меня прапорщик. А у него в комнате молодые врачи-лейтенанты. Осмотрели меня, сказали робу снять. А я не могу — не отдирается от спины, сплошные ссадины и кровоподтеки.
— Побои хоть зафиксировали?
— Решили отправить в эту больницу, где мы сейчас. Пока ожидал этапа, успел написать заявление прокурору по надзору. По дороге опустил письмо в ящик. Думал, что незаметно, но сопровождающий врач усек. Не успел переодеться в больнице, как приперся началь ник режимной части колонии и какой-то незнакомый офицер. Показывают мое письмо и требуют, чтобы я дал расписку, что добровольно забрал его. Я отказался. Вот тогда и началось... Вспомнить страшно! Я уже рассказывал, что перепадало мне в последнее время немало, но так еще ни разу не били... По почкам, по печени...
— Профессионалы, сволочи! — скрипнул зубами Ну- рали.
— Отключился я. Очнулся утром, перед завтраком. От еды отказался — решил держать голодовку, да и не лезло ничего в горло. Но соседи по палате объяснили, что в больнице, по зэковским законам, голодать нельзя. Так же, как заниматься любыми разборками. Для этого, мол, есть зона. Пришлось хотя бы для вида хлубнуть несколько ложек супа. Ворочаюсь весь день на койке: ни на животе, ни на спине лежать не могу, такая боль. Ночью не выдержал, позвал сестру. Та даже ахнула, когда увидела, как меня отделали. Перевязала, дала два каких-то укола. И я вырубился. Сколько спал, не знаю. Соседи говорили, что меня будили, кормили, и я снова отключался, но в памяти этого не осталось. Чуть оклемался, переодели и доставили в пересыльную тюрьму. Да, перед отправкой всунули еще какой-то укол. Думал, не выживу после него — корежило всего, выворачивало, голова раскалывалась...
— Да, парень, натерпелся ты...
— И куда, вы думаете, меня привезли? Опять в психбольницу, в Азанку. Врачиха, у которой я в прошлый раз был, аж побелела от злости: «Ты же здоровый, чего они над тобою издеваются? Я в их темных делишках участвовать не хочу». Пообещала выяснить, как я к ним попал, кто это постарался. Что она узнала, не знаю, но в больнице пролежал пятьдесят дней. И опять никакого лечения. Болтался, как дерьмо в проруби.
— Точно ты себя определил... Хороших людей в дурдом не отправляют,— Волкогонову, видимо, наскучил рассказ Виктора и он решил выдворить его из палаты.
— За это я могу и башку проломить,— на удивление спокойно отреагировал Виктор и повернулся к обидчику. 'Это спокойствие и ледяной тон подействовали мгновенно — Сергей пулей вылетел за дверь.
— Не обращай внимания. У него язык, как помело. Для каждой дырки затычка...
— Видал я таких. И на зоне, и в психушке. Потерпите, мужики, скоро закончу. Выписали меня из больницы, опять дали справку, что никакой я не шизик. И возвращают в колонию. В «Столыпине» успел написать прокурору по надзору, что прошу поместить меня в тюрьму. В колонии, я понял, жизни не будет. Но кто зэка, да еще такого, как я, слушать будет? Из вагона — в «воронок» и к воротам в ИТК. Я упираюсь, выходить не хочу. Впустили ко мне собаку, нацепили наручники и выволокли. Встретил сам замначальника по режиму, подполковник. Не пойду, говорю, на зону. Он дал команду, меня под руки — и к хозяину. Тот вроде бы подобрел. Предложил баш на баш: я выхожу на работу, перестаю писать жалобы, а он снимает все наказания. Нет, думаю, не нужен мне такой договор. Он, может, и не станет меня трогать, зато в цехе добьют. Не выживу, это точно. В общем, отказался.
— Смелый ты, однако!
— А мне нечего терять... Посадил он меня в ПКТ, а там тот же старшой, что бил меня ногами. Ходит кругами, ищет, к чему прицепиться. Сжал зубы, молчу, терплю. И — как и раньше — от еды отказался, прокурора требую. Пан, решил, или пропал... Но тут повезло: наткнулся на начальника медчасти, пожаловался, что печень болит постоянно. Тот только посмотрел на мой язык и сразу же отправил меня сюда... И хозяин упираться не стал. Сорок дней я тут кантуюсь.
— Долго что-то.
— Наверное, не знают, что со мной делать. Пусть думают, но на зону я не вернусь.— Виктор выговорился и теперь с надеждой смотрел на меня.
— Врагов ты нажил себе под самую завязку. Но попробуем бороться. Ты хоть один ответ на жалобы получил?
— Нет. Думаю, что их вообще из зоны не выпускали. И переписки с женой на полгода лишили. Жил, как в мешке. Только вот сегодня письмо от Вали отдали. Я даже не поверил.
— Скажи спасибо Валерию,— подыграл мне Дудинский.— Начальство узнало, что ходишь в нашу палату, толкуешь с ним. А его дело вела прокуратура Союза. Вдруг он каким-то образом сообщит о тебе, мало ли какие у него каналы. Вот и зашевелились они.
Я промолчал, не желая ни разубеждать Виктора, ни обнадеживать преждевременно. Но Дудинский, судя по всему, оказался прав. Через два дня Виктор влетел в нашу палату радостный, возбужденный; разоткровенничался.
— Меня только что вызывали в оперчасть. Сообщили, что все жалобы отправлены. Во-вторых, разрешили короткое свидание с женой. И, самое главное, пообещали на следующей неделе дать длительное свидание, на двое или трое суток! И посылку скоро получу! Это же надо — такие перемены! Я уже и не надеялся ни на что.
— Здесь фирма солидная, прокурорская,— будто это он помогал Виктору, важно сказал Дудинский.— Не забудь только спасибо сказать.
— Да я..., да я...,— начал заикаться от волнения Виктор.— Как только посылку получаю, делим пополам. И вообще, Валерий, считай, что я твой вечный должник. На край света за тобой пойду! В Белоруссию твою поеду... Работать я умею, у жены специальность есть... Надоел мне этот Урал...
— Поживем, увидим,— охладил я его пыл.— Главное, чтобы мы здесь не задержались. Домой давно пора!
Слова о доме вырвались у меня не случайно. Во время обеда мне отдали письмо от старшей сестры, Зины. Я ей написал, как только лег в больницу, но просил подождать с ответом, поскольку не знал, как долго продержат меня врачи. Но она, конечно, сразу же забыла о моих наставлениях. Ей было все равно — в Свердловске я получу письмо, в Нижнем Тагиле... Если брат в беде, тем более в больнице, какие тут могут быть ожидания, какие отсрочки... Зина всегда была такой — готовой подставить не такое уж крепкое женское плечо, взвалить на себя горести, лишь бы близким, родным было хорошо.
И вот вечером я перечитывал бесхитростные строчки: «Валерочка, дорогой, любимый мой братик!!! Береги здоровье, потому что все скажется под старость. А на тебя у нас вся надежда. Мы ждем тебя, как Бога. Валерочка, ты извини, что я не приехала к тебе вместе с Людой, я, сдается, птицей бы к тебе полетела, но что сделаешь, не всегда так получается, как хочешь. Очень заболела мама, у нее было воспаление, и я у нее была целую неделю. Сейчас, слава Богу, ей лучше. Ты знаешь, как она тебя любит. Все спрашивает, как ее любимый сыночек, когда она тебя увидит. Мы ее все успокаиваем, говорим, что скоро вернешься. А она, как только мы на порог, сразу про тебя разговор заводит. Все про тебя и про тебя.
Дорогой братик! Будь таким, каким был наш папа. Все войны прошел, но человеком остался. Мы верим, что будет и у нас большой праздник, соберемся вместе и заживем счастливо.
Митя наш работает на машине. Хозяйство домашнее смотрит, не беспокойся. Все у нас в порядке, не хуже, чем у других. Досмотрено все, убрано. Маме не стыдно за детей.
У меня радость. Получила пенсию сто двадцать рублей. На жизнь хватит. Столько отработала во вредном цехе, все старалась и старалась.
С Людой твоей мы дружим. Часто бываю у нее и Ин- ночки. Так что не переживай за них. Одних мы не оставим, у нас одна семья. Была я и у Людиного отца, он тоже болеет. Но ничего, даст Бог, поправится. Ты про нас не заботься, про себя больше думай. Береги здоровье. Возвращайся скорей. Ждем тебя не дождемся. Крепко целую. Твоя сестра Зина».
Я долго разглядывал дорогие странички, к которым недавно прикасались натруженные руки моей старшей сестры. Мне казалось, что на тетрадных листках остались даже пятна от слез. А, может быть, это я не сдержался? Закрывал глаза, и виделась родная улица, отцовский дом, где на пороге стоит старенькая мама и все пытается увидеть в дали фигуру пропавшего сына...
Меня отделяли от дома предгорья Урала, заволжские степи, среднерусская равнина — многие сотни километров. Виктору, чтобы встретиться с женой и детьми, надо было только выйти за ворота колонии; Дудинского этапировали с Украины, Нурали — из Казахстана. Лагеря, тюрьмы, да и больница, в которой я лежал, представляли собой в миниатюре всю страну, гражданами которой мы являлись, на тот момент, к сожалению,— бесправными гражданами. Я и мои соседи по палате, товарищи по несчастью, правдами или неправдами, но старались побыстрее вырваться на волю, оставить за спиной и колючую проволоку, и часовых на вышках, и злых сторожевых псов. А вот одноглазый, сгорбленный, с лицом, как печеное яблоко, шестидесятилетний Константин и не помышлял о досрочном освобождении. Он отбывал семилетний срок в нашей спецбольнице, выполняя самую грязную работу — убирал в туалетах, мыл полы, опорожнял мусорные баки. Его скособоченная фигура с метлой или шваброй в руках постоянно мелькала в коридорах, во дворе, в отхожем месте. Его «коллеги» по хозбригаде помыкали им, как хотели, и он безропотно выполнял все, даже самые нелепые, приказы. Иногда, улучив свободную минуту и вырвавшись из-под надзора своего начальника-зэка, он несмело просовывал голову в приоткрытую дверь нашей палаты и робко спрашивал:
— Моя зайти можно?
— Заходи, дедушка, не бойся.— Почему-то все мы, даже Волкогонов, если не симпатизировали ему, то, во всяком случае, жалели его. Константин был представителем малочисленной народности — манси. Русским языком он владел довольно сносно, только вот падежи и склонения ему никак не давались.
— Моя посиди немножко. Замучилась...
Часто моргая единственным слезящимся глазом, он бочком пристраивался на краешке койки у самых ног и произносил традиционную фразу:
— Убрать чего надо?
— Да у нас все в порядке. Отдохни.
Константин сплетал узловатые пальцы, шумно вздыхал, плечи его опускались; и без того маленький — где-то около полутора метров — он будто усыхал, и сразу возникала ассоциация с каким-то восточным божком, которому поклонялись его древние родичи. Я как-то спросил, возможно невпопад, верит ли он в духов.
— Моя крещеный,— гордо ответил Константин.— И женка моя, и девка.
— Так у тебя и дети есть?
— Померла. Пять лет было. Чум холодный.
— Значит, ты еще в чуме живешь?
— Оленя пасу — в чуме живу. Прихожу в поселок — дом деревянный есть. Там живу.
— Пастухом работаешь?
— Пожарник я, однако. На зоне...
— Интересно... Тоже в органах, выходит?
— Твоя спичка бросит, сигарета — тайга горит быстро. Начальник был — командир...
— Кем же ты командовал? — недоверчиво переспросил Нурали.
— Отделение. Потом бойцом стал.
— Понизили, значит?
— Лейтенант сказал, что надо.
— Сел-то за что, дедушка?
— Убил Василия...
— Ты убил человека? За что же?
— Он моя стрелять хотел, за ружьем бежал. Горячий, однако.
— Ну знаешь...
— Василий пять лет сидел. Стрелял соседа.
— Прямо, как на Сицилии,— не сдержал я улыбки.— А с виду тихие.
— Василий с бабой брагу пил. Хмельные были.
— Расскажи-ка подробнее.
Константин немного оживился, уселся поудобнее.
— Пришла баба Самбитакова. Просила олешек в горы гнать. Лето, однако. Мая начальника просит, отпуск берет. Погнал. Его сорок штук, моих — шестнадцать. Потом братья Самбитакова своих добавили. Стало сто двадцать.
— Большое стадо.
— Богатые, однако, люди. Пригнали стадо. Стали брагу пить. Я не пил, болею после.
— Не идет, значит, брага? — заинтересованно спросил Волкогонов.— А водку любишь?
— В лавку не завозят. Манси пьют много, дурной становится. Дерутся.
— Принесли, называется, цивилизацию. Споили народ, вырождается.
— Они пьют, песни орут. Посчитал олешка — одного нет. Сказал хозяевам. Ругаются шибко. Мой сосед Василий с ними пил. Грозился дом спалить. Бить стали. Василий, Самбитаков, баба его. Едва ушел, однако...
Утром моя в дорогу собрался. Они рано проснулись, опять брагу достали. Кружку дают: «Пей, Константин». Отказался, однако. Вышел из юрты, шибко пошел. Голос слышу. Моя смотри — Василий бежит, побить хочет. Достал топор. Василий увидел, назад побежал, к юрте. А там ружье висит. Моя видел. Убьет, думаю. Стрелял уже соседа. Я догнал, топором ударил.
— Зачем? Он же убегал?
— Он за ружьем бегай. Моя знает. Упал Василий. Баба вышла, спрашивай: «Ты что, убил?» Моя ухо приложил, слушай: «Дышит, однако». Самбитаков с бабой в поселок побежали. Милиция вызывать. А я ходи в Ушма, поселок другой. Идет машина, сел, еду. Милиция стоит. «Ты стрелял?» Нет, моя говори, топором бил. Повезли Ивдель, район. Моя рассказывай, как было... Семь лет судья дал.
— Может, обжалуем решение? Могут скостить срок: тебя избили, Василий мог вообще убить.
— Не надо. Тогда судья десять лет давай. Шибко не любит, когда жалоба. Сердитая, однако.
— Дело твое, дедушка. А не боишься, что Бог не простит убийства? Грех большой на душу взял.
Константин как-то безразлично махнул рукой, проговорил:
— Василий, однако, не крещеный. Шаману верил. Темная был...
Мы переглянулись с Дудинским: конец двадцатого
века, ракеты к Венере и Марсу летают, у нас какая-то перестройка идет, социализм с человеческим лицом создается, а тут спокойно убивают нехристя, не чувствуя раскаяния. А того, наверное, под удары бубна провожает в последний путь шаман. Фантасмагория какая-то...
Наш гость, польщенный вниманием, даже распрямился, в единственном глазу промелькнула живая искорка.
— А где второй глаз-то потерял, дед? — Не сдержал любопытства Волкогонов.
— Пожар, однако, тушил. Искра попадай, глаз вытек.
— Тебе же пенсия положена, если на работе покалечился.
— Зачем пенсия? Начальник на работе оставляй, зарплата плати. Форма носи.
— Умный ты, однако,— в тон Константину заметил Нурали.
— Умный, умный,— закивал головой наш гость. Он улыбнулся, и его широкоскулое лицо будто превратилось в медный диск, расчерченный продольными линиями.
Но улыбка сразу слетела, лишь только отворилась дверь и зашел вечно недовольный завхоз.
— Чего расселся, рожа немытая? Марш сортир убирать, ублюдок несчастный!
— Иду, иду. Моя быстро все делай.— И Константин засеменил к выходу.
— Еще раз засеку, что филонишь, выгоню на зону! Расселся тут...
— Заткнись, прихлебатель! — взорвался я.— Нашел на кого орать — на такого же зэка. Шишка на ровном месте, а туда же — глотку дерешь!
Завхоз, амбал с откормленной ряшкой, опешил на мгновение, но потом огрызнулся:
— Тебе-то какое дело? Он в моем подчинении, куда захочу — туда и пошлю. И не суйся, куда не просят!
— Не поднимай хвост, не прыгай! Этот дед в два раза старше тебя, а ты ёго, как мальчишку, гоняешь. Сам возьми метлу в руки; не переработался.
Такого отпора завхоз не ожидал. Он удивленно посмотрел на меня, повертел пальцем у виска: чего это, мол, за доходягу заступаюсь, и вышел из палаты.
— Нажил ты себе врага, прокурор,— заметил Волкогонов.— Чуть что — накапает, заложит.
— Мне с ним детей не крестить. А всякой сволочи уступать не намерен.
— Правильно, Валерий,— поддержал Нурали.— От таких гадов больше вреда, чем от администрации. Выслуживаются, как могут; на нашем горбу в рай хотят.
— Что касается меня, то этот упырь где сядет, там и слезет. И еще по шее схлопочет,— успокаиваясь, сказал я.— Но и деда в обиду не надо давать, человек все же...
— Пожалей, пожалей -его, а он тебя — топором по башке.— Волкогонов выстрелил эту фразу уже на пороге и выскочил в коридор.
— Вот шавка. Укусит — и смывается быстрей,— сплюнул Дудинский.
— Я не беру до головы. Его уже не исправишь.
Тут дверь приоткрылась, и я уже подумал, что Волкогонов хочет «гавкнуть» еще раз, но в палату вошел еще один проситель, однорукий санитар.
— Везет тебе сегодня на инвалидов,— улыбнулся Дудинский.— Тот — без глаза, этот — без руки.
— Что, Константин тут был? — переспросил вошедший.— Его завхоз куда-то погнал.
— Было дело под Полтавой... Ты с чем пришел?
— Говорят, ты толковые жалобы пишешь. Помоги, друг, и мне, а?
— С чем не согласен? Срок не тот, не виноват, может?
— Сел я по делу, вернее, по пьянке. Я про инвалидность свою поговорить хочу. Помоги.
— Вали кулем.
— Руку эту,— он показал на правый пустой рукав,— мне ампутировали после производственной травмы. И дали всего лишь третью группу.
— Нетрезвый был?
— Что ты? На работе я не пил. Это уже после загулял. Ну, что это за пенсия — пятьдесят рублей?! Слезы, только и остается, что за бутылкой идти...
— На ВТЭК был?
— Там, на комиссии, и группу назначили. Я упирался, требовал вторую, но меня, в общем-то, послали подальше.
— На мой взгляд, тебе положена вторая. Потеряна правая рука, причем выше локтя. Она у тебя, как говорят, основная, являлась кормилицей. Так что обжаловать решение ВТЭК основания есть. Если хочешь, напишем в Министерство здравоохранения... Какие у тебя с собою документы есть?
— В том-то и беда, что все мои пенсионные бумаги остались дома. Я, правда, написал, чтобы их прислали. Но пока ни ответа, ни привета... А время терять не хочется. То ли тебя выпишут, то ли меня выдернут. Как быть?
— Попробую написать с твоих слов. Тащи бумагу и два конверта. Один для твоего письма, второй — для моего. А то я поиздержался.
— За этим дело не станет.— Однорукий поспешил за требуемым..
— Поумнел ты, Валерий,— Дудинский одобрительно похлопал меня по плечу.— Конверт — да твой. Все не задаром.
— Не меряй по себе.— Мне и впрямь стало неудобно, но признаваться в этом не хотелось.— В самом деле, конвертов нет. Жене написал, сестре; жалобу отправил.
— Да не оправдывайся ты. Я не хотел тебя подколоть,— успокоил сосед.— Ты ж мозги свои тратишь, а это — самое ценное.
— Самое ценное — это здоровье,— поправил Нура- ли.— А у нас проклятая зона его забирает.
Нурали был прав. Как ни пытался я отвлечь себя (признаюсь, часто не бескорыстно) от главной заботы, она не давала покоя ни на минуту. Хоронить себя в лагере я не собирался, а в литейке могло случиться что угодно. Вся надежда была на врачей, на- их профессиональную честность и сострадание. Ведь давали же они знаменитую клятву Гиппократа, не очерствели их души даже здесь, в спецбольнице, где находятся хотя и преступники, но все же люди?
Очередной обход наш лечащий врач Ирина Васильевна проводила вместе с заведующим отделением. Присутствие начальства сковывало ее, она выглядела почти робкой практиканткой. Я чувствовал, что милая женщина побаивается шефа, опасается, как бы он не заподозрил ее в излишней снисходительности к пациентам. Читая историю болезни, назначенное лечение, результаты анализов, она немного сгущала краски, подчеркивала серьезность заболевания, подталкивая к мысли, что стационар — чуть ли не единственное наше спасение. Заведующий искоса поглядывал на нее, задавал уточняющие вопросы, расспрашивал нас о симптомах болезни, чем она вызвана, интересовался, наступило ли улучшение, скрупулезно проверял, выполняются ли все назначения врача. Никому из нас, естественно, не хотелось покидать больницу, хотя она и была тюремной. Поэтому мы старались помочь и себе, и нашему ангелу-храни- телю, соблюдая, правда, чувство меры. Когда обход закончился, Ирина Васильевна обернулась в двери и чуть улыбнулась нам. Мне даже показалось, что она подмигнула, как заговорщик.
— Мужики, давайте напишем благодарность Ирине Васильевне,— обратился я к соседям.— Столько добра нам делает.
— Баба — как баба, а какой она врач, я пока не знаю.
Я от удивления и возмущения сразу и не нашелся, что ответить нашему новичку — москвичу Андрианову. А тот как ни в чем не бывало закинул ногу за ногу и вызывающе посмотрел на меня.
— Ты что, считаешь, что она к нам плохо относится? — наконец спросил я.
— Отбывает номер — и не больше. Засуетилась перед начальником, заюлила. А нам-то какая польза от этого? Как я проверю, правильно она лечит или только делает вид?
— Брось ерунду пороть— Нурали не выдержал, вскочил с койки.— Это такая женщина, такая!.. Лучшей жены себе не желал бы.
— На кой ты ей сдался? Она, я слышал, капитан. А ты зэк бесправный. Плевать она на тебя хотела. И сейчас плюет. Отрабатывает свою зарплату — и все. Да еще, наверное, погорела где-то. Чего ей с такой публикой общаться, на бандитские хари смотреть? Добровольно сюда хорошего врача не заманишь.
— Ну и злости в тебе. Всех готов грязью облить. Ты хотя о ком-нибудь доброе слово сказать можешь?
— Все под себя гребут. Все в душе сволочи. А вы, прокуроры, в первую очередь. Ни одного порядочного не видел.
Такой переход меня не удивил. С первого же дня Андрианов — человек желчный, озлобленный на всех и вся — по поводу и без повода на чем свет костил моих бывших собратьев по профессии. Вначале я пробовал с ним спорить, затем понял, что это пустая трата времени. Но чем ему так насолили прокуроры, он пока не говорил. Не раскрывал карт и пришедший с ним вместе Ульянов, также вечно недовольный и окружающими и — нередко — собой. Сейчас, когда новичок беспричинно набросился на Ирину Васильевну и походя на меня, я не выдержал:
— Сам, чувствую, нагрешил, а на прокуратуру теперь бочки катишь. Кем служил?
— Откуда ты знаешь, что я служил где-то?
— По замашкам вижу.
— Ну, в угро был, инспектором. В Москве.
— То-то гонору много.
— Сколько есть — весь мой, у тебя просить взаймы не буду и делиться не стану. Особенно с прокурором.
— Что ты долдонишь одно и то же. В кашу они тебе нагадили?
— Хуже. Сюда из-за шкуры одной, прокурорши, загремел. Поверил ей, как дурак, раскололся. А она взамен _ шесть лет! Ты подумай: за каких-то вшивых двести пятьдесят рублей — шесть годков? Ну не сволочь она после этого! — Андрианов даже позеленел от злости.
— Видишь, сам говоришь про деньги. Взятка, видимо?
— Да какая там взятка?! Пришел ко мне участковый, попросил помочь прописать его знакомую. У меня кое-какие каналы были, согласился. И взял у него в долг эти несчастные двести пятьдесят рэ. Понимаешь, в долг! На время! Он, подонок, оказывается, у той бабы вытянул полтысячи. За услуги. И отстегнул мне половину. Вроде бы поделился.
— А при чем тут прокурорша?
— При том самом. Когда история эта выплыла наружу, он на следствии сказал, что брал деньги для меня. А я, лопух, не стал темнить, а как на духу и выложил. Да, мол, взял, но подчеркнул, что в долг. В результате он загремел и меня потянул.
— Друзей выбирать надо.
— Задним умом все мы горазды. Но с ним все ясно: хотел отмазаться, сука, на меня все списать. Но ведь прокурорша эта утверждала, что ей важна истина, что ни в чем дурном меня не подозревает. И выписала бесплатную путевку в Тагил. Надо же — кому поверил?! Проститутке последней. На вас же, прокурорах, клейма ставить негде. Все как один продажные!
— Умная, значит, женщина, если такого стреляного воробья на мякине провела. И пальцем не тронула, голос не повысила, не так ли? Сам сознался. А вот лучше скажи, как ты признания добывал? Уговаривал, увещевал, к совести взывал? Невиновных не задерживал, «липу» следователям не подсовывал? Что притих, речь отняло?
Одного вы поля ягоды... То требуете стопроцентной раскрываемости преступлений, то гоняете за недостаточность улик. А где я их возьму, улики эти? Что, преступник сам приходит ко мне и просит арестовать? А потом чистосердечно рассказывает, как ограбил или убил? Где ты таких идиотов видел? А вы, прокуроры, наседаете давай вам факты да еще неоспоримые. Вот и приходится выкручиваться.
Выкручиваться — это, надо понимать, подтасовывать, фальсифицировать? Втирать следствию очки? Так, что ли?
Бывает и так. Столько дел приходится сразу тянуть, что о качестве и думать некогда. Но ведь садите людей все-таки вы.
— Во-первых, не следователи, не прокуроры, а судьи определяют срок. Во-вторых, сам же сказал, что факты подсовываете вы. И с подозреваемым работаете. Вот только как работаете — это уж на вашей совести.
У вас с совестью не лучше. Моя баба, которой я все рассказал, потом еще и поддерживала обвинение в суде. Понимаешь, сама состряпала дело и сама же за прокурорским столом оказалась. Это же придумать надо такое! Бардак — да и только!
— Согласен, немного неэтично, но допустимо. Закон разрешает. А пока разрешает — значит, можно. Хотя УПК давно менять надо. Явно устарел,— решил я закончить бесплодную дискуссию.— Давайте вернемся к моему предложению. Кто согласен написать благодарность Ирине Васильевне?
— Я — за! — неожиданно поднял руку Волкогонов.
— Двумя руками голосую! — отозвался Нурали.
— Трех подписей от палаты достаточно,— подвел итог я.
— Пиши, пиши, только ей хуже сделаешь.— Добавил ложку дегтя дружок Андрианова, бывший тюремный контролер Ульянов.— Вы ей — благодарность, а начальство — выговор. Или вообще — погоны снимет. За связь с заключенными. Это в нашей системе не положено.
На свой аршин меряешь? Это ты, когда пушкарем был, наверное, чай в камеры подгонял, колеса доставал, письма передавал? Не бесплатно, конечно. И хотел, чтоб тебя поощряли, премии давали? Влип, так помалкивай.
А наш врач заслуживает уважения, душевный она человек.
— Чего базар разводить?! Пиши, Валерий, я в другие палаты сгоняю, еще людей найду, которые подпишутся.— Нурали загорелся идеей, и его трудно было остановить.
И мы составили благодарственное письмо И. В. Шушуновой, адресовав его начальнику Свердловского областного управления внутренних дел. Подписали его более двадцати пациентов Ирины Васильевны — это постарался Нурали. Он же привел ко мне еще одного клиента — седого кавказца, на лице которого выделялись орлиный нос и темные, будто зрелые маслины, глаза.
— Послушай, кацо, это ты такое красивое письмо написал? Я много лет прожил, но только у Руставели похожие строчки читал. Ты еще молодой — поэтом станешь, писателем. Ирина Васильевна влюбится в тебя...
Дудинский еле сдерживал смех, Нурали поспешно вышел, а я с недоумением смотрел на новоявленного поклонника. А гость не мог остановиться:
— Я человек прямой, всегда говорю правду. Богатую душу надо иметь, чтобы найти нужное слово. Приедешь в Тбилиси — дорогим гостем будешь, тамадой на праздниках станешь. Ай, такие слова, как песня наша грузинская.
Мне даже показалось, что старик вот-вот запоет гортанным голосом какое-нибудь «Сулико»...
— Чего тебе надобно, старче? — с трудом, но я смог перекрыть цветистый фонтан его дифирамбов.
— Помоги написать заявление,— неожиданно перешел он на прозу.— Хочу пригласить адвоката.
— Согласен. С этого и начинать надо было...
— Не обижай старика, генацвале. Я к тебе с просьбой пришел, но пока только добрым словом отблагодарить могу. Поможешь мне, значит, мой дом.в Тбилиси — твой дом. Самое лучшее вино — твое, самый вкусный шашлык — твой. Твои друзья — мои друзья...
— Хорошо, но давай переходить к сути.
— Люблю деловых людей, сам такой. Сейчас принесу нужные бумаги.
Новый друг ушел, а Дудинский предупредил:
— Смотри, прокурор, засветишься. Начальство не любит, когда жалобы потоком идут. Свяжешься с такими болтунами, быстро вычислят, кто подпольную адвокатскую контору открыл. Прикроют лавочку, а тебе шею намылят.
Я и сам понимал, что мое бумаготворчество может выйти мне боком, старался под разными предлогами отказать просителям. Но попробуй отвяжись вот от такого настырного и — чего греха таить — симпатичного старика. Тем более, что и просьба его была пустяковой: всего лишь заявление о приглашении защитника. Однако старый джигит не пришел ни через пять минут, ни через полчаса, ни назавтра.
— Молодого барашка ищет, чтобы шашлык приготовить,— подкалывал Дудинский.
— Или вино,— добавлял Волкогонов.
— Или зелень к шашлыку...
— Он на разведку приходил, узнать, кто в палате права качает,— желчно подытожил Андрианов.— Допрыгаешься, прокурор.
Все сомнения развеял сам старик. Буквально ворвавшись в палату на третий день, уже с порога зачастил:
— Извини, дорогой! Адвокат сам приехал, без вызова. Но ты мне все равно нужен. Будем писать жалобу на приговор.
— Зачем же я тебе? Адвокат и напишет.
— Я его отправил в Москву, пусть там по кабинетам ходит. А мы с тобой отсюда стрелять будем.
Против его напора трудно было устоять. Я сразу даже не заметил, что он говорит о нашем сотрудничестве как о давно решенном деле, не требующем моего согласия. Но чтобы направить его многословие в нужное русло, пришлось все-таки взять инициативу в свои руки.
— Ты вот зовешь в Тбилиси, а как здесь оказался?
— Тбилиси — это мой дом, моя родина. Жена там, сын, две дочери. Одна даже артистка, и муж ее артист. За границу ездят — уважаемые люди.— О семье, об успехах детей он мог рассказывать долго, поэтому я вернул его на грешную землю:
— Понятно, семья в Грузии, но ты здесь, в Свердловске...
— Были у меня неприятности с законом. Не понравились мы друг другу. Вначале дали за спекуляцию семь лет — отсидел пять, потом за кражу госимущества дали девять — отсидел половину.
— Да-а-а. Сроки солидные...
— Ай! Ты думаешь, я спекулировал или крал? Я сапожник, мое дело — шить туфли, ботинки, сапоги. Чтоб ты мог на свадьбу одеть, на концерт моей дочки. А где взять хороший материал, а? Приходилось искать.
— Но это дома, а тут?
— Сколько это?.. Да, семь лет назад собрались мы трое _ я и два знакомых армянина, все сапожники, и приехали сюда, на Урал. Есть такой поселок Заречный в Белоярском районе. Может, знаешь? Нет? Ну и хорошо, что не знаешь. Меня там арестовали.
— Так сразу и арестовали?
— Зачем сразу? Приехали, заключили договор, обувную мастерскую открыли в Заречном. Шьем, люди спасибо говорят. И деньги зарабатываем. Всем хорошо. Год работали, потом мои армяне уехали домой. Пришли ко мне двое местных — Гребнев и Рулов. Конечно, заменить тех не могли, но ничего, потихоньку научились. Заказчики идут и идут.
— За что же арестовали?
— Как-то осенью заходят два мужика. Не местные, но мало ли откуда клиенты могут быть? Поняли, что я старший, зовут на улицу. «Разговор есть». Не понравились они мне, не хотел идти, но, думаю, скажут еще, что боюсь. Вышел. Недалеко две машины стоят — «Волга» — такси и «Москвич». Там еще какие-то джигиты сидят. «Хозяин, кожа нужна?» спрашивают. Нет, говорю, чужого товара мне не надо. Они уговаривать не стали, сели в машины и уехали.
— Может, проверяли тебя?
— Проверяли не они, а через неделю ОБХСС. Все документы посмотрели, обыск сделали. Все у меня в порядке, ничего не нашли. Я уже и забывать стал, как приезжают в начале декабря те мужики, что кожу предлагали. И опять на такси. «Возьмешь кожу?» Отказался, подозрительные они какие-то! А сам думаю, что пора мне домой, в Тбилиси, собираться. Очень моей персоной заинтересовались. Но для начала уехал в отпуск — семью увидеть, место себе приготовить. Не могу я без дела сидеть. Руки-ноги есть, голова на месте. Мужчина должен деньги зарабатывать, чтоб в дом гостей не стыдно было позвать. Чтоб вино было, шашлык самый вкусный.
Он опять затронул любимую «шашлычную тему, но я, вспомнив следовательские навыки, перебил:
— Вернулся?
— Конечно. Побыл две недели дома и приехал. На комбинате «Уралобувь» — у нас договор с ним говорят, что меня разыскивает милиция Камышовского района. Я там ни разу не был, но поехал, это недалеко от Белоярского. Спрашиваю, зачем нужен, а следователь — Судаков его фамилия — говорит, что с местного кож- завода украли много продукции. Преступников арестовали, и они дали показания, что сбывали товар мне. Ты представляешь, летел самолетом из Тбилиси, чтобы попасть прямо к следователю?! Сам летел, без всякой повестки!
— Если надо, и в Тбилиси нашли бы,— вставил Волкогонов.
— А я никуда сбегать не собирался, дорогой. Была бы моя вина — тогда другое дело. Ничего не брал, ничего не покупал. Так и Судакову сказал, что мне предлагали, но оба раза отказался. Тогда делают очную ставку. И представляешь, кацо, те самые мужики и таксист говорят, что я покупал у них кожу. Все трое. Что делать? Их трое, я один. Кому следователь поверит? Конечно, им. Тем более, что они — местные, а я — чужой. Да еще две ходки за плечами.— Впервые за весь длинный разговор у него проскочил тюремный жаргон. Я уже и забыл о его судимостях, но тут подумал, что мой клиент не так уж и прост. А он продолжал: — Посадили меня в «воронок» и привезли в Белоярский, на квартиру к одной моей знакомой. И как только адрес узнали?
— Э, дед, ты еще, значит, и по бабам ходишь?
Рассказчик не счел нужным реагировать на возглас
Волкогонова.
— Сделали у нее обыск. Конечно, пусто. Поехали в Заречный, в мастерскую. И там ничего не нашли. Обыскали дом, где я жил, гараж, квартиры моих рабочих, Гребнева и Рулова. И нигде ничего.
Да, опыт у тебя есть,— то ли похвалил, то ли позавидовал Волкогонов.
Опыт, опыт... Просто я хотел зарабатывать деньги своими руками. А на зоне я уже побывал, мне сюда совсем не хотелось. На воле лучше, поверь мне, молодой человек... Так вот,— повернулся он опять ко мне,— продержали меня пять дней в КПЗ и отпустили. Правда, вначале под расписку, а через два дня вернули паспорт. Сказали, что дело прекращено...
Ничего не понимаю. Дело прекратили, так почему же ты баланду хлебаешь?
Не торопись, дорогой. Я так быстро, как ты, не умею. Надо все по порядку. А то жалоба плохая получится. Забудем что-нибудь. В моем деле все важно. Надо, чтобы в Москве прочитали и сказали: «За что честного человека посадили? Зачем позорите его седую голову?» Потерпц, пожалуйста.
Подогреть его надо, дед. Витаминчики ему нужны, сахар, чтобы голова светлой была. Тогда и напишет, как твой Руставели,— воспользовавшись паузой, вставил Дудинский.— А то когда те шашлыки будут, да и будут ли вообще.
— Обижаешь, дорогой! Я слово держать умею. Отоварюсь завтра, все ему принесу. А скоро и посылка придет. Кто ко мне с душой, я тому все отдам.
Лирическое отступление грозило затянуться, и я настойчиво повторил:
— Если дело закрыли, чего ты здесь остался? Домой же собирался, в Тбилиси.
— Начальство уговорило из комбината. Говорят: «Ты не виноват, план даешь, клиенты довольны. Работай, ты нам нужен». Это одно. А потом — как я уеду? Скажут, что испугался. Если сбежал — значит, что-то было. Зачем, чтобы про меня плохо думали? Остался, шью ботинки, туфли. Народ спасибо говорит. Ревизия приходит — у меня все в порядке. А весной 1984 года, в апреле, еще одна ревизия приехала. На этот раз джигиты из Свердловска, из ОБХСС области.
— Это сколько же прошло?
— Полтора года спокойно работал, ни о чем плохом не думал. Изъяли восемьдесят пять пар полуфабрикатов и пятнадцать пар готовых полуботинок. Товар был — другу не стыдно посоветовать. Мастерскую опечатали. Мне сказали сидеть на месте. Сижу, жду. Неделя прошла, говорят, что у меня все в порядке, могу работать. Зачем, думаю, мне такая работа? Я — человек старый, сколько меня можно дергать? Пенсионная книжка в кармане, никому ничего не должен.
Начал собираться в дорогу. А тут узнаю, что в мастерской уже без меня ревизию проводят. Опять все в порядке. Успокоился я, про билет домой думаю. А ОБХСС думает про меня,— неожиданно для самого себя скаламбурил он и даже рассмеялся.— Вызывают меня сюда, в Свердловск, в областное управление. Следователь — строгий такой мужчина — говорит: «У тебя недостача товарно-материальных ценностей на сумму две тысячи триста сорок рублей». Какая недостача? Почему недостача? Три дня назад была достача, а теперь что-то пропало? При чем тут я? А следователь выписывает повестку: «Придешь через неделю».
— Хотя бы объяснили, из чего сложилась недостача?
— Какая-то кожа, заготовки... Я хорошо знаю, что у меня все сходится, а следователь говорит: «Иди, мы разберемся. У нас ошибок не бывает...» Значит, еще через неделю позвонили по телефону, сказали, чтобы приехал сюда, в Свердловск, в областную милицию. Как только пришел, забрали паспорт. А потом показывают постановление.
— О привлечении в качестве обвиняемого?..
— Верно говоришь. И статьи мне лепят,— тут вновь проявился его тюремный опыт,— 92-ю, часть 2-ю и 170-ю, часть 1-ю.
— Российский Кодекс?
— Конечно. Значит, опять хищение госимущества и еще — злоупотребление служебным положением. А я ничего не воровал, никакого служебного положения... Я даже материально-ответственным не был. Бригадир все получала, женщина; фамилия — Конникова. Арестовали меня, заместитель прокурора области ордер выписывал. Полгода сидел в изоляторе, никуда не вызывали. Думал, забыли про меня.
— Они не забывают, не беспокойся,— хмуро заметил Нурали.
— Как не беспокойся? Сижу в тюрьме, сам не знаю, за что? Жена беспокоится, дети беспокоятся, переживают. Спрашиваю у начальника СИЗО, тот говорит: «Следствие идет». Куда идет, зачем идет, если ревизия ничего не показала? Шесть месяцев на нарах провалялся, показывают новое обвинение. И, понимаешь, статьи другие. Я в них хорошо разбираюсь, не мальчик. Пришили 93-ю (хищение в особо крупных размерах), 153-ю (частное предпринимательство), 175-ю (должностной подлог).
— Целый букет — и все одному сапожнику...
— Я им говорил: что вы хотите от простого человека? Мое дело — шить обувь. Но они раскрутили тех, кто приезжал ко мне на машине.
— Дело же закрыли...
— Может, только мне сказали... С Камышовского завода украли 14 тысяч квадратных дециметров кожи.
— Ого!
— Мужиков поймали. А они — я так думаю — решили прикрыть кого-то из своих. Вот и показали, что я скупал у них. Хотя у меня ни кусочка не нашли.
— А частное предпринимательство откуда появилось?
— Тут одна веревочка. Как будто я из той краденой кожи ботинки шил.
— Доказательства нужны.
— Для того и должностной подлог придумали. Обвинили, что я шил из «левой» кожи, а прикрывался настоящими накладными. Чтобы доказать это, работник ОБХСС изъял товарные накладные, уничтожил их, и выписал новые, поставив дату через две недели. Получилось, что я эти две недели работал с краденой кожей. Хотя все документы говорили в мою пользу.
— Свидетели как держались? Не катили на тебя бочки?
— Кто со мною работал, те честными оказались. Как было, так и говорили: никакой кожи, кроме государственной, и в глаза не видели. Но разве их слушали? Всю украденную кожу списали на меня. Хотя в суде говорили, что она ушла в Челябинскую область. А кому надо там искать, если я рядом. Да еще две судимости имею.
— Что ж, поразмышлять есть над чем. Приноси приговор, будем разбивать по эпизодам.
— Ты забыл, кацо. Я тебе говорил, что отдал приговор адвокату. Он в Москву поехал, может, там правду найдет.
— Тогда, боюсь, жалоба неубедительной получится. Надо знать, чем суд мотивировал то или иное наказание, на основании чего делал выводы о твоей виновности. И только после оспаривать их. Иначе наша затея — мартышкин труд.
— Зачем так говоришь? Я уже понял, что ты — грамотный человек, все про меня узнал. Вот и напиши, что сделали меня крайним, а настоящего перекупщика не нашли. Почему я должен сидеть за чужие грехи? Когда был виноват, тогда молчал. А сейчас помоги добиться правды. Век не забуду.
— Что ж, я попробую, но гарантии не могу дать. Материалов никаких у тебя нет...
— Самый лучший материал — это я. Все рассказал, как перед Богом. Пусть скостят срок — и то рад буду. Потом приедешь в Тбилиси, праздник устроим. Всем — и жене, и детям, и друзьям — скажу, что ты — мой лучший Друг.
— Все это хорошо, лучший друг,— прервал старика Дудинский.— Но скоро поверка, пора расходиться, засиделись.
— С хорошими людьми время быстро проходит. Дорогой,— опять обратился он ко мне.— Я завтра отоварюсь. Варенье принесу, конфеты, печенье. Мы еще поговорим, ты не против?
— Приходи. Постарайся вспомнить эпизоды, детали, которые говорят в твою пользу.
— Приду.
Палата наша — скажу без лишней скромности — пользовалась популярностью. В отличие от лагеря, где нас, БС — бывших сотрудников, остальные зэки презрительно называли ментами, общение с нами для них считалось западло и строго каралось по воровским законам, здесь, в больнице, все распри временно забывались, опять-таки — в силу уголовных традиций. Приходили за советами ко мне; завели знакомства мои соседи; часто просто на огонек заглядывала обслуга. И если бы была возможность забыть, что ты окружен колючей проволокой, что тебя денно и нощно караулят солдаты и прапорщики МВД, то по утрам можно было бы спросонья представить, что проходишь курс лечения в обычной больнице. Ничем не напоминал преступника Нурали, вполне интелллигентно выглядел Дудинский, на обычного сачка, симулянта, которому нужно получить бюллетень для отмазки, был похож Волкогонов. Вполне вписывался в эту компанию и я — успевший заметно поправиться, набравший несколько из многих утерянных килограммов веса, в общем — пациент перед выпиской. И отношения у нас, несмотря на разность характеров, успели сложиться довольно сносные, правда, несколько стороной стоял Волкогонов, но и в обычных лечебницах — это обычное явление. Да и разговоры в начале дня были у нас самые что ни есть заштатные — о том, как спалось, какие процедуры предстоят, какая сестра будет делать уколы...
Нервозность, постоянно сопутствующая заключенным, появлялась позже, перед обходом. Никому не хотелось покидать больничную койку, возвращаться на проклятую зону. И поэтому мы удивленно замолкли, когда Волкогонов неожиданно попросил Ирину Васильевну выписать его. Мы заметили, что вопрос появился и в ее глазах, но настаивать на продолжении лечения она не стала. Врач и так прекрасно понимала, что Волкогонов, в общем-то, симулирует. Чуть повышенная температура, простуда, общее недомогание — с такими симптомами можно госпитализировать каждого зэка.
Зато, как только Ирина Васильевна закончила обход, забросали соседа вопросами:
— По зоне соскучился?..
— Может, тебе голову лечить надо?..
— Точно, у него крыша поехала,— подвел черту Нурали.
— Все по делу, мужики. Сейчас сентябрь, а в октябре у нас комиссия по условно-досрочному заседать будет. Надо подсуетиться, под лежачий камень вода не течет.
— Ты-то чего мандражируешь? Столько нашего бра- та-зэка заложил, продал, что получишь зеленую улицу,— не сдержался Нурали.
— А кто тебе мешал идти в общественники? Дело добровольное, даже приглашают...
— Не по мне это — на чужом горбу в рай ехать.
— Каждому свое. Ради свободы можно кое-чем поступиться.
— Даже совестью? Ну и гад же ты!
— Успокойтесь, мужики! — прикрикнул Дудинский.— Не надоело лаяться?
— Я не начинал,— совсем по-детски пробурчал Волкогонов.
Нурали на время замолчал, но потом все-таки не удержался и торжествующе изрек:
— Его все равно раньше времени не выпустят, будет пахать от звонка до звонка.
— Почему это?
— Кто же сексотов, шестерок досрочно отпускает? С кем тогда хозяин и опер останутся, кто им задницы лизать будет? Они без слуг не могут. Так что рано лыжи навострил.
— Что каркаешь? Завидуешь, что я скоро вырвусь из-под штыка, вот и катишь бочки.
Перебранка продолжалась и в коридоре — обоих позвали на уколы. Затем пошли на процедуры мы с Дудинским. Мне предстояла пренеприятная штука — сдача желудочного сока. Длинный резиновый шланг застревал в глотке, я давился им, задыхался, меня тянуло на рвоту. Но... без такого анализа еще ни один «гастроном» (так прозвали больных гастритом) не обходился, и я мужественно — уже не в первый раз — проходил испытание. Сдав анализ со второго или третьего захода, измученный, с покрасневшими глазами, вернулся в палату. На койке уже лежал необычно задумчивый Волкогонов.
— Что грустишь, парень? Скоро будешь вольным воздухом дышать.
— Так-то оно так, только...— Волкогонов помялся, заворочался на постели и неожиданно попросил: — Напиши и мне жалобу.
— С чего бы это? Ты же на комиссию собрался.
— Хоть этот косоглазый и дурак,— он кивнул на койку Нурали,— но берут меня сомнения. Может, и в самом деле не выпустят? Мало ли чего им в голову взбредет. А еще два года за колючкой я не выдержу. Во где эта зона у меня сидит.— Волкогонов провел ребром ладони по горлу.
— Насколько я помню, тебе и так дали середину — четыре из восьми...
— Ну и что? За какое-то вшивое хулиганство целых четыре года!
— Не целых, а всего! Не забывай, что ты — сотрудник органов... А к ним, к нам то есть, санкции построже, пожестче.
— Все равно. Не я первым напал, а на меня набросились. Я вынужден был защищаться...
— Хороша защита! Ты рассказывал, что догонял потерпевшего, ворвался в дом и там устроил разборку. Не так ли?
— Суд предвзятым был,— стоял на своем Волкогонов.— Свидетелей не всех вызывали — это раз; я был на больничном, а меня назвали «нигде не работающим»...
— Все это мелочевка. Никак не тянет на отмену приговора.
— Попытка — не пытка. Может, хоть год скостят? Давай попробуем...
— Дело твое, хотя, скажу честно, надежды мало.
— Напишешь — отправлю, а там посмотрим,— получив согласие, обрадовался Волкогонов и быстро выскочил из палаты, чтобы найди для меня дефицит, хотя я и не напоминал об оплате. Он столько раз выступал в роли посредника, что самому прокатиться на халяву было явно неудобно.
Вернулся Нурали, удивленно спросил у меня:
— Куда это подхалим помчался, будто с ... сорвавшись?
— Напугал ты его, что не выскочит досрочно. Попросил меня обжаловать приговор.
— Только не вздумай за «солому», за «так». Пусть крутится.
— Он и отправился искать что-нибудь.
— С паршивой овцы — хоть шерсти клок,— повторил Нурали свою любиму пословицу.
АДВОКАТ В НЕВОЛЕ
Дудинский вернулся в палату раньше Сергея и совсем расстроенным. Переступив порог, выматерился и стал собирать вещи.
— Куда это ты? — поинтересовался Нурали.
— На кудыкину гору! Отстань!
— Переводят в другое отделение? — задал вопрос и я.
— А, встретил завхоза... Говорит, что поступила команда собираться с вещами. Надо сдать постель.
— Ирина Васильевна что говорит?
— Не видел я ее. Хрен их поймет...
Хмуро попрощавшись, правда, традиционно пожелав всем удачи, Дудинский ушел. А к вечеру., вернулся еще более злой.
— Ну, гады, подождите! Я вам устрою веселую жизнь!
— Объясни, что случилось?
— Где этот однорукий ублюдок? Прикончу на месте! Последнюю руку оторву!
Ругательства сыпались из него, как из дырявого мешка. Казалось, поднеси к нему спичку — и он вспыхнет. Бушевал он долго, потом слегка утих, и мы смогли добиться от него чего-то вразумительного. Оказалось, что пока никакого приказа на его выписку нет. Инициативу проявили зэки из хозобслуги, которым Дудинский, по правде сказать, изрядно надоел своими бесконечными претензиями и нытьем. Вот они и спровадили его в этапку, где он полдня просидел под замком — голодный и холодный. Лишь потом выяснилось, что документы на его отправку еще не готовы, что выдернули его из палаты ради шутки. Больничное начальство посмотрело на эту «шалость» сквозь пальцы, лишь Ирина Васильевна устроила разгон хозобслуге, но дело было спущено на тормозах. Наутро Дудинский все-таки ушел в зону... На очереди был «доброволец» Волкогонов, и мы гадали, кого нам подселят в палату.
— Свято место пусто не бывает,— с опаской заглядывая в дверь- (ушел ли все-таки Дунинский?), проговорил завхоз, запуская к нам двух постояльцев. Один из них сразу заполнил половину довольно просторного помещения — было в нем килограммов под двести. Шумно отдуваясь, он плюхнулся на пустовавшую койку. Она просела под непомерной тяжестью, жалобно заскрипела. Ватник, видимо самого большого размера, едва влез на жирные плечи, необъятный живот безобразно улегся на широко расставленные колени.
— Откуда? — задал традиционный вопрос Нурали.
— Из Саратова.
— Бывал я там. Этапом,— заметил я.
— А я там работал. В тюрьме. В какой камере сидел?
— В двести тринадцатой.
— Постой... Ты, случайно, не Сороко?
Вопрос был настолько неожиданным, что я даже поперхнулся от удивления.
— Значит, ты. Тебя там помнят до сих пор. Ты жалобу писал одному трактористу, он за мокрое дело сидел?
— Было такое.
— Ушел домой...
— Так должно было быть. Насколько я помню, он защищал жизнь своей любовницы.
Старые соседи посмотрели на меня с почтительным уважением: «Смотри ты, оказывается, его телеги срабатывают. После убийства и то людей освобождают...» А толстяк сразу же взял быка за рога:
— Я еще в Саратове хотел с тобой связаться, но не вышло. Теперь-то от меня никуда не денешься. Судьба.
Пришла моя очередь узнавать его.
— Твоя жена была у нас на этаже контролером, не так ли?
— Была. Через нее и знаю тебя.
— И дело твое помню. Что-то связано с твоим бывшим подопечным, зэком?
— Угу. Он мне бока намял, а виноватым оказался я, загремел под фанфары. Сколько ни добиваюсь правды, всюду — отказ.
— Выходит, ты уже жаловался?
— Адвокат в Москву, ездил, жалобу написали в Верховный суд РСФСР.
— Минуя областной?
— А что туда обращаться? Они там все заодно...
— В принципе ты прав, но перескакивать через инстанцию нельзя. Вот получишь ответ от председателя облсуда, тогда можешь идти выше. Так в Уголовнопроцессуальном кодексе записано. И в прокуратуре такая иерархия.
— Мне уже исполняющий обязанности областного прокурора отказал.
— Пиши прокурору России.
— Об этом я тебя и прошу. Говорят, складно и грамотно у тебя получается. Как у настоящего прокурора.
— Почему как? Он и работал в прокуратуре, диплом имеет,— добровольно подтвердил мои полномочия Нурали.— У него тут от клиентов отбоя нет.
В рекламе я особенно не нуждался, но, не скрою, слова Нурали потешили мое самолюбие. Несмотря на долгие месяцы заточения, на полное бесправие, я продолжал считать себя юристом, никак не мог смириться с тем, что я — бывший. Помогая знакомым и незнакомым обжаловать приговоры, составлять различные прошения и заявления, я поддерживал свою «спортивную» форму, готовность — при удачном стечении обстоятельств — вновь вернуться на прежнюю работу. Как говорится, сочетал полезное с приятным: нагружал ум и — если случалось — пополнял свои скудные продовольственные припасы.
Едва ли бывший саратовский охранник обладал способностью читать чужие мысли, но он, видя, что я не тороплюсь соглашаться на его просьбу, заверил:
— О наваре не беспокойся. За мной не пропадет. Кое-какие концы я уже нашел, за жрачкой остановки не будет.
— Конечно, что тебя учить? Сам на этом зарабатывал — и чай в камеры подгонял, и водчонку, и табак. Не так, что ли?
— Давай не будем старое вспоминать. Каждый устраивается, как может. А зэки на меня никогда в обиде не были. Я честно работал, никого не подвел, не заложил...
— Чего же на тебя потерпевший окрысился, если ты добрым был? Темнишь ты...
— Он чокнутый какой-то. Понимаешь, стою на дороге, голосую. Машина тормозит, я сажусь. А за рулем — мой бывший клиент, на моем этаже сидел. Вторая ходка у него была. Узнал он меня, дает полный газ, в лес гонит. Я хотел остановить машину, а он тесак из бардачка достал — и меня в бок. Несколько раз пырнул. Хорошо еще, машина съехала в кювет, заглохла. Выскочил я — и ходу, а так бы зарезал насмерть.
— Такой бугай, а справиться не мог? Сомнительно...
— Ему терять нечего, а мне жить охота. Написал заявление, прокуратура возбудила против него уголовное дело, а посадили меня.
— Сказки рассказываешь. Поверили дважды судимому, а тебе, работнику органов,— нет. Так не бывает, не заливай.
— Суд купили на корню. Его жена в исполкоме работает. Все ходы-выходы знает, тертая баба.
— Да и твоя не промах, раз в изоляторе столько лет.
— Что моя? До пенсии дослуживает, ей мало осталось. Ждет — не дождется, когда скинет форму. Ты же видел ее?
— Разговаривал даже... Приятная, по-моему, женщина.
— Какая она на самом деле, мне знать... Но давай вернемся к делу. Берешься помочь?
— В корзину твоя жалоба пойдет. И дураку понятно, что во всем виноват именно ты. Сам избил его по пьянке, по привычке, вернее. А после в штаны наложил: вдруг пожалуется? И побежал назавтра заявление подавать, опередить хотел. Скажу больше: он порядочнее тебя во много раз.
— Почему это?
— То, что вы подрались — это факт. Но он — мужик, в отличие от тебя. Не стал ни тебя закладывать, ни себя на посмешище выставлять. А ты ссучился. Вот теперь и сиди из-за своей гнилой натуры. Думал, что форма поможет, петлицы эмвэдэшные? Не проскочил номер...
— Ты там не был, не видел, как мы дрались... А толкуешь, будто рядом стоял. Точно, как мой следователь...
— Не надо всех считать дураками. Повторяю: то, что виноват ты, сомнения не вызывает. И получил ты по заслугам. Будешь рыпаться — пересмотрят, выпишут больше.
— С тобой каши не сваришь! Все вы, прокуроры, одинаковые.
— Уж конечно, не чета вам, охране. Это вы бедных зэков обдираете, как липку. Вон и харю какую наел.
— Не завидуй. Я двадцать лет в тюрьме проработал, ни один зэк столько не отбарабанил. А там, сам знаешь,— и сырость, и гниль. Один воздух чего стоит. Вот и посадил сердце, ноги опухать стали. Теперь вот сам попал в камеру — совсем разнесло. Перед посадкой был сто двадцать килограммов — теперь сто восемьдесят. Боюсь, скоро коньки откину.
— Никто тебя силой в надзиратели не гнал. Выгоду, значит, искал. Здесь все свои, признайся: брал деньги?
— А кто сейчас не берет? Тот, у кого нет возможности. Давали, вот и брал... Ты, небось, и сам искал контакты с нами, контролерами?
— Рвачи вы, кровь нашу пьете! — Не выдержал Нурали.— Нет того, чтобы просто помочь человеку... Всем в лапу надо дать, подмазать.
— За риск надо платить... Засечет начальство — и полетел со службы, а то и под суд. Кто же задарма голову под топор подсунет,? Дураков нет,— не сдавался толстяк.
— Про тебя этого не скажешь. Мало тебе было изолятора, на улице кулаки распустил. Нашел бы столб и дубасил его.
— Привычка — вторая натура,— добавил и я.
— Ну вас к черту,— выругался новосел.— Я к вам, как к своим, а вы накинулись, как собаки.
— Ты думай, что говоришь! — взъярился Нурали.— За собаку и схлопотать можешь.
Я вспомнил, что для восточных людей слово «собака» — самое большое оскорбление, так что бывший надзиратель очень рисковал.
— Жирная свинья,— пробормотал Нурали и, чтобы не влезать в конфликт, вышел из палаты.
Новичок тяжело завалился на спину, огромное пузо (по другому его невообразимый живот трудно назвать) возвышалось над койкой, будто замшелый валун. Помогать ему я отказался, и он погрузился в сонное забытье.
Симпатии сосед не вызывал, но, сам того не подозревая, он поднял мое настроение, вскользь упомянув, что после написанной мной жалобы человек, обвиненный в тяжком преступлении, вышел за свободу. Подспудно зародилась и стала крепнуть мысль о том, что такой же результат принесут и многочисленные жалобы, касающиеся моей собственной судьбы. Мы с женой разослали их во многие высокие инстанции, и я часто представлял, как их читает ответственный работник Верховного суда СССР, а то и сам его председатель... Теплилась надежда, что мои бумаги попали на стол к помощнику М. С. Горбачева — Люда обращалась за помощью и к нему, а я знал, что генсек в свое время интересовался Витебским делом. Хотелось верить, что найдется беспристрастный человек, свободный от предвзятости, который не побоится пойти против прокуратуры СССР.
А эта могучая контора, почувствовав, что из суда можно вить веревки, сама перешла в атаку. Из очередного письма Людмилы я узнал, что в президиум Верховного суда Латвии внесен протест... на мягкость приговора. Мой «личный друг» Прошкин и его компания прекрасно понимали, что следствие село в лужу. Любому грамотному юристу было ясно, что если даже беспринципный судья Кабанов исключил многие ключевые эпизоды; если он отпустил из зала суда Бунькова, Журбу и Кирпиченка, Волженкова официально оправдал, а мое обвинение построил лишь на голословных показаниях Адамова и Борисова, то в любой час этот карточный домик может рассыпаться, и тогда уж отвечать перед законом придется инициаторам грязной игры. Вот и была предпринята попытка еще раз нажать на латвийский суд, используя метод выкручивания рук. На этот раз грубый прием не дал результата — протест был отклонен. Сообщил об этом жене Анатолий Волженков, который и во время следствия, и на суде, и после него был бельмом на глазу у Прошкина. Находясь, в отличие от других подельников, все время на свободе, он, борясь за свои честь и достоинство и помогая нам, явно мешал московской бригаде, путал ей карты, лишая возможности обрабатывать многих свидетелей. И сам Анатолий, и все мы понимали, что у Прошкина просто руки чесались, до того ему хотелось запереть неподдающегося Волженкова за решетку. Уже сам факт его оправдания показал, насколько непрофессионально и тенденциозно велось следствие. Это была оглушительная пощечина московским спецам. Не являлось, конечно, секретом для Прошкина и то, что не сижу сложа руки и я. Так что борьба продолжалась и после суда, только возможности для ее ведения были разные — Прошкин использовал всю мощь и авторитет прокуратуры СССР, я же мог рассчитывать лишь на помощь жены, друзей и ... на счастливый случай.
Как ни странно это покажется, но стремление попасть в больницу, а после — нахождение в ней являлось одним из этапов этой борьбы. Моя логика была проста, я уже рассказывал, на что надеялся: освобождение от работы в литейке означало перевод на другой, менее трудный участок, где можно было, я не сомневался, выполнять и даже перевыполнять норму. Значит, у администрации колонии не будет причин препятствовать моему условно-досрочному освобождению, тем более, что уже прошло более половины назначенного мне срока. С выходом из-за решетки я получал гораздо больше возможностей для того, чтобы полностью восстановить себя в правах. Как видите, схема была предельно проста, но недаром говорят, что все гениальное — просто. (Прошу эту сентенцию не воспринимать слишком всерьез, манией величия я, слава Богу, не страдаю.)
Итак, первой задачей моей, таким образом, было получить справку на ограничение тяжелого труда. И быть ли этой заветной бумажке, зависело практически от одного человека — все от той же Ирины Васильевны, нашего ангела-хранителя. Но именно она едва не зажгла передо мною красный свет. И виноват в этом проколе был бы я сам.
Букет болезней у меня был довольно пестрый: плохо работали почки, давал о себе знать гастрит, не утихали головные боли. Зародились они, конечно, во время кочевой следовательской жизни, затем обострились в изоляторах и закрепились на зоне. Врач взялась если не вылечить меня, то во всяком случае подлечить, не дать этим болячкам развиваться дальше. Трижды в день сестра выдавала мне полгорсти разноцветных таблеток, дважды я должен был ходить на уколы. Но у меня, впрочем, как и у многих больных арестантов, укрепилось мнение, что прием лекарств — дело не обязательное, что они, эти таблетки, никакой пользы не приносят. К тому же все мы, в том числе и я, были предубеждены против «химии» — препаратов с мудреными названиями, считая, что организм и так перенасыщен вредными выбросами «родного» тюремного производства (в этом мы были, несомненно, правы). Была и еще одна причина нашей нелюбви к таблеткам: разве зачуханным зэкам дадут хорошее лекарство, если его и на воле днем с огнем не сыщешь?.. В общем, избавлялись мы от «химии» любыми способами, а чаще просто выбрасывали в унитаз или на улицу. Я решил принимать только но-шпу и фестал, а с остальным без сожаления расставался. И поплатился за это. Откуда мне было знать, что Ирина Васильевна лечит меня комплексно, что все препараты или дополняют друг друга или снимают болезненное воздействие. Так вот, получив в ягодицу укол атропина (от сестры не спрячешься и ампулу не выбросишь), я ощутил, что по ноге разливается нестерпимая боль, во рту появился неприятный осадок, небо и язык пересохли. «На кой черт мне такая экзекуция, притом ежедневно?..» — подумал я и решил сказать Ирине Васильевне, что после инъекции у меня возникает сыпь, начинаются рвота и головкружение. Ложь получилась малоубедительной, к тому же никакой сыпи у меня, слава Богу, не было.
— Вы все лекарства принимаете? — внимательно глядя мне в глаза, уточнила врач.
— Так точно! — бодро отрапортовал я, но под ложечкой неприятно засосало.
— Сейчас вы услышите то, от чего у вас действительно закружится голова,— жестко проговорила всегда мягкая Ирина Васильевна.— Вас как симулянта я обязана выписать и сообщить о нарушении режима лечения администрации вашей колонии.
У меня действительно заломило в висках, чугуном налился затылок, сразу покраснело лицо.
— Что вы, доктор, разве я позволю себе... Ирина Васильевна, вы ошибаетесь,— испуганно залепетал я. Возвращение на зону с такой телегой означало конец всем моим тщательно продуманным планам.
— Не морочьте мне голову, Сороко.— Она заглянула в мою карточку и назвала меня по фамилии.— Придумайте какую-нибудь другую версию, а то все ваши рос- казни похожи на старый анекдот, за который Каин Авеля убил...
— Вот честное слово...— попытался я что-то промямлить, но врач опять оборвала:
— Не бросайтесь честным словом, оно вам пригодится еще.
Пришлось замолчать, опустить голову, как нашкодившему школьнику. Сделав мне надлежащую выволочку, Ирина Васильевна смилостивилась:
— Так и быть, пока наказывать вас не буду. Но имейте в виду — пока. Но еще один раз...
— Что вы, что вы, доктор! Я...
— Не оправдывайтесь, не вы первый, не вы, к сожалению, и последний. Все хотите умнее врача быть, больно грамотными стали. Вам же добро делают, а вы сопротивляетесь, вредите себе. Я вам говорю серьезно, что у вас в почках идет воспалительный процесс, анализы плохие. Не исключено, что образовались камни... Вам что, хочется с ними вернуться в колонию? Нет? Тогда выполняйте все мои предписания безо всяких фокусов, договорились?
Выслушав справедливый выговор, я все-таки решился спросить:
— Меня очень желудок беспокоит. Как бы язва не развилась.
— Точный диагноз поставим после фиброскопии, пока принимайте лекарства.
— У меня желудочный сок и желчь брали...
— Немного понижена кислотность, но это не так страшно...
— Я правду говорю, доктор. Постоянные боли под ложечкой, изжога... Уже много времени. И не прекращаются.
В тюремной больнице — как на пересылке (да простят мне такое сравнение свердловские медики). Пациентов перебрасывают из палаты в палату, не очень интересуясь их состоянием. А уж привычки, сложившиеся отношения, микроклимат — все это остается вне поля зрения, полностью игнорируется. После добровольного ухода на зону Волкогонова (предстояла комиссия по досрочному освобождению), расстался с нами и Нурали. Отдыхал он — а это было именно так — целых сорок дней, два обычных срока. Как это удалось атлету с выправкой гимнаста, можно было лишь догадываться. Правда, желчный Андрианов высказался безапелляционно: «У этих черноусых куры денег не клюют. И больничку, и зону купить могут». Может быть, может быть...
Ушел Нурали, и нам — Ульянову, Андрианову и мне — приказали ,г перебираться в палату номер одиннадцать. Собрав нехитрые пожитки, поплелись в сторону столовой — новое жилье располагалось как раз напротив. Суета персонала, недовольные голоса больных, стук металлической посуды, хлопанье дверей — эти и другие «преимущества» мы почувствовали с первых минут. К тому же палата оказалась многоместной — на восемь человек, хотя по площади была вдвое меньше предыдущей. «Даже двух квадратов на нос не выходит,— прикинул я.— Да еще из столовой «ароматы» долетают. Час от часу не легче...»
— Что, братва, не нравятся апартаменты? — весело приветствовал нас тощий мужик, валявшийся на койке.— Зато пошамать можно раньше всех. И новости все стекаются. Так что точка выгодная.
— Не надо нам таких выгод,— недовольно пробурчал Андрианов.— Как на вокзале...
— Нас не спрашивают, нас...— подытожил Ульянов, подкрепив свое негативное отношение к переселению крепким словцом.
Не успели мы расположиться, как все тот же завхоз впустил в палату еще четырех постояльцев.
— Вот теперь полный комплект,— удовлетворенно произнес он.— Живите дружно, ребята.
— Пошел ты! — огрызнулся Андрианов.— Друзей нашел...
Дверь за завхозом быстренько закрылась.
— Чем недовольны, мужики? — услышал я голос и, подняв голову от постели, которую заправлял, увидел земляка, бывшего милицейского шофера. Рядом с ним стоял еще один знакомый — хохол Зазуля.
— О! И прокурор здесь,— обрадовался Зазуля.— Верно говорил Толя Коржу ев, что обязательно найду тебя. Жалобу мне напишешь?
— Не гони лошадей! — отмахнулся я.— Где Коржуев?
— Внизу, в этапке. Хочешь увидеть, поторопись.
Набросив халат, поспешил к этапной камере. За
стеклянной перегородкой действительно маячила плотная фигура земляка из-под Орши.
— У тебя-то какая хвороба? — удивился я.
— Подозрение на грыжу. Перетрудился...
— Ну, если ты перетрудился, то что говорить мне? Я тогда в своей литейке точно подорвусь. У меня главное орудие труда — тачка.
— Что, тоже в хирургическом лежишь?
— Нет, пока в терапии. А еще обещают в кожное перевести, грибок какой-то завелся на ногах.
— В общем, ясно. Полный набор всех болезней.
— Чтоб их не знать... Новости какие, Толя?
— Определюсь в палату, как-нибудь свидимся, дам о себе знать. А пока помоги, Валера...
— В чем дело?
— Забери у нас табак. Скоро шмон будет, конфискуют.
Я попробовал отжать плотно закрытую дверь, но она не поддавалась — металлические штыри надежно сидели в пазах. Не удалось сделать щель и внизу — между дверью и полом.
— Ладно, не мучайся,— видя тщетность моих потуг, отказался от идеи Коржуев.— Сейчас Прохор придет, так что ты лучше смывайся. Засечет — не оберешься беды. Будем сами крутиться.
— Да, неприятностей у меня и так достаточно,— согласился я и напомнил; — Разместишься, сообщи, где лежишь.
— Будет сделано.
Не успел я отойти от этапки, как меня нагнал комендант больницы, такой же зэк, но выбившийся в начальство.
— Стой! — схватил он меня за рукав.— Что ты делал около этапки?
— Ничего. А тебе какое дело?
— Пойдешь со мной.
— Это еще что за фокусы?!
— Тебе что-то передали. Пойдем на шмон!
Комендант, молодой рослый мужик, загородил лестничную клетку, не разрешая пройти на второй этаж. Как часто бывало в таких случаях, на меня накатила волна злости. Свой же брат-зэк нагло качает права, явно выслуживается! Появилось острое желание двинуть ему по сытой физиономии, но я сдержался — драка в больнице, да еще с доверенным лицом администрации, могла обойтись дорого. А активист громко крикнул:
— Завхоз! Иди на помощь! Тут один тип выступает!
Завход появился немедленно.
— Что за базар?
— Ему что-то передали из этапки. Надо обшмонать.
— Черт с тобою, тем более, что у меня ничего нет. Но ты в мои карманы не полезешь. Зови прапора...
Звать того не пришлось — он уже сам спешил к нам. Профессионально быстро осмотрев мою одежду, убедился, что шум поднят впустую.
— Не болтайся, где не надо! — Он все-таки счел нужным показать свою власть.— Марш в палату!
— Слушаюсь, гражданин начальник! — я резко повернулся через левое плечо, чуть зацепив разочарованного коменданта. Краем глаза успел заметить, как подмигнул мне из-за стеклянной перегородки этапки Анатолий Коржуев.
В нашей палате меня ожидал приятный сюрприз: новички привезли с собою консервы, повидло и делились «деликатесами» со старожилами больницы. Перепала и мне небольшая пайка — это постарался Зазуля, рассчитывавший на мою помощь. Заморив червячка, принялись обмениваться новостями. На зоне, в колонии, оказывается, наступили не лучшие времена. Вернулся из отпуска начальник, хозяин, и устраивает ежедневные разгоны. Причем попадает и сотрудникам, но зэкам, естественно, еще больше.
— Вот я и сбежал на больничку, чтоб переждать смутное время,— растягиваясь на койке, удовлетворенно проговорил лысоватый худой новосел с типичным еврейским лицом.— Зачем Мотыльсону лишние неприятности? Их у меня за тринадцать лет было больше, чем надо.
— Так просто: захотел и сбежал,— недоверчиво переспросил я.
— Ты еще не знаешь Мотыльсона,— почему-то он предпочитал говорить о себе в третьем лице.— Я им так переел печенки, что они готовы отправить меня хоть в Крым.
— Чего ж не выпускают на волю?
— Ничего, уже дотягиваю срок. Вот поправлю здесь здоровье, а там, смотришь, и последний звонок.
Зазуля скептически посмотрел на него и не удержался от подколки:
— Ты же сам говорил, что у начальства на крючке. Нарушение за нарушением...
— Это они у меня на крючке. Если они тронут Моисея — Моисей им столько крови попортит, что десятому закажут. А нарушение, между прочим, одно осталось. Так что у меня все в порядке.
— Во дает! Тринадцать лет за колючкой — и «все в порядке»! — Ульянов смотрел на неунывающего Моисея Мотыльсона, как на какое-то чудо.
— Ништяк! Еще и на той стороне проволоки поживу...— Была ли это лишь уголовная бравада, или зэк со стажем действительно воспринимал свое долголетнее заключение по-библейски спокойно — кто знает. Но надо признать, что оптимизм его вызывал своего рода уважение.
Быстро став своим человеком в палате, Моисей как о само собой разумеющемся попросил всех сразу:
— Братва! У кого найдется закурить?
Просьба вызвала незлобливые подначки:
— Ты же вроде не цыган, а еврей? А начинаешь со слова «дай».
— Халяву сорвать хочешь?
— Больным курить не рекомендуется.
— Любой уважающий себя еврей заткнет за пояс цыганского барона,— спокойно парировал Моисей.— А про курево и про хворобы? У меня без табака нервы не выдерживают.
Не знаю, замечал ли это Мотыльсон, но в каждом предложении у него обязательно были слова с буквой «р», выговорить ее чисто ему не удавалось, и в результате речь его звучала довольно пародийно.
— Что с тобой поделаешь... Пойдем, покурим.— И самые заядлые курильщики вышли из палаты.
— Да, скучать нам не придется,— недовольно проговорил Андрианов.— Задурит он нам голову.
— Трепло порядочное...
— «Закосил», наверное...
— Нет, он на зоне с клюшкой ходит...
— Ограничение есть...
— Он вообще пахать не собирается...
— Тринадцать лет — это до хрена и больше...
— За что подсел?
— Говорят, за алименты.
— Такой срок — за алименты? Кто-то утку запустил...
— Мокруха у него...
— Куда ему на мокрое дело идти? Взятки, скорее всего...
Наши дебаты прервал сам Мотыльсон, незаметно появившийся в палате.
— Это я начальнику режима Маркову лапшу на уши повесил. Спрашивает он меня: «За что сидишь?» «От алиментов скрываюсь.» Обругал он меня, отправил в барак...
Юмор у него .был, мягко говоря, своеобразный. Ему, видимо, на смом деле было наплевать на лагерное начальство. Тюремный стаж автоматически давал ему если не привилегии, то право на относительную вольность в обращении. И Моисей, судя по его рассказам, пользовался этим правом не задумываясь.
— ...Забурился я в больничку. Восемь дней валяюсь — ни один врач про Моисея не вспоминает. Приходит наконец Наталья, зам. главврача. Я кричу, что ноги болят. Она говорит: «У старого человека все болит». И ушла. А через пару часов санитар командует: «Мотыль- сон, на выписку».
— Правильно, полежал неделю — уступи место другому,— едко заметил сразу невзлюбивший Моисея Андрианов.
— ...Попер я к начальнику. Показываю ноги. Распухли, мол; керзачи натянуть не могу. Тот подумал-поду- мал и дал разрешение на легкую работу, в либерала сыграл.
— Ну и нормально...
— Что тут нормального? Назавтра пру на работу в тапочках. А на воротах стоит Белоусов, знаете такого? Правильно, дежурный помощник начальника караула. Наверное, с инструкцией спит, а не с бабой. Увидел тапочки, кричит: «Почему нарушаешь?! На работу не положено!» Я базарю, что получил разрешение носить легкую обувь. «Нельзя! Нарушаешь технику безопасности! Заворачивай!» Я и пошел в кубрик, целый день на нарах провалялся.
— Хорошо устроился...
— ...Утром опять чешу в тапочках. Другой дежурный заметил — и от ворот поворот. Второй день груши околачиваю.
— Лафа. Недаром ты еврей...
— Не дурак же. Третий день топаю в тех же тапочках. На этот раз на воротах торчит Александрович. И, понимаете, не смотрит на мои ноги. Просто ноль внимания. Я перед ним кручусь, как рок-н-рол танцую, а он меня в упор не видит.
— Раскусил, значит?
— Нет, просто ему ... на всех на нас. Тогда я спрашиваю: «Гражданин начальник! На работу в тапочках можно пройти?» А он...— Мотыльсон выдержал паузу и грустно закончил:— Этот Александрович базарит: «Моисей, не дури мне голову! Можешь идти хоть в одних трусах».— И рассказчик, не дожидаясь нашей реакции, рассмеялся первым.
— Но два дня ты все-таки прогулял? Что, так все и сошло?
— Дергали они меня дергали, а я твержу свое: ботинки и керзачи на ноги не налазят, а в тапочках охрана не пропускает... В ШИЗО не отправили, а взыскание записали.
— Не прошел, значит, номер?
— Это у них не прошел. Я сразу телегу прокурору по надзору. Приезжает тот, базарит: «Мотыльсон! Когда перестанешь кляузничать?» А я его сразу обрезал: «Тогда, когда перестанут издеваться над невиновными людьми». Поморщился начальник, тон сбавил: «Чем на этот раз тебя обидели?»
— Что, старый знакомый попался?
— Меня все местные менты и прокуроры знают. Я им даю прикурить. Вот и этого прижал: «Мне разрешено ходить в легкой обуви. Пусть выдадут, врач распорядился». Он уже и не рад, что со мной связался, а я пру напролом: «Разъясните, гражданин прокурор, имеет ли право работник колонии, офицер, присваивать мои личные продукты?» У прокурора рот открылся, а я продолжаю давить: «Лежал в санчасти, отоварился. Попросил товарища отнести продукты в отряд. На одних казенных харчах долго не протянешь. А офицер забрал мое кровное и акт не оформил. Украл, значит».
— Крепко ты...
— А что мне детей с ними крестить? Так вот, прокурор очухался и давай мне параграфы шпарить: «Исправительный кодекс запрещает заключенным передавать друг другу продукты!» Думал, что я эти параграфы хуже его знаю. Не на того напоролся — Мотыльсон все кодексы вдоль и поперек изучил. Я ему так небрежно подбрасываю: «Я попросил отнести продукты в мою тумбочку. Ничего не нарушено, гражданин прокурор...» Вижу, скоро кондрашка его хватит, крыть ему нечем. Моргает, только, пот вытирает.
— Заливаешь ты все, Моисей...
— Я за свой базар отвечаю. Прокурор не знает, как от меня отделаться, а я ему новый вопросик: «Проконсультируйте меня, как квалифицировать действия офицера: грабежом, злоупотреблением, сопряженным с грабежом?» И на прощанье подсыпаю перца: «Прошу возбудить уголовное дело и привлечь виновного к ответственности. У нас в цехе рабсилы не хватает, план горит. Возьмем в свой отряд...» Прокурор бледнеет, краснеет, на дверь поглядывает...
Палата с интересом слушала красочный треп Мотыль- сона, а он, воодушевленный вниманием, увлеченно продолжал:
— Пока прокурор не очухался, я накручиваю пружину: «Скоро конец моего срока, .четыре месяца осталось. Буду проездом в Москве, зайду к Генеральному прокурору или к министру МВД. Мне интересно, как они отреагируют?»
— Артист да и только!
— Смотрю, мой прокурор может инфаркт схватить. И я на прощанье по-дружески советую: «Скажите тому офицеру, которому моя отоварка приглянулась, что я как мужчина мужчину понимаю его. Может, с женой поругался, та не покормила его. Пусть бы попросил Мотыль- сона; я не жадный, поделился бы жратвой. Но зачем же красть?»
— Моисей, знай меру,— еле сдерживая смех, проговорил Зазуля.— Травишь анекдоты, как в Одессе.
— Хочешь — верь, хочешь — не верь,— невозмутимо произнес Мотыльсон.— Только того прокурора я больше не видел. Наверное, ответ мне сочиняет. Вот откинусь, непременно зайду к нему, поинтересуюсь.
— Смотри, чтобы не загремел назад. Найдут, к чему придраться — и по-новому срок намотают.
— Что, думаешь, я здесь зря бока пролеживал? На провокации не поддамся, осторожность — прежде всего. По их принципу сработаю: все в рамках закона.
— Закон — что дышло...
— Тут ты прав. Верить им нельзя. Я вот хозяину поверил на слово, а получились одни неприятности. Рассказать?
— Давай, трави...
— Это чистая правда... Решил начальник колонии провести вечер вопросов и ответов. Как это теперь называется? Да, де-мо-кра-ти-за-ция, правильно? Так вот, хозяин твердо пообещал, что можно спрашивать про все, что захочется. И никаких репрессий не будет. Собрали человек четыреста. Я, конечно, вылез первым. По какому праву, спрашиваю, врач Белоусов забрал у меня чай, повидло и консервы? Хозяин мнется, базарит, давайте, Мотыльсон, по существу... А я: что, жрачка — это не существенно?.. Попер я дальше... В ст. 42 Конституции
СССР записано, что каждый гражданин имеет право на квалифицированную медицинскую помощь. А почему меня не лечат, а выгоняют больного на работу?
— Ты и Конституцию знаешь?
— Зэку надо знать больше, чем прокурору... Припер я хозяина, он и кричит: «Садитесь, Мотыльсон! Вы дискредитируете наш вечер!» А я в ответ: «Сидеть мне немного осталось, гражданин начальник. Скоро выйду и постараюсь получить ответы на свои вопросы в другом месте. В прокуратуре СССР, например.» Тут его терпение лопнуло, и он заорал, что вызовет дежурный наряд. Вот и верь хозяину на слово.
Соседи по палате одобрительно зашумели, поддерживая Моисея, а он, пользуясь случаем, стрельнул очередную сигарету и пошел погреть душу, как он выразился.
— Вот, учись оптимизму,— сказал я вечно насупленному Андрианову.— Главное, не потерять присутствие духа, не скиснуть.
— И ты веришь этому треплу? Кормит вас байками, а вы и уши развесили. Кто закурить даст, кто дачкой поделится — вот он и пудрит вам мозги.
— Не скажи! — возразил Зазуля.— Он в самом деле шухарной мужик. На зоне ждут — не дождутся, когда избавятся от него.
— А я сам только этого и жду,— уже от двери подхватил начатую фразу Мотыльсон. Увидев наши удивленные взгляды, пояснил: — Две затяжки успел только сделать; кенты совсем голодные нашлись. Оставил им...
— Чужого добра не жалко...
— Ленин требовал делиться,— моментально парировал Моисей и без всякого перерыва продолжил рассказ о своей «дружбе» с лагерным начальством: — Отрядники меня, как огня, боятся. Сколько я их пережил, уже и не вспомнить...
— Увольнял ты их, что ли?
— Я, конечно, не министр, но к перестановке кадров имею отношение.
— От скромности ты не помрешь.
— Будешь скромным —будешь голодным. В первую очередь — на зоне...
— Давай, лепи про отрядников.
— Прислали к нам молодого, нетерпеливого. Вызвал он меня в кабинет и устроил разгон: «Норму не выполняешь, инструкции нарушаешь!» Я переждал бурю и
вежливо спрашиваю: «Наверное, гражданин начальник, вам не терпится прославиться на весь мир? Я это могу организовать запросто: у меня жена эмигрировала в Израиль. Недавно получил через надежных людей письмо. Интересуется, как здесь меня содержат, не нарушают ли права человека? Придется написать, что кроме двадцатипятиэтажного мата ничего не слышу. Некрасиво получится, как вы считаете?» У отрядника руки задрожали, голос аж сорвался: «Вон из кабинета, израильский агент! Я с тобой еще разберусь!» «Посмотрим, чем все это окончится? Я слов на ветер не бросаю. Как бы вам новую работу не пришлось искать.» Услышал он такие мои речи, растерялся. А вечером поперли на ковер к заму по оперативной работе. Тот и начал на меня наезжать: «Почему грубишь отряднику, какие у тебя связи за рубежом?» Эге, думаю, припекло... И прямо в лоб: «А за что я должен дарить двадцатипятирублевую отоварку?» Опер шары выкатил, не врубается: «Какую еще отоварку?» «А простую. Отрядник предложил мировую: я ему отдаю четвертную, а он снимает все замечания. Крохобор, а еще офицер. Придется прокурору писать...»
— Здорово закручено!
— Недаром меня Моисеем назвали. Прибегает вскоре отрядник и поднимает базар: «Какую отоварку я у тебя требовал? Да на хрен ты мне сдался!» Вижу, клиент созрел, но хренами еще бросается. Тогда я тихонько, между прочим, добавляю: «Отправить письмо в Тель-Авив мне проще пареной репы. И не видать тебе генеральских погон. Кранты твоей карьере, молодой человек». И, хотите верьте, хотите — нет, проглотил он и «молодого человека», и то, что я обратился к нему на «ты». С тех пор стороной обходит.
— Так мы и поверили, что тебя все начальство боится. Захотят, в бараний рог скрутят.
— Разве я сказал, что они меня боятся? Я мирный человек, пусть только не трогают.
— Нашелся мирный. Базарят, за мокруху сел?
— Будешь много знать, скоро состаришься.
— А все-таки?
— Еще дойдет очередь... У меня другое настроение. Хочу вам опыт передать, как с начальством бороться.
— Что, все они — твои враги?
— Друзей среди ментов не держим. Другая порода... А самая сволочь среди них — начальник санчасти Воробьев. Хотя и врач, но хуже последнего опера.
— Постой. Без его направления ты сюда, в больничку, не попал бы.
— Причем здесь он? Накатал я телегу в прокуратуру России, что в санчасти колонии не лечат, а калечат. Воробьеву из абвера (оперативной части) сразу же сигнал: спрячь ты этого Мотыльсона с глаз долой. Он и запер меня в больничку. И вот припирается ко мне из областной прокуратуры откормленная баба — проверять жалобу. Уселась в кабинете, аж кресло скрипнуло. «В чем дело, Мотыльсон? Опять претензии?» А я в ответ на ее вопросы — свой вопрос: «Вы кому присягу приносили? Гиппократу?» Она смотрит на меня, ни хрена не врубается. А я продолжаю: «А теперь посмотрите, чей портрет висит у вас над головой?» Она задрала голову — а там родной Дзержинский. «Вот в том и дело,— говорю,— что и вы, и Воробьев служите в органах, но только не здравоохранения». Дамочка эта заерзала, а я пошел в разнос: «Вы отрабатываете капитанские звездочки, а что такое милосердие, давно забыли...» «Я — врач,— кричит.— При чем тут звездочки?!» «А при том,— базарю,— что вы с Воробьевым в одну руку играете. Ему верите, а мне, больному человеку, нет». Раздевайтесь, я вас обследую!» «Это другое дело,— сбавил я обороты.— А то на зоне со мной и говорить не хотят.» Повертела она меня, покрутила и отправила сюда, в Свердловск, на стационар.
— Добился своего?
— От меня просто так не отмахнешься. Прибыл сюда, а Ирина Васильевна мораль читает: «Я же говорила, Мотыльсон, что курс лечения у вас длительный, а вы уговаривали отправить вас в колонию...»
— Значит, ты уже был здесь?..
— А как же? Я из тринадцати лет года четыре по больничкам и санчастям провалялся. Не дал Бог здоровья, да и не собираюсь я на хозяина пахать. Пусть ищут дураков в другом месте.
— Чего же в прошлый раз сорвался отсюда?
— Раз на раз не приходится,— туманно ответил Моисей, явно не желая откровенничать. А мы и не настаивали — на зоне лишнее любопытство не в почете. Но сам Мотыльсон, видимо, не желая отгораживаться от соседей, неожиданно предложил:
— Вы интересовались, как я попал на зону? Верно, мокрое дело у меня. При этом в полном смысле слова — утопили мы с корешем одного клиента.
Все, кто находился в палате, повернулись к рассказчику. За время скитаний по изоляторам и лагерям мы видели преступников самого разного «профиля»; приходилось делить негостеприимный кров и с убийцами. Но Моисей Мотыльсон ничем не напоминал, во всяком случае внешне, классического душегуба. Спекулянт, мошенник, карманник — пожалуй, но только не человек, способный отнять жизнь.
— Что, не верите? Моя жена тоже сразу не поверила, хотя я — далеко не подарок... Короче, попал я в черную полосу — с работы уволился, документы по пьянке потерял. Кругом завал. Пошел в контору за новыми кси- вами, а там базарят, что надо ждать месяц. Они объявят об утере, проверят, не наследил ли я где, а потом дадут штраф и выпишут новые. Хочешь — не хочешь, а пришлось болтаться месяц, как дерьмо в проруби. Отправил жену с детьми к теще, а сам раскрутился. Кое- какие бабки были на кармане, да и дружков хватало. Встретил однажды кореша, потом другого (этот на своем «Жигуленке» был). Забурились в кабак. Посидели до закрытия, поддали, как надо. Тот, который за рулем, решил развести нас по хатам. Дурак, на свою беду. Приглянулся нам с корешем «Жигуль» — новый совсем, даже в ГАИ не зарегистрированный, всего пятьсот км пробежал. Базарим: «Или добровольно отдаешь нам мотор, или пришьем...» Хозяин труханул, проситься стал: «Мужики, не трогайте меня.» А нас уже понесло: врезали ему пустой бутылкой по кумполу, он и вырубился. Кореш за руль сел — и по газам. Проехали немного — в кювет занесло. Хозяин очухался, кричит: «Что вы, гады, делаете? Машину поцарапаете!» Ему, видишь ли, «Жигуленка» жалко, а собственного черепка — нет. Ну, успокоили его еще раз — приварили, как надо. Прем дальше, а куда — не знаем. Вдруг впереди заблестело что-то. Смотрим — вода, озеро... Заглушили мотор, базарим с корешем. Отрезвели уже, вся пьянка вылетела. Понимаем, что дело дрянь. А тут и хозяин снова заворочался. Мы предлагаем мировую: «Получай пятьсот рэ, только не сдавай нас в контору.» А он, дурак, уперся: «Все равно посажу!» У нас выбора не было... Отоварили опять бутылкой, выдернули из машины — и к озеру. По какому-то полю, а там рожь, что ли, сжатая... Всю спину ему ободрали, пока волокли... Запихнули в воду и держали, пока дергаться не перестал... Вытянули готовенького — ив скирду соломы засунули... А сами в «Жигули» — и скорей на пяту.
— И не жалко покойничка было? Знак .мый все- таки,— ехидно вставил Андрианов.
— Я, наверное, не на допросе? — ответил, как отрезал Мотыльсон.— В общем, решили мы с корешем отлежаться, смыться то ли сюда на Урал, то ли подальше — в Сибирь. «Жигуленка» загнали уже назавтра — за семь тысяч, да еще в бардачке две штуки было. У меня только задержка с документами была. А тут на первый взгляд, фарт подвалил — нашлись мои ксивы. Явился в контору, получил. Ну, думаю, пронесло. Не прошел и квартала, догоняют менты — и под белы руки. Приволокли назад. Оказывается, только-только поступила ориентировка на меня, чтобы немедленно задержали.
— Как же они вышли на тебя?
— Кореш, подельничек, сука, в штаны наложил. Поперся в отдел и раскололся. Мотыльсон, мол, порешил того мужика, шофера, а он только за рулем сидел, крови на нем нет.
— А труп как нашли?
— Колхозники грузили солому на машину. Мужик охапку на вилы берет, а зубья во что-то упираются. Он раз, другой — ни хрена не получается. Смотрит — а там труп.
— Можно было на него списать. Вы, мол, только оглушили, а смерть наступила от вил.
— Экспертизу не проведешь. Я тоже пробовал тюльку гнать следователю. Кричал, что мы подрались на берегу озера, что я защищался. Хотел на самооборону все перевести. Не выгорело... Хорошо еще, что открутился от убийства с издевательством. Могла быть и вышка.
— Так, значит, и подельник загремел?
— Загремел. И тоже на пятнадцать лет: пять на крытке и десять — на усиленном режиме. Я на него, тварь поганую, весь иск за «Жигуленка» спихнул. Пусть расплачивается...
— Как это тебе удалось?
— Запросто. Загонял он один, покупатель бабки из рук в руки ему передавал. Так что от иска я открутился, одно хорошо. Только я своему подельнику все равно пасть порву, если он живым с зоны выйдет.
— Оба виноваты.
— У него, а не у меня очко сыграло. Списала бы контора тот труп на какого-нибудь рецидивиста — и закрыли бы дело. Тем более, что покойничек шофером был, мало ли кто его пришить мог? А мой так называемый
корешок еще одну подлянку мне хотел устроить. Уже в тюряге...
— Что не поделили?
— Забрасывают меня в камеру. А там мужики за горло: «Это ты, жидовская морда, водилу завалил, а после кента сдал?» Кричу, что никого я не сдавал, подельник сам меня продал. Не верят... Хорошо, что обвинилов- ка в кармане была. «Смотрите,— базарю,— его забрали шестого числа, а меня — одиннадцатого. Кто кого продал?» Доперли, что правда за мною. Перестукали в соседнюю камеру, там с моим подельником быстро разобрались. Враз петухом сделали. Пусть теперь по зонам задом покрутит.
— А ты злой, Моисей.
— Посиди с мое, на забор бросаться станешь.
— Кстати, про забор. Это правда, что ты через него в соседний отряд прыгал? Базарили мужики...
— Мне с моими ногами только и прыгать. А дело было так. Кажется, в 1984-ом огородили отряды, вышки поставили. А мне к кенту надо позарез. Перелез все-таки, а тут капитан из штаба прет. «Ты, Мотыльсон, скоро мастером спорта станешь. Ловкий, как обезьяна». А я ему и выдал: «Это ты родился от обезьяны. Я инвалид, вот с тростью хожу, ноги у вас потерял». Мне, конечно, выговор...
— Который по счету?
— Я не бухгалтер, чтобы их считать. Знаю только, что одно предупреждение осталось. Да и то снимут, куда денутся, фараоны.
— За что последнее?
— Стою я, курю. Подваливает какой-то майор, из штаба, наверное. Посмотрел он на меня, как Ленин на буржуазию. А придраться не к чему. Посмотрел он по сторонам, видит: ящик какой-то стоит, проход загораживает. Он и кричит: «Переставь ящик в другое место!» А на кой хрен мне тяжести таскать? Я и отбрил: «Кто бросил его тут, тот нехай и переставляет». «Я приказываю!» — орет. Не выдержал я и послал его на три буквы ... вместе с ящиком. Он так и нашрайбал в докладной. Вызывает отрядник, требует объяснения. Я базарю: «Я старый, нездоровый человек... Мне много килограммов поднимать нельзя... А если я этот дурацкий ящик выпущу из рук, он упадет мне на ногу и получится травма? Что, мне получать выговор за нарушение техники безопасности? И вообще я был на другом участке, почему я должен за чужих горбатиться?» Отрядник понимает, что я прав, но все равно, зараза, выговор вклеил. Нет, вы скажите, есть справедливость или нет? Инвалида третьей группы Моисея Мотыльсона хотят сделать грузчиком!
— У тебя в самом деле инвалидность?
— Два раза ВТЭК давала группу, и оба раза этот Воробьев писал, что я практически здоров! Где же правда?! Я вам говорил, что Воробьев — мой первый враг. Вот выйду — буду привлекать его к уголовной ответственности.
— На каком же основании?
— За халатное отношение к порученной работе. У меня постоянно повышена температура, РОЭ также выше нормы почти в два раза. А он уперся и выгоняет меня на работу. Разве это не нарушение клятвы Гиппократа? Просто так я с этим Воробьевым не расстанусь!
— Зря ты это, Моисей. Молчал бы в тряпочку перед звонком, так спокойнее.
— За кого ты меня держишь?! Чтобы я, Моисей Мотыльсон, отмотавший тринадцать лет, разрешил об себя сапоги вытирать?! Скорей рак на горе свистнет! Вот мне недавно предложили красную повязку. И что вы думаете? Я им устроил такой цирк на дроте!
— Расскажи.
— А что тут рассказывать? Встречаю председателя совета. Растроенный, базарит, что общественников мало, одному за троих пахать приходится. Я и предлагаю: «Хочешь, я приду, запишусь?» Тот рад, чуть не пританцовывает, контейнер чая пообещал. Приперся я, а там как раз комиссия по досрочному освобождению заседает. Опер, как усек, что я пришел, сразу мне от ворот — поворот. Он мужик грамотный, унюхал, что я очередную хохму придумал. В общем — борода... Но слово я сдержал, контейнер заварки — мой.
— Тоже мне — подколка!
— Ты не торопись. Прихожу я в отряд, базарю мужикам: «Кто хочет на досрочку — разбирайте повязки». Народ, конечно, не верит. Я на полном серьезе продолжаю: «Сам замполит только что базарил, что отбираются кандидаты на суд, на досрочку. Одно условие — общественная нагрузка». Мужики, особенно те, которым светит досрочка, стали соображать... И — поперли в совет. Назавтра прибегает председатель: «Моисей, брось свои хохмы. Треть отряда просится, очередь за повязками». «Но я же твою просьбу выполнил? Г они контейнер!»
— И что, получил чаек?
— От Мотыльсона не открутишься! Зачифирил классно!
— Везет тебе что-то... Не на то начальство напоролся. На другой зоне быстро рога обломали бы. В Вологде, например, в СИЗО.
— Про Вологду — это точно. Там одного парня опер с пушкарями отметелили, а у него свиданка с родителями. Уговорили, чтобы прикинулся... Мол, в камере подрался. А родные — не дураки, быстро все раскусили. И — телегу в Москву. Прошло время, и закидывают к нам в хату мужика. Ништяк: по фене ботает, дружбанов вспоминает. Давайте, говорит, чифирек заделаем. Мы на глазок показываем, мол, казаки тут звери. А он свое — прорвемся, мужики, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Только раздербанили по кружкам — врываются казаки с палками и — давай метелить налево и направо. Мужик этот встал на дыбы: одному казаку врезал, другому... Короче — разогнал всех шестерых по углам, кричит: «Убью, если тронете, суки! Ведите к хозяину, с ним базарить буду!» Приводят, а хозяин — крутой мужик, больше, чем до трех, не считает. Только дверь закрыли, он дубину в руки — и вперед. И через секунду — палка под столом, хозяин через кресло летит. А наш «сосед» так небрежно: «Я — старший лейтенант КГБ. Разрешите присесть?» Он, оказьюается, по жалобе родителей приехал... Большая разборка после была, до хрена поразгоняли.
— Их разгоняй не разгоняй все равно, как собак невешанных. Новые не лучше приходят, и где их только набирают?
— В Менты нормальные люди не идут. Кто на карьеру работает, кто нашего брата грабит. Система.
— Это точно! И тут, за колючкой, многие менты устроились на теплые местечки. Знаете, кто у нас нарядчиком? Начальник угро всего Хабаровского края! Собрал банду из профессионалов. Нет, не рэцэдэ, а профессионалы из того же розыска, в общем, из конторы. Вся оперативка у них в руках была — кто богатый, кого пощипать можно. На мокруху шли запросто, защита была железная: сами убивают и грабят, сами себя вроде бы ловят. Мафия, в общем. Погорели случайно. Когда накрыли явку, целый склад оружия нашли: финские ножи и кортики, кожаную дубинку, заполненную дробью, обрезы, пистолеты, гранату, запалы для взрывчатки,
наручники, патроны. По крупняку работали... Й вот теперь их шеф нами командует. С хозяином скрутился — ворон ворону глаз не выклюет. А мы как были рабами, так и останемся. )
— Да, они и на воле давят всех, и здесь на нашем горбу в рай попасть хотят. Бывший подчиненный этого нарядчика, старший лейтенант, не выдержал унижений, покончил с жизнью. В предсмертной записке были такие слова: «Его необходимо гнать из начальников. Он погубит еще многих. Он негодяй». И что?
— Бросьте, мужики, воду в ступе толочь. Давно известно, а сейчас даже в газетах пишут, что крупное ворье, бандюги, подпольные бизнесмены нашли крышу и в милиции, и в прокуратуре. Да и в самых верхах,— раздраженно заметил Андрианов.— Это называется коррупцией, сращиванием государственного аппарата с преступным миром. В миниатюре это можно увидеть в любой колонии. Кто первые помощники администрации? Правильно, воры в законе, паханы разные. Они держат в страхе обитателей зоны, а начальство делает им поблажки. Рука руку моет... Что, не так?
— Правду говоришь,— Мотыльсон даже хотел пожать руку Андрианову, но тот сделал вид, что не заметил этого порыва. Моисей на секунду растерялся, но тут же нашел выход.— Наверное, собственный опыт богатый в этом деле. Недаром ментом работал.
— Работал. Только вот мало таких, как ты, пересажал.
— Всех не пересажаешь. Весь Союз тогда за решетку загнать надо. Или зону нужно перенести за ту сторону проволоки. Хотя, в принципе, это все равно.
— Что, некуда бедному еврею податься? Гони в Израиль.
— Откинусь, разберусь кое с кем, тогда и рвану.
— Скатертью дорожка!
— Я и по узкой тропинке проберусь. Надо только продержаться до звонка. Четыре месяца осталось. А тогда Мотыльсон еще раскрутится!
Потенциальный израильтянин победоносно оглядел палату, будто он только сошел с трапа самолета в Тель- Авиве. Но увидел не соплеменников, а зэков в унылых больничных робах. И по привычке попросил:
— Народ! У кого курево осталось? Дайте погреть душу.
— Когда отдашь? — традиционно спросил Зазуля.
— Он тебе сигары из Израиля пришлет. Оставь координаты.
— Будь спок, за мной не пропадет. Моисей Мотыль- сон добра не забывает.
— Ладно. Пошли на перекур.
Тоска, черная меланхолия, отчаяние, желание покончить счеты с этой беспросветной жизнью — этапы каждого, насколько я знаю, кого насильно вырвали из нормального человеческого состояния. Самые слабые (а их большинство) после попыток протестовать (даже — самоубийством) оказывались на самом дне лагерного общества. Здесь, в ИТУ (исправительном трудовом учреждении) из Человека делали (делают?!) ничто. Его размазывают, как жидкое дерьмо, которое затем заставляют есть, будто это манна небесная... Стремление выйти из скотского состояния немедленно и жестоко пресекается — быдлу слово иметь не положено. Утверждаю это не голословно, тяжкий опыт дает на это право. Сотни страниц моих многочисленных жалоб застревали в невидимой паутине, тонули в бюрократическом болоте, находили упокоение на дне канцелярских корзин. Система отгородилась от меня и мне подобным универсальным фильтром, сквозь сито которого не должно пройти ни одно мнение ПРОТИВ. Это — криминал, превышающий по степени содеянного любые, даже самые злостные преступления. Мы не должны были судить о системе, думать о ее правомочности. Незыблемость устоев являлась аксиомой, и любой, кто решался оспорить постулаты, подлежал остракизму, анафеме. Система защищала не человека, а себя — в этом и заключалась ее суть! Впрочем, и сегодня заключается.
Наверное, я повторюсь, если скажу, что ни я, ни мои невольные соседи по заключению не считали себя ангелами. Безгрешных людей нет — вот это уже аксиома. Попав за проволоку, мы требовали от администрации только строго соблюдать закон. А если точнее — протестовали против вольного его трактования в угоду конъюнктуре. Но всеми кодексами начальство вертело, как последними заштатными проститутками. За полтинник, за лишнюю звездочку на погонах, за кость с барского стола... Трудно это все, бесконечно трудно сознавать.
Серого цвета в беспросветную жизнь добавляла (как мне тогда казалось) и моя жена. Вернее, не она сама, а отсутствие ее писем. Я замучал почтальона ежедневными вопросами и даже претензиями, и она, боясь осложнении, заглядывала в нашу палату раньше, чем в другие. И произносила стереотипную фразу:
— Сороке ничего нет. Пишут.— И быстро бежала по коридору, чтобы я не начал доставать ее бесполезными назойливыми расспросами.
Проклиная сгоряча Людмилу (пусть она меня простит!), тюремную цензуру, советскую почту и все, что приходило в воспаленное воображение, захандрил. Грубил соседям, ссорился с медперсоналом, отказывал просителям, которые хотели, чтобы я помог им составить жалобы. В памяти мельтешили какие-то капитулянтские стереотипы: «Нет в жизни счастья», «Судьба играет человеком», «Насильно мил не будешь», «От тюрьмы и от сумы не зарекайся», «Попал в дерьмо — не чирикай»... Забросил обязательную зарядку, апатично глотал таблетки, автоматически ходил на бесполезные лечебные процедуры... Душа устала сопротивляться — все чаще я повторял про себя горькие лермонтовские строки: «Судьбы свершился приговор...» Эти два ключевых слова — «судьба» и «приговор» — гипнотизировали меня, имели надо мною какую-то магическую силу, вырваться из-под власти которой у меня не было сил. Раскладывая свою жизнь по полочкам, я искал в своей биографии тот роковой поворот, который привел меня в этот проклятый Богом и людьми Нижний Тагил. Но в этом самоанализе почему- то непременно сбивался на сослагательное наклонение — никак не мог обойтись без оправдывающего меня «если бы». «Если бы был жив отец... Если бы поступил в университет на стационар... Если бы не поступил на заочное... Если бы не попал в транспортную прокуратуру... Если бы не поручили курировать Витебское отделение дороги... Если бы труп Татьяны Кацуба обнаружили не в полосе отвода железной дороги... Если бы Адамов не работал в ночь под старый Новый год... Если бы Михасевич не взял на себя убийство Кацуба... Если бы следствие вел не Прошкин... Если бы судья Кабанов оказался более принципиальным... Если бы Анатолий Журба не сломался... Если бы в прокуратуре Союза работали честные люди... Если бы Бог услышал мои просьбы...» Однако жизненная спираль не раскручивается назад, это — улица с односторонним движением, сплошь утыканная запретительными знаками — «Поворот запрещен», «Стоянка запрещена», «Обгон запрещен»... А я попытался чуть форсировать скорость, взял в компанию ненадежных попутчиков, не рассчитал мощность двигателя, не уступил полосу движения государственной машине. И вот — авария, лишение прав, причем прав человеческих.
Постепенно угасала надежда. Время шло, никаких известий из Риги не поступало. И я решился на жест отчаяния — написал очередную «телегу»:
Председателю Верховного суда СССР Теребилову В. И.
Осужденного Сороко В. И., содержащегося в учреждении УЩ 349/13—2, г. Нижний Тагил Свердловской области
ЖАЛОБА
Направляю Вам уже четвертую жалобу. На предыдущие, хотя прошло четыре месяца, ответа не получил. Мне известно, что в настоящее время в Верховном суде Латвийской ССР находится протест прокурора республики на вынесенный мне приговор. Рассмотрение протеста умышленно затягивается, и я отчетливо представляю, что является этому причиной. Если Президиум Верховного суда Латвии отнесется к моему делу принципиально и беспристрастно, как и требуют советские законы, меня придется оправдать и освободить из-под стражи. Но поскольку следствие вела прокуратура СССР, допустившая грубейшие нарушения социалистической законности, она и сегодня продолжает оказывать давление на судебные инстанции, защищая честь замаранных мундиров. О вопиющих фактах беззакония, о недозволенных методах, практиковавшихся и до сих пор практикуемых следователем прокуратуры СССР Прошкиным, следователем прокуратуры БССР Борисовым, следователем Свердловской прокуратуры Кирсановым, я сообщил в ЦК КПСС, в Президиум Верховного Совета СССР. Эти так называемые служители Фемиды даже во время суда продолжали свою преступную деятельность: выписывали фальшивые повестки свидетелям, принуждали их давать ложные показания. Об этом открыто говорилось в судебных заседаниях, этому есть документальное подтверждение. Судья Кабанов неоднократно прерывал процесс, чтобы проконсультироваться с членами следственной группы и собрать несуществующие улики.
Убедительно прошу Вас потребовать от Президиума Верховного суда Латвийской ССР незамедлительно рассмотреть десятки жалоб на грубейшие нарушения, допущенные следственной группой под руководством Прошкина. Уверен, что объективный подход к делу поможет установить истину и Закон восторжествует над беззаконием.
Осужденный В. И. Сороко
Я, конечно, рисковал, обращаясь в Москву именно в тот момент, когда Верховный суд Латвии готовился (или делал вид, что готовится) рассматривать протест. Рижские служители Фемиды могли обозлиться, стать в позу и... «прощайте, мои надежды!» Но накопившееся отчаяние требовало выхода хотя бы в такой форме. Хотя, собственно, других вариантов у меня и не было. Письмо Теребилову и многостраничную жалобу, переданную мне женой еще в Риге, отнес инструктору по воспитательной работе. Старший лейтенант — женщина сурового, неприступного вида — удивленно спросила:
— Разве вы не знаете, что для этого существует специальный ящик? Расписку хотите получить, как на почте? Я никаких квитанций не выдаю!
— Поймите правильно. Ко мне и так относятся, мягко говоря, с прохладцей. Попадет жалоба в случайные руки, кто-нибудь полюбопытствует... Меня ведь осудили за неправильные методы ведения следствия. Правда, незаконно осудили, на это я и жалуюсь... Но я не хочу лишних конфликтов.
— Хорошо. Будь по-вашему, передам в спецчасть.
— Спасибо большое! Скажите, а писем мне нет? Жду уже который день, но...
— Не расстраивайтесь,— неожиданно мягко сказала старший лейтенант.— Может, не знают вашего больничного адреса.
— Спасибо на добром слове,— повторил я, а сам подумал* что и под форменным кителем может биться доброе сердце.
В палату я вернулся заметно повеселевшим. Оказывается, как мало надо человеку, чтобы поднять настроение — одна лишь приветливая фраза.
— Что, добрые вести? — поинтересовались соседи, увидев перемену.
— Пока никаких. Живу надеждой,— несколько высокопарно ответил я и начал наводить порядок в тумбочке. Наткнулся на какой-то старый журнал без обложки. И на первой же странице бросились в глаза строки: «Счастье немыслимо без страданий». «Черт возьми, как верно! Жестоко, как все в этой жизни, но абсолютно точно! Вот терзаюсь муками сомнений, паникую, а получу весточку из дома — и буду на верху блаженства. Тем более — вернусь домой, как в рай попаду!» Наверное, я произнес последние слова вслух, потому что Андрианов переспросил:
— Куда, куда ты собрался? В рай?
Посмотрев на него удивленно, я неожиданно для соседей и для самого себя тоже громко продекламиро- вал-пропел:
— О дайте, дайте мне свободу!
Я свой позор сумею искупить!
Спасу я честь свою и славу!..
— Крыша поехала! — меланхолически констатировал Андрианов и выразительно покрутил пальцем у виска.— Надо позвать санитара, пусть в психушку отведет.
— Будет буря! Мы поспорим и поборемся мы с ней! — Я воспрянул духом.
...С очередным этапом из Тагила в больницу доставили Булатбека Баголибекова, того самого, с кем я торил первые тропинки в своей спецколонии. Определили его в неврологию — сказалась, как он утверждал, старая черепная травма. Я не очень-то ему поверил, увидев в зарешеченном окне его круглую, как арбуз, улыбающуюся физиономию.
— Закосил? — не очень тактично спросил я.
— Что ты! В башке что-то творится — шум, звон. И руки с ногами немеют; врачи говорят, нервный центр поврежден. Серьезная болезнь...
— Пусть так... Какие новости в отряде?
Все, как было. Только вот Зарицкого комиссия «зарубила».
— На «химию» собирался?
— Ага. Но не повезло.
— А жаль! Лучше бы его выдернули. Язык у него, как помело. Хуже грязной бабы...
— Плюнь ты на него! Лучше о новостях с воли послушай.
— С этого и начинать надо было. Не тяни!
— Свидание у меня недавно было. Жена приезжала. И брат. Понимаешь, фруктов навезли — на целый колхоз. Жаль, сожрать не успел. Пушкарю пришлось оставить.
— И это новости? Ты что, издеваешься?
— Прости, это я так, к слову. Брат у меня в МВД работает, в нашем, киргизском. Так он говорил, что органы готовятся к приему большой партии освобожденных. Значит, амнистия будет.
— Слухи все это.
— Ты что, брату моему не веришь?! Он еще сказал, что всем работу по специальности дадут. А еще по восемьсот рублей.
— Не верится!
— Ну, не всем, а у кого угла нет, кто очень нуждается.
— Свежо предание...
— Точно! Брат узнавал, у него информация точная.
— Дай-то Бог! Кто бы против, а я — нет.
— Я слышал, ты можешь скоро откинуться; тебе проще.
— От кого слышал?
— В отряде базарили, что у прокурора все на мази.
— Там чего угодно сочинят.
— Не скромничай, Валерий. Выскочишь, помоги мне, в долгу не останусь.
— Сплюнь три раза, Булатбек! Сглазишь еще.
— Нет, я серьезно. Чувствую я, что у тебя рука волосатая есть. Закинь за меня слово, в долгу не останусь.
— Что ты, как дятел: «В долгу не останусь, в долгу не останусь». Тут, за колючкой, о каких долгах речь идти может?..
— Поможешь, хоть сейчас кусок отвалю.
— Ты? Здесь? Тысячу?
— Как нечего делать. Жена на свиданке десять тысяч передала. Так что я теперь жить буду.
— Заливаешь, Булатбек. И не обшмонали?
— Пришлось поделиться. Но осталось. И немало. Тебе хватит, если поможешь.
— Ну, как я тебе помогу? Сам не знаю, как отсюда выкарабкаться.
— Валерий, это все не задаром. Попроси жену, пусть слово где надо закинет. Я знаю, она у тебя деловая.
— Трудно это. В письме всего не скажешь. Сам знаешь — цензура.— Я решил немного «потемнить». Прилипчивый киргиз с первых же дней на зоне состыковался с земляками; с их помощью купил легкую работу; теперь вот закосил, лег в больничку и ищет варианты, чтобы выскочить на волю. За деньги. За которые, как он небезосновательно считал, можно сделать все. А я, по его мнению, именно тот человек, кто найдет этим деньгам нужное применение, знает, кому их всучить.
Увидев, почувствовав, что я колеблюсь, Баголибеков предложил:
— Давай завтра увидимся. В это же время, на прогулке.
— Ладно. Хотя я ничего не могу обещать.
— Мне многого не надо. Для начала — подольше здесь полежать. Ты ведь здесь уже освоился, связи завел.
— К администрации подходы нужны. А я — не Бог.
— Про деньги не думай. За этим остановки не будет. У меня все с собой. Сколько надо — столько надо. А если инвалидную группу пробьешь, куска два-три не пожалею. Можно и больше, лишь бы не пахать.
— Булатбек, не гони лошадей. Почву прохцупать, мосты навести.Г. Не все сразу...
— Хорошо. Я вижу, ты мужик деловой. Зря языком не треплешь. Жду тебя завтра.
Моя прогулка окончилась. Покидая дворик, я оглянулся. Лунообразная физиономия Булатбека, расчерченная решеткой, виднелась в прямоугольнике окна. Он надеялся на мою помощь. Но помочь ему я, к сожалению, ничем не мог. Мне бы самому выкарабкаться из беды, вырваться за колючку! Но поселить надежду в его душе, пусть призрачную, недолговечную, мне казалось, стоит. Пусть после наступит разочарование, но несколько счастливых дней среди полного мрака — это уже кое-что. Моя ложь была бескорыстной, тем более я и наврать-то ему еще не успел. Возможно, такой поступок далек от христианской морали, но оставить человека без всякой надежды на лучшее — это, по-моему, еще более безнравственно. Впрочем, в тот момент я, конечно же, не философствовал, а просто не мог отказать Булатбеку.
— Согласен? — Именно этим вопросом встретил меня назавтра Баголибеков, едва я вновь очутился в прогулочном дворике. Увидев, что я не выказал особой радости, Булатбек возмутился:
— Странные вы люди! Я предлагаю тебе деньги, а ты упираешься. Знаешь, у нас в Киргизии рассказывают анекдот. Один мой земляк обращается к Аллаху: «О Всемогущий! Пошли мне такое же богатство, как у моего соседа. Сделай, чтобы у меня была машина, дача, три жены — и все молодые!» И Аллах помог правоверному. А твой земляк в молитве на ночь просит: «Господи! Почему у моего соседа есть машина, дача, три любовницы — и все молодые? Сделай так, чтобы он жил на одну зарплату, как я». Ваш Бог так и сделал.
— Обижаешь, парень!
— Да не обижаю я тебя! Предлагаю деньги, хочу, чтобы ты жил богато, а не считал копейки! А выйдем оба на волю!.. Такие дела закрутим, что завидовать нам будут.
— Фантазия у тебя, мой друг...
— Какая фантазия?! У нас арбузы, дыни, овощи разные... Привезу в Белоруссию — тысячи иметь будем.
— А про тысячи километров ты забыл?
— Рефрижераторы наймем, это не проблема. Лишь бы согласился. Мы народ деловой, не беспокойся. Ты ко мне хорошо — як тебе еще лучше. Вот только помоги выйти.
— Опять ты за свое. Я не Генеральный прокурор.
— Зачем Генеральный?! Хватит, что ты прокурор. Я знаю, что у тебя связи остались.
— Уговорил. Намекну жене, чтобы побеспокоилась. Она у меня человек обязательный.
— Вот спасибо! Знай, что мой дом — это твой дом. На следующей встрече широкоскулое лицо Булатбека
напоминало полную луну. Узенькие глаза светились неподдельной радостью.
— По моему делу принят протест! Областной суд будет рассматривать.
— Значит, или доследование, или новое расследование...
— Что лучше? Подскажи.
— Надо, чтобы твои родственники нажали на суд. Если есть сомнения, можно по всякому трактовать.
— Научи, что делать. Попроси жену, чтобы подсказала моим, как поступить.
Мне было жалко смотреть на потерявшего чувство реальности человека.
— Моя жена — не Бог. Тем более, что она в Минске, ты — здесь, твоя родня — в Киргизии.— Я старался привести Булатбека в чувство, а сам казнил себя за легкомысленные обещания.
— Надо десять тысяч — дам десять! Надо пятнадцать — дам пятнадцать!
— Успокойся. Видишь, дело сдвинулось с мертвой точки. Все наладится.
— Слава Аллаху!
Аллах не помог Баголибекову. Не помог ему и я. Через положенные дни его вышвырнули из больнички. И накануне он прокричал обиженно из разбитого окошка:
— Не веришь, что рассчитаюсь? Нехорошо, прокурор! Я к тебе со всей душой, а ты...
— Я тебе говорил, что я — не Бог. Пока не вышло.
— Мало обещал? Дурак я, Булатбек. Денег пожалел. Валерий, навариваю! Даю сверху!
— Время нужно! — Мне было до предела неприятно, что этот странный киргиз поверил в мой обычный треп. Вот уж, воистину, заставь дурака Богу молиться, а он и лоб расшибет.
Вопреки всему (а, может, и воистину) — праздновала свой последний праздник уральская осень. Золотая, цветастая, дурманящая осень! Чуть подмороженные листья пахли деревенской баней, которую срубил мой отец; ветер с уральских отрогов приносил пьянящую свежесть; зазывно, будто женский голос, похрустывал первый ледок. Даже мой истощавший организм буквально распирало от сотен желаний. Хотелось любви самой высокой на веки вечные! Хотелось, чтобы ногти на руках не были с заусенцами; чтобы изо рта пахло хорошей зубной пастой; чтобы воротничок сорочки всегда был свежим; чтобы я мог сказать элементарный комплимент понравившейся мне женщине! Я хотел и хочу жить!
А опаленная первым уральским морозом ветка свисала над прогулочным двориком. И жалко мне было себя, жалко ее, бедную, такую чужую над колючей проволокой. Ягоды рябины падали нам под ноги; мы их топтали тяжелыми башмаками; лишь позже, увидев эту красоту на земле, асфальте, бетоне, мы бросились подгребать, хватать нежданные дары. Так было! Я до сих пор помню ощущение терпкости и сладости во рту от этой нечаянной уральской рябины. Мы становились друг другу на спину, будто строили спортивную пирамиду; ждали, когда ветер собьет гроздь, тянулись грязными руками к недосягаемому. И Бог помогал нам иногда — спелая кисть падала счастливчику в руки, и мы блаженствовали, давя посиневшими губами подернутые налетом-инеем ягоды. Никогда и нигде ничего вкуснее и слаще не пробовал! Сок тек по нашим небритым подбородкам, жег незаживающие от простуды и грязи язвочки, но... был напоминанием о детстве, о доме, о во-о-о-оле! И плевать я хотел на все винограды, вместе взятые! Мне бы рябинку — да каждый день! Благославенна ты будь, рябина красная...
Но Свердловск — город жесткий до предела. И не дозволяет расслабиться никому. Режим на зоне, режим в больнице, режим повсюду.
...Громыхнуло за тюремной больничной стеной, да так громко, что проснулись даже видавшие виды рецидивисты.
— Чё там?
— Рванули когти?
— Подорвали кореша?
А на улице, за решеткой, выстрелило еще раз.
— О-о-о! Это уже что-то клевое!
— Может, наши пришли?
— Далеко! Где тот Израиль...
— Бомба?
— Гори огнем!..
— Считай, откинулись...
— Раскатал губу! Нервы наши проверяют.
— Мужики! Ломанем на волю!
— Я те ломану! Я те по спине ломану, шпана гнилая! — Невесть откуда появившийся пушкарь гаркнул громче недавнего взрыва.— Смотри у меня! Рыпнешь- ся — без предупреждения на месте уложу!
— Оскорбляешь, гражданин начальник...
— Не оскорбляет, а превышает. За «дуру» каждый дурак хвататься умеет...
— Кто это там такой умный? Я тебе дам «дуру»! Я тебе покажу «дурака». Шагом — марш! На выход!
— А соси ты!.. Иди, поговорим!.. Пока свет не врубили... В такие ляжки и засадить можно; хрен с ним, что ментовские...
Я никогда не думал, не мог подумать, что мои соседи по палате, бывшие сотрудники правоохранения, могут так отпускать вожжи, превратиться в обычных зэков-рециди- вистов. Мат-перемат, грязная брань в Бога, в душу, в адрес всех апостолов сыпались, как горох из дырявого решета. И это были недавние воспитатели, блюстители нравов, порядочности и этических норм. (Правда, они и не знали, что им предназначена такая высокая миссия.)
...Рвануло еще раз.
— На Сортировке! Во дает...
— Ближе!
— Точняк! Скоро рельсы полетят...
— Авария!
— Революция! Коммунякам скучно стало.
— Бей жидов — спасай Россию!
— Грабь награбленное!..
А за окном, за стеной, грохотало. Мы гадали, предполагали, надеялись. А вдруг — стены падут. Темницы рухнут... Ох, Господи, какая дурь не придет в голову, когда снится свобода. Странные мы все-таки люди, верящие в правду, справедливость, Закон...
— Эй, топтун! Что случилось?
— А тебе на кой это сдалось?!
— Человеки мы все же.
— Бывшие! Сиди и сопи в две дырки!
— Допрыгаешься, козел! Откинусь — все трубы прочищу!
— Кто это там такой смелый? — Сержант зажег фонарик, пробежал лучом по койкам, но у всех пациентов были бесстрастные рожи.
— Из параши хлебать будете, гниды! Я вашу палату запомню! Ментяры вонючие! Мало вас давили! Ничего, я вам устрою веселую жизнь.
Заткнись, дебил.— Пользуясь неожиданной темнотой, мы вымещали всю накопившуюся злость на случайном сержанте.
Вспыхнула лампочка. И будто по команде, все зажмурили глаза. Охранник зло и растерянно шастал взглядом, но мы были похожи на только что причастившихся покойников.
— Достану я вас! Кровью харкать будете.
И не успел он повернуться к двери, как Андрианов внятно произнес:
— Г овном ты был, говном ты и остался...
— Кто?!!
Мы мирно посапывали...
К утру ЧП было расшифровано. Вначале, как заведено в нашей стране, ради перестраховки «потемнили» — мол, на станции Свердловск — Сортировочный взорвалась селитра. Лишь позже, когда селитра, при всей ее взрывоопасности, явно не «потянула» на такую мощность, по радио сообщили, что в воздух взлетели два вагона с полноценной взрывчаткой. Человеческие жертвы, сотни раненых, огромный материальный ущерб — вот итог грубейших нарушений Правил перевозок опасных грузов. Свердловская и союзная прокуратуры начали расследование. Мы в больничке, особенно я, бывший работник транспортной прокуратуры, выстраивали версии, предсказывали, какое наказание понесут виновные в трагедии. Но все сходились в одном — крайними окажутся рядовые железнодорожники, в прямом и переносном смысле — стрелочники...
Пересуды о взбудоражившем Свердловск событии шли долго, но к нам в тюремную больницу долетали лишь их отголоски. Чем меньше информации у зэков, тем лучше — это один из основополагающих принципов «перевоспитания» в советских ИТУ. Серые будни, расписанные до минуты: подъем — проверка — завтрак — лечебные процедуры — обед — терапия — прогулка — ужин — прием лекарств — проверка — отбой. И все это под недремлющим оком охраны. Кстати, самым ходовым был старый анекдот про майора Петрова, который устроил наблюдательный пункт в унитазе. Не покидало ощущение, что, справив большую или малую нужду, услышишь замечание: «Не по инструкции! Оправься еще раз!»
Но в советском человеке с детства привито убеждение, что инструкции, законы для того и существуют, чтобы их нарушать. Даже самые законопослушные граждане переходят улицу на красный свет светофора, топчут газоны парков и бульваров, ухитряются проехать в общественном транспорте без билета, не считают грехом положить в карман упаковку канцелярских скрепок, полкилограмма мясного фарша или электролампочку, проповедуя принцип: «Ты здесь хозяин, а не гость; идешь с работы — неси хоть гвоздь!» Для осужденных же, заключенных нарушить какой-нибудь параграф какой-либо инструкции — дело плевое, и даже «дело чести, доблести и геройства». По сути, вся жизнь за решеткой, за колючкой проходит в противоборстве с законом. Вступала с ним в противоречие и моя «адвокатская» деятельность, то есть составление жалоб, писем многочисленным просителям, которые буквально осаждали мою палату.
Очередной клиент выловил меня на прогулке. Он был закаленным, этот разрисованный татуировкой молодой крепыш. Мы ежились от сиверка, а он и не думал запахивать полы больничного халата, демонстрируя выколотых на груди амуров со стрелами.
— Слышь, прокурор,— как к давнему знакомому бесцеремонно обратился он ко мне.— Накатай жалобу, будь другом.
— Не смогу. Нет времени!
— Ты что? Я специально на больничку слинял из зоны. Кенты базарили, что тут из тринадцатой колонии грамотные мужики появились.
— Я же мент, по-твоему? Не западло просить?
— В больничке ментов нет, тут все одинаковые. Разборок не бывает, не боись.
— Ничего я не боюсь. Но у меня своих забот хоть отбавляй.
— Так я не задаром прошу. Подогрею. Скоро друж- баны подгонят все, что надо.
— Все вы так говорите. А коснется рассчета — в кусты! — решил я не церемониться с нагловатым просителем.
— Я за свой базар отвечаю!
— Базаром сыт не будешь.
— Ладно. Я сразу усек, что ты мужик деловой. Круто заворачиваешь.
— Какой есть, другим не стану.
— Давай так: я принесу старую жалобу, ты глянешь, что добавить надо. За мной не заржавеет; Серега Попов мелочиться не станет...
Когда мы вернулись в палату, соседи, слышавшие разговор, начали подначивать меня.
— Наколет тебя и этот молодой. Пашешь на них, серое вещество тратишь, а в тумбочке и в карманах пусто. А еще прокурором был, серьезный человек вроде бы.
— Да не могу я поборами заниматься. И в первую очередь, именно потому, что был прокурором. Совесть осталась и, надеюсь, останется.
— А у них на том месте, где совесть была, знаешь, что выросло? Ты же сам знаешь, что эта публика чифирит каждый день, тумбочки ломятся от продуктов. Они мастера на халяву прокатиться на таких, как ты... Хотя, конечно, это твое дело. Можешь заниматься благотворительностью.
Советы, предупреждения, подколки соседей не были безосновательными. Я действительно вольно или невольно оказался бессеребренником; никакого навара мне не перепадало. Более того, я рисковал вызвать гнев администрации, о чем уже писал. Но жалобщики шли чередой. Явился — не запылился и Серега Попов. Даже не спросив моего согласия, он бросил на кровать потрепанную школьную тетрадь в клеточку.
— Глянь, что тут нацарапано. А я пойду «капусту» доставать. У меня железный вариант. В хирургии окна впритык к забору. А там, на улице, на воле, дерево высокое. Мои кореша залазят и подгоняют мне подогрев. Все будет тип-топ.— И он скрылся за дверью.
Не особенно рассчитывая на вознаграждение, решил все-таки узнать, чем недоволен Серега, на что жалуется.
В обласную коллегию по уголовным делам г. Свердловска Попова Сергея Адольфовича, осужденного по ст. ст. 108 ч. 1 и 206 ч. 2 к четырем годам лишения свободы в ИТК строгого режима
КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА
Надеясь на справедливость и объективность, убедительно прошу внимательно изучить мое дело, так как я считаю, что вмененные мне статьи не соответствуют тяжести совершенных мною проступков. Не вдаваясь в подробности, коротко изложу свои показания, которые оставались неизменными с самого начала следствия и которые я повторил в суде.
14 мая 1987 года я предложил моим знакомым С. Каралову,
С. Пивню и А. Дзюбенко зайти к Н. Лопатиной, чтобы узнать, не находится ли у нее моя мать Попова Л. Н. В квартире по улице Радищева, 29 находилось очень много возбужденных людей в нетрезвом состоянии. Моя мать пожаловалась, что некто Лавлинсков и мужчина по имени Сергей, которых я видел в первый раз, пытали находившихся в помещении женщин раскаленным утюгом, требуя вернуть деньги в сумме четыреста рублей, якобы похищенные у Лавлинскова. Пока я выслушивал жалобы, Лавлинсков исчез, но затем снова объявился в квартире, с прежней агрессивностью настаивая на своем. Я начал убеждать, что его подозрения беспочвенны; даже если он кого-то подозревает, то заниматься самосудом ему никто не давал права. Лавлинсков был пьян, но, хотя и с трудом, согласился с моими доводами. Немного успокоившись, он попросил меня помочь отыскать деньги, предположив, что их могла украсть женщина по имени Вера, проживавшая по соседству, в доме № 25 «Б» по улице Радищева. Я согласился, так как не хотел продолжения скандала. Как только мы зашли в указанную им комнату, Лавлинсков набросился на меня с кулаками. Защищаясь, я вынужден был нанести ему два удара: рукою в область шеи, а ногою в живот. Лавлинсков упал, а я, видя, что смог пресечь его агрессивность, помог ему подняться и предложил довести до дома Лопатиных. Но он отказался, заявив, что поедет домой. Когда мы вышли из дома, слышавшие шум соседи спросили, что произошло. Я спокойно ответил, что Лавлинсков затеял ссору, но все уладилось. Мы разъехались по домам...
Таковы были мои показания следствию, об этом же заявили и все свидетели. Но суд принял во внимание только показания Лавлинскова, целиком став на его сторону. В зал суда не был вызван ни один свидетель, кто видел, как Лавлинсков издевался над женщинами. А моя мать, Л. Н. Попова, знает фамилию той жертвы, которой садист прижигал утюгом живот. У нее, к тому же, есть медицинская справка об ожоговой травме. Игнорировал суд и мое заявление, что инициатором конфликта был именно Лавлинсков, а не я. Приговор по ст. 108 ч. 1 считаю необоснованным, никакого преступления в данном случае я не совершал...
— Что интересное вычитал, прокурор?
— Стоит голову ломать?
— Небось, девку изнасиловал, а теперь базарит, что сама дала?
— Грабанул, наверное, кого-нибудь?
Вопросы соседей сыпались один за другим, но я не стал вдаваться в детали, отделался малозначащим:
— Не дочитал еще. Пока мордобой, хулиганка...
— У него на роже написано, что бандит с большой дороги...
— Посмотрю, что там дальше. В приговоре две статьи.— И я перевернул очередную страницу.
«...Во втором эпизоде, вмененном мне, я признаю себя виновным частично. Месяц спустя после произошедшего я находился в хирургическом отделении Свердловской городской больницы. У меня воспалилось предплечье левой руки, была наложена гипсовая повязка. 21 июня проведать меня пришли мать и отец — Л. Н. Попова и А. Ф. Попов. Немного побыв с ними в больничном сквере, вернулся в палату, так как с утра плохо себя чувствовал — поднялась температура, усилились боли в руке. Но и лежать не смог — в палате было душно. Соседи предложили мне выпить стакан пива, я не отказался. Затем снова вышел в сквер, где встретил медицинскую сестру Гасанову, которая предупредила, чтобы я не задерживался на улице и вовремя пришел принимать лекарства. Часам к девятнадцати я вернулся в корпус. Соседи предложили болеутоляющие и снотворные таблетки. Я принял их вместе с лекарствами, назначенными лечащим врачом. Состояние не улучшилось, а стало еще хуже. Мне захотелось пить. Как раз наступило время ужина, и я пошел к окну раздачи пищи, чтобы утолить жажду чаем; есть из-за болезненного состояния я не мог. У окошка выстроилась очередь, причем именно за чаем. Оказалось, что чайник взял с собою в палату Шалахин, один из «легких» больных, изредка помогавший медперсоналу и за это пользовавшийся расположением администрации больницы. С общего одобрения больных, стоявших в очереди, я отправился в палату к Шалахину. Он действительно пил чай в одиночку, забыв об интересах других. Кроме него в палате находились Покорин и Жикин. Не сдержавшись, я в грубых выражениях, употребляя нецензурные слова, потребовал вернуть чайник на кухню. Однако не угрожал ему, а лишь возбужденно жестикулировал.
От нервного напряжения приступы боли усилились, и я повернулся, чтобы идти в свою палату. Но тут Шалахин, задетый моими требованиями, схватил меня за шею и за больную руку. Я на мгновение даже потерял сознание. Когда пришел в себя, сильно толкнул Шалахина. Он отшатнулся, но, падая на кровать, все-таки хотел ударить меня ногой. Но мне удалось здоровой рукой перехватить ногу, и тогда Шалахин упал не на кровать, а на пол, между кроватями.
Вмешался больной Шикин и потребовал, чтобы мы прекратили ссору. Я вышел из палаты, в коридоре встретил хирурга и объяснил, как и из-за чего произошла стычка. Подошли другие врачи и начали шумно обсуждать произошедшее. Я вернулся в свою палату.
Вскоре приехала милиция и доставила меня в Ленинский райотдел*-’ На меня завели уголовное дело, а на следующий день, 22 июня 1987 года, отпустили домой под расписку. При этом следователь Шабунина предупредила, чтобы в больницу я не ложился, хотя мне требовалось лечение. Через неделю, не смотря на высокую температуру, меня арестовали.
При закрытии дела я узнал, что некоторые свидетели моей стычки с Шалахиным утверждали, будто я был пьян. Но врачи, видевшие меня в коридоре после ссоры, отрицают это, однако их показания не были приняты во внимание. Непосредственные свидетели конфликта Покорин и Жикин также подтвердили, что я был трезв. Стрессовое состояние явилось результатом болезни, усугубилось приемом сильнодействующих незнакомых лекарств.
Суд не нашел ни одного смягчающего обстоятельства. Наоборот, на него повлиял тот факт, что в 1981 году, еще несовершеннолетним, я был осужден. Так неужели из-за ошибки, совершенной в'юности, за которую я уже понес наказание, мне придется расплачиваться всю жизнь? Зачем превращать меня в закоренелого преступника?
На моем жизненном пути встретился хороший, отзывчивый человек. У нее двое детей; мы решили создать семью, мы любим друг друга, хотим вместе воспитывать ребятишек. Почему мой старый грех, который я пытаюсь искупить, становится препятствием, почему суд не хочет поверить в мое раскаяние, почему меня снова прячут за решетку?
Я нахожусь на краю пропасти; хотел даже покончить жизнь самоубийством, но меня чудом спасли. Мне всего 22 года, но жизнь потеряла смысл. Все время носить клеймо преступника — это страшно. И я прошу помочь мне выбраться из заколдованного круга, пересмотреть мое уголовное дело. Приговор, вынесенный мне слишком суров и несправедлив».
Едва я закрыл тетрадь, как вновь появился Попов и с порога:
— Все на мази. Завтра кореша подгоняет «капусту» и чай. Для Сергея в лепешку расшибутся.
— Будем посмотреть,— неопределенно протянул я.
— Г адом буду! — Серега с размаха стукнул себя кулаком в широкую грудь.—У меня пол-Свердловска дружбанов... Прочитал телегу?
— Надо кое-что уточнить.
— Гони. Я готов.
— Кто может подтвердить, что Лавлинсков начал драку?
— Никто. Мы были вдвоем. Но кореша и соседи подтвердят, что на улице я сказал: «Он на меня прыгнул, и я его вырубил». Так и было...
— Тут написано,— я показал на тетрадку,— что Лавлинсков поехал домой. Его кто-нибудь видел?
— Он только собирался домой. А на самом деле поперся к соседке, снова поддавать. Нажрался там до отключки. Менты приезжали на разборку, гоняли всех там.
Этих милиционеров допрашивали в суде, их показания есть?
— Никого никуда не вызывали, я же про это и базарю! А его так оттырили, что идти сам не мог.
— Откуда ты знаешь?
— Его соседка доложила. Менты вломили ему, повязали и сдали в райотдел. А оттуда — в вытрезвитель.
— Он и там был?
— А как думал?! Он там постоянный клиент. Как приехал с шабашки, с Севера, так оттуда и не вылезал. Привез «капусты» тысяч тридцать и бухал каждый день. Базарили, что за неделю четыре-пять раз в контору попадал. Менты почистят его карманы и выгонят. Он в сберкассу, снимет бабки — и все по-новому. Так и ошивался: то у баб на хатах, то в ментовке.
— Ясно. Значит, особой дружбы с милицией у него не было.
— Для него менты — первые враги. Что он, дурной, не понимал, кто капусту подмывает? Когда забирали, крыл их матом, как сук последних.
— Тогда у тебя есть вариант избавиться от 108-ой. Лавлинсков мог получить телесные повреждения и в райотделе, и в медвытрезвителе. А суд этого не выяснил, не допросил милиционеров. Так что зацепки есть...
— Давай, шрайбай. От одной статьи отмажусь и то легче.
— Но вторая, как ни крути, у тебя по делу.
— Двести шестая?
— Она самая. Устроил побоище в больнице.
— Подумаешь, один раз заехал Шалахину. Но он же на меня первым набросился, гад.
— Не прикидывайся теленком, Серега. Пришел в чужую палату, начал права качать, матерился. Хулиганка налицо.
— Я и не сопротивляюсь. Мне хотя бы год скостили.
— Варианты есть. Обмозгую, может, что и получится.
— Тогда ты будешь в Свердловске первым мужиком.
иткинешься — оставайся здесь, не пожалеешь, берега Попов корешей не забывает.
— Соловья баснями не кормят,— подал голос кто-то из моих соседей по палате.
— Ша! Не подгонят с воли, поможет общак. Железно! Жди меня завтра, прокурор.— И Серега, довольный разговором, вышел.
— Так тебя скоро паханом сделают,— криво ухмыльнулся Андрианов.— В авторитетные попал, далеко пойдешь.
— Мне далеко не надо. Только на волю.
— Туда всем хочется. Только пахать нам еще, как медным чайникам. До звонка.
— Будем надеяться на лучшее,— с наигранным оптимизмом ответил я, хотя именно оптимизм и начал меня покидать: о судьбе внесенного протеста не было никаких вестей, молчала жена... Надежда таяла, как и силы.
Если днем тюремная больничка мало чем отличалась от обычного лечебного учреждения, то с наступлением ночи ситуация резко менялась. Зловеще поблескивала в лучах мощных прожекторов колючая проволока, угрюмо торчали по углам сторожевые вышки, хрипло лаяли собаки, отрывисто звучали команды прапорщиков, доставивших очередной этап. Естественно, вся эта машина работала круглосуточно, даже без перерывов на обед, но днем ее железная поступь не так бросалась в глаза; нас, пациентов, обступали сиюминутные заботы, и ощущение, что мы — зэки, притуплялось. Ночь безжалостно напоминала об этом. Даже в мелочах.
...Служебная инструкция требовала, чтобы двери палат были постоянно закрыты на запор. Снаружи, из коридора, к двери крепилась специальная металлическая задвижка-защелка. Днем, когда мы принимали процедуры, сдавали анализы, завтракали — обедали, выходить из палаты можно было практически беспрепятственно. Позже палата превращалась в типичную камеру. Вызвать медсестру, отлучиться в туалет становилось подчас неразрешимой проблемой. Дежурили в это время санитары из числа наших братьев-зэков, но дозваться их чаще всего было невозможно. Публика в хозобслугу подбиралась, прямо скажем, не из лучших: на эти теплые места пробирались те, кто мог дать взятку, кто соглашался наушничать, а нередко — применить, мягко говоря, силу к больному. Так что разделяла нас не только дверь... И санитары при каждом удобном случае старались подчеркнуть свое
I
привилегированное положение, стремились показать, что они — власть, а мы — ничто. Так что конфликты случались часто. Участниками одного из них стали и мы с Зазулей.
Лечебный день у обоих был насыщенный: голодание перед зондированием желудка, таблетки и микстуры (правда, не знаю, насколько эффективные)... В общем, даже скудный ужин произвел в наших животах «октябрь^ скую революцию» (дело было как раз в октябре). Не сговариваясь, осторожно, чтобы не разбудить других, поднялись с кроватей и тихонько подошли к двери. На легкий стук никто не отозвался. На повторный, чуть погромче,— тоже.
— Издеваются, гады,— теряя терпение, прошептал Зазуля.
— Да барабаньте громче, скорее откроет! Все уже не спим,— Это подал голос проснувшийся Андрианов.
— От дежурной сестры оторваться не может! Прилип к юбке! — определил, где находится санитар, Ульянов.
— Может, он под юбкой? — высказал свою версию Мотыльсон.
Я ударил по двери кулаком — никакой реакции. Зазуля приложился ногой — такой же результат.
— Прокурор, попробуй плечом,— дал совет Ульянов.— Защелка на соплях держится. А ты тут успел откормиться...
Совет оказался дельным: задвижка не выдержала напора и отлетела, как говорится, «с мясом». С опаской выглянув в коридор, убедились, что он пуст. Трусцой протопали в туалет. Назад возвращались на цыпочках, прислушиваясь, не раздадутся ли шаги санитара. Но, слава Богу, пронесло. Не предвещало неприятностей и наступившее утро. Пришел столяр и без всяких разборок поставил запор на место.
— Санитару не в жилу возникать,— прокомментировал Мотыльсон.— Если заложит — сам залетит. А на хрена ему это надо?
Но кто-то заложил все равно. И скорее всего — из нашей же палаты. После обеда меня вызвал в коридор комендант больницы и пригрозил:
— Жди неприятностей. Я обязан написать на тебя рапорт.
— Что, сдать хочешь? Ты уже один раз это делал, когда возле этапки шмон мне устроил. Помнишь?
— А ты злопамятный! Но порядок есть порядок.
— Это тебе-то о порядке говорить? — обозлился я.— Развел бардак, а еще права качаешь! Туалеты загажены, коридоры заплеваны, окна разбиты, санитары дрыхнут по ночам, торговля в открытую табаком и чаем идет... Стоит мне жалобу накатать и вмиг слетишь с этого теплого места. Зажрался...
Комендант не Ожидал такого контрудара и засуетился:
— Чего ты кипятишься?! Я же никому ничего еще не сказал, не докладывал...
— И не советую. Мою вину не докажешь, а грязь — она вот, на каждом шагу. Так что не лезь в бутылку.
— Сразу видны прокурорские замашки,— огрызнулся комендант, но тут же переменил тон: — Собственно говоря, я к тебе по другому делу, по личному. Напиши жалобу. Говорят, у тебя неплохо получается.
— Кто это говорит? — насторожился я, потому что знал, что администрация уже интересовалась моей «адвокатской конторой».
— В больничке ничего не скроешь,— ушел от ответа завхоз.— Ну так как, поможешь?
Поразмыслив, я решил не портить отношений с комендантом. Можно было не сомневаться, что он знает о всех наших внутрипалатных разговорах, о нелегальных походах в другие отделения, о недовольстве больничной администрацией. Одна докладная — и я мог приобрести ярлык нарушителя режима. А это — немедленный этап назад, в Нижний Тагил, в литейку. Так что как ни сопротивлялся я внутренне, пришлось браться еще за одну жалобу. Правда, демонстрировать в этом случае бескорыстие не собирался.
— Как с гонораром будет? — спросил я без стеснения.
— Никаких проблем. Хочешь, скажу повару, чтобы он тебе двойную норму давал? Жри до отвала...
— И как ты себе это представляешь? У меня будет полная миска, а у соседей на донышке? Нет, врагов наживать не хочу и в прихлебатели не пойду.
— Тогда подожди до воскресенья. У меня свиданка с женой. Поделюсь дачкой. Что тебе надо?
— Сигареты для обмена и, конечно, от жрачки не откажусь.
— Заметано! Я слово держать могу.
Жалобу мы составляли в кабинетике завхоза. В комнате стояла койка, письменный стол, вешалка, на которой болталось несколько белых халатов. («Здесь медсестры переодеваются»,— сказал комендант). Забытой роскошью выглядел холодильник. Уловив мой взгляд, комендант сбивчиво пояснил, что медперсонал приносит из дома еду и хранит в нем, а он, к сожалению, только зэк, один из многих, так что запасов у него никаких нет.
— Вот после свиданки разбогатею,— повторил он.
Не теряя времени, взялся за работу. Особо изощряться не пришлось. Комендант, О. А. Мезенцев, и его брат, И. А. Мезенцев, под видом разносчиков телеграмм проникли в квартиру 65-летней гражданки Усольцевой и потребовали у нее деньги. Когда та отказалась удовлетворить «просьбу», братья заперли старуху в подпол. Продержав ее там некоторое время, Мезенцевы открыли темницу и вновь потребовали деньги. На этот раз бедная жертва оказалась сговорчивее и предъявила братьям сберкнижку, где числился вклад на сумму восемьсот рублей. В документе лежал и четвертной билет. Его-то и прикарманили братья-разбойники, прихватив заодно и найденную бутылку водки. Суд расценил, что «насилие, примененное в момент нападения, создавало реальную опасность для жизни и здоровья потерпевшей», и инкриминировал Мезенцевым ст. 146 ч. 2 пп. «А» и «Е» УК РСФСР, определив каждому по семь лет лишения свободы без ссылки с конфискацией имущества в ИТК усиленного режима.
Братья ничего в суде не отрицали, только не согласились, что их действия создали «реальную опасность для жизни». И приговор Туринского райсуда Свердловской области оставлял им лазейку для жалоб. Утверждение о насилии не нашло подтверждения, опасность названа «реальной», но в чем она выразилась, не было ясно. Судья явно подтягивал свое решение к обвинительному заключению следователей. Работа, одним словом, была грубой, рассчитанной на простаков. В жалобе на имя председателя Свердловского облсуда я и подчеркнул, что обстоятельства дела полностью не исследованы, остались сомнения, которые закон должен толковать в пользу подсудимых. И подвел итог: преступление, совершенное братьями Мезенцевыми, подпадает под ст. 145 ч. 2 УК РСФСР, срок по которой гораздо меньше.
— Вот это другой коленкор,— довольно потер руки комендант.— Нечего нам шить то, чего мы и не собирались делать. С нас и собственных грехов достаточно.
Не забудь, кто тебя на эту мысль натолкнул,— напомнил я.
— Подожди до воскресенья. Я твой вечный должник.
Но прошло и воскресенье, и три дня после него...
Комендант не заглядывал в нашу палату. Я спросил у однорукого санитара:
— Где же ваш начальник, Мезенцев?
— На промку отправили. Не угодил чем-то начальству. Не поделился, может...
Так неудачно закончился еще один эпизод из моей больничной адвокатской практики: ни «навара», ни покровительства коменданта. Зато вскоре произошла очередная стычка с завхозом, тем самым, который помогал когда-то Мезенцеву шмонать меня и которого я выгнал из палаты, когда он повысил голос на бедного манси Константина. До меня дошли вести, что Толе Коржуеву сделали операцию. Проведать земляка надо было обязательно, не обращая внимания ни на какие запреты. Собрав небольшую передачу — чай, печенье, банку консервов (все-таки гонорары мне иногда перепадали) — я направился в хирургическое отделение. Всем известно, какие преграды приходится преодолевать родным и близким даже на воле, чтобы проведать больного: запретов у медиков больше, чем разрешений. В тюремной больнице это вообще практически невозможно: зэк с зэком общаться не должен, никакие проявления добрых человеческих чувств инструкциями не предусмотрены. Но чем больше барьеров, тем изобретательнее становится осужденный. На зоне он находит щели в заграждениях, проломы в стенах, отогнутые прутья в воротах; здесь, в больнице, в ходу были отмычки. Многоопытные умельцы подбирают ключи от любых замков и наперекор администрации все-таки встречаются с друзьями. Отмычки эти передаются по наследству старшему в палате. Вот и мне Дудинский оставил четырехгранный ключ от двери между терапевтическим и хирургическим отделениями. Пользовался я им впервые и потому немного завозился.
— Ты что колупаешься в двери? — Я даже вздрогнул от громкого голоса завхоза.
— Что значит «колупаюсь»? — прикрыв уже отворившуюся дверь, сделал я невинное лицо.— Здесь небольшой сквознячок, дышать полегче... В палате духота, напихали людей, как селедок.
— Смотри, прокурор! Ты на контроле. Думаешь, никто не знает, кто ночью задвижку сломал? И опять возле двери крутишься...
— Тебе что, больше других надо? — пошел я ва- банк.— Получил халявное место, так и сопи в две дырочки. Много вас, начальников, развелось.
— Наглеешь, прокурор. Можешь не долечиться. Отсюда на зону быстрее попасть, чем сюда, в больничку.
— Ты еще угрожать будешь? — продолжал я наступать.— Катаешься, как сыр в масле, сестер тискаешь, взятки берешь... Думаешь, мы слепые?!
Завход не ожидал такого неприкрытого нахальства и растерялся:
— Режим есть режим, никому его нарушать не разрешено...
— А кто нарушает? Дышу свежим воздухом — и все. Правда, земеля,— обратился я к подошедшему Зазуле.
— Конечно. Он у нас в палате самый дисциплинированный,— включился в игру сосед.
— Смотрите, допрыгаетесь,— пригрозил завхоз и отступил под двойным натиском.
Не проиграв, но и не выиграв поединок, вернулись в палату.
— Что так быстро пришел? — поинтересовался Мо- тыльсон.— Не застал дружка?
— На завхоза напоролся,— ответил за меня Зазу- ля-— Но мы ему лапшу на уши навесили, задурили голову. А прокурор и припугнул еще...
— Нашли время по гостям разгуливать,— предостерег Мотыльсон.— По коридору начальство строем марширует, а вы сами напрашиваетесь на неприятности.
— Какое начальство?
— Заведующий отделением и какой-то бородатый хрен обход делают.
— Это хирург,— поделился информацией Андрианов.— Говорят, что крутой мужик.
Мы быстро улеглись на койки. На вошедших были белые халаты, но из-под них виднелись форменные брюки, на плечах просвечивали погоны со звездочками.
— Как здоровье, как настроение? — без всякого выражения на безразличном лице традиционно спросил заведующий отделением.
— Хреновое и то и другое,— ответил за всех Мотыльсон.
— С тобой все понятно. Ты — вечный больной, не первый год тебя знаю.
— Нет, правда: в груди хрипит что-то, начинаю кашлять — обрывается все в груди.
— Значит, не надо кашлять.
— Но...
— Никаких «но». Я не Бог и тебя вылечить не могу. Какие еще вопросы есть?
— Дверь на ночь закрывают, гражданин начальник. Сидим, как в клетке.
— Вы и находитесь в тюрьме. А если припрет, зовите санитара.
— Кормят плохо, разве тут поправишься.
— Отпущено полрубля, на них и кормят. Я из своей зарплаты добавлять не буду.
— Нам бы диету...
— За какие шиши? Вот даем вам витамины «А» и «Б», чтобы поддержать организм. И за это скажите спасибо. А вообще-то рацион — это не в моей компетенции. Нормы не я устанавливаю.
Закончив этой тирадой обход, заведующий отделением и не проронивший ни звука хирург вышли из палаты.
— Вот бесчувственные люди.
— Разве это люди?! — накинулся на Зазулю Андрианов.— Коновалы безграмотные. Им на нас наплевать. А ты,— повернулся он ко мне,— еще Ирине Васильевне благодарность написал, подписи собрал. Все они на одну колодку сделаны.
— Не скажи, Ирина Васильевна — душевный человек.
— Ладно, будь по-твоему. Только куда она подевалась, почему ее не видно? Мы ей — благодарность, а начальство — приказ об увольнении. Разве этот дуб, начальник отделения, простит ей, что мы, зэки, уважаем ее? Значит, она к нам добрая, видит в нас людей, так ведь? А мы числимся скотами, быдлом, и отношение к нам должно быть соответствующее. Так что ты ей своей благодарностью всю карьеру испортил.
Соглашаться с Андриановым не хотелось, но Ирина Васильевна, действительно, давно не заглядывала в нашу палату, а ведь она была нашим лечащим врачом. Мы строили различные догадки, пытались узнать о причине отсутствия у санитаров и сестер, но тщетно. Так что козыри у Андрианова были, и он их использовал вовсю.
— Хотя и она, конечно, не подарок, но хоть на бабу симпатичную посмотреть можно было. А по твоей вине и этого удовольствия лишились.
В разговор неожиданно вмешался Мотыльсон:
— Что ты базаришь, как на одесском привозе?
Сегодня утром я видел нашу врачиху. Жива-здорова, нам привет передавала.
— Заливаешь?
— Посмотришь завтра. А не веришь, можем поспорить. На пару заварок или на пачку сигарет.
Андрианов спорить не стал, лишь зло посмотрел на старого еврея. Тот невозмутиво лежал на койке, лишь высоко задранный подбородок свидетельствовал, что Мотыльсон доволен тем, что посадил в лужу всегда злого и агрессивного москвича.
...Вторую попытку прорваться к Коржуеву мы совершили с Зазулей к вечеру. На этот раз все прошло благополучно. Отмычка сработала безотказно, никто из начальства и обслуги нас не засек, палату земляка нашли без труда. Он лежал на койке с закрытыми глазами — бледный, непривычно худой. Я далеко не сентиментальный человек, тюрьма добавила жесткости, но тут сердце у меня дрогнуло — человек на больничной койке мало напоминал не терявшего (даже в колонии) оптимизма Толю Коржуева. Он прерывисто дышал, издавая время от времени слабый стон, на неожиданно тонкой шее одиноко пульсировала голубая жилка...
— Он всю ночь промаялся, не спал... Но ни врача, ни сестры не дождался, сколько мы не вызывали,— вполголоса сообщил сосед.
— Только утром дали обезболивающее, потом еще один укол выпросил,— добавил другой.
— Пойдем, не будем беспокоить.— Мы с Зазулей повернулись к двери.
— Валера, это ты? — раздался непривычно тихий голос.
Обернувшись, мы увидели, что тяжелые веки медленно приподнялись, взгляд сосредоточился, слабое подобие улыбки появилось на обескровленном лице. Анатолий попробовал приподняться, но гримаса боли тут же исказила все его черты, и он оставил попытку. Из уголка глаза вдоль заострившегося носа покатилась слезинка...
— Лежи, лежи, что ты! — бросились мы к нему.
Он жестом указал на стоявшую рядом табуретку и на место у себя в ногах...
— Может, тебя приподнять? Подложить что-нибудь?
Наконец он справился с болью и волнением, негромко произнес:
— Нигде ничего не найдешь. Просил санитаров, а те разводят руками: ни подушки лишней, ни матраца нет.
А на этой подушке,— он показал на сбившийся комок ваты у себя под головой,— мышь не уместится, не то, что я.
— Раз шутишь, будешь жить,— наигранно бодро отреагировал я.— На нас, братках-белорусах, как на собаках, все заживает.
— Вот-вот, они и резали меня, как подопытную собаку. Вшивая грыжа, а располосовали живот не жалею- чи. Вначале один разрез, потом что-то не получилось — еще один, пониже. Шов сантиметров на двадцать пять. И как только ниток не пожалели.
— Мужчину шрамы украшают...
— Брось, Валера, успокаивать. Живодеры они. Дозу заморозки не рассчитали, к концу операции наркоз прошел. По живому мясу шили, без всякого обезболивания. А потом говорят: слезай со стола, топай своими ногами в палату,
— Неужели каталки не нашлось?
— Многого захотел: зэку — и еще каталку. Похлопали, как поросенка после кастрации, по заду — и вперед! Если бы не санитар, ни за что не доплелся бы до койки. Где за стенку держался, где за него. Вот так-то, друг земеля, здесь оперируют.
Возбуждение и даже недолгий разговор утомили Анатолия, он опять прикрыл глаза.
— Мы пойдем, ладно? — осторожно спросил я.— Вот тут небольшая подкормка, доппитание: печенье, чаек, консерва.
— Спасибо, но пока ничего в горло не лезет. А вы не торопитесь, я сейчас оклемаюсь.
Коржуев облизнул пересохшие губы, морщась, устроился поудобнее на жесткой постели, снова открыл глаза.
— Вы вот мне скажите, почему в хирургическом отделении треть мужиков лежит с грыжей? И даже я, в общем-то, не самый хилый, и то заработал эту хворобу? Все ясно, знаете: на пуп берем сверх всякой меры. Вот и рвем себе кишки, гробим здоровье.
— Твоя правда,— поддержал его Зазуля,— где это видано, чтобы температура 38° считалась нормальной? А нас с такой на работу гонят, санчасть освобождение не дает.
— В нашей «самой человеколюбивой» стране и на воле бюлетень получить — целая проблема, а про зону и говорить не стоит. Норма, план, проценты — вот что главное, а не твое здоровье! Рабсила — это от слова раб, понятно?!
Дискутировать, а вернее — возмущаться — по поводу нашего бесправия можно было бесконечно, и я повернул разговор:
— Что воду в ступе толочь! Давай мы тебе, больной, чайку заварим. Есть в чем?
— Чаек — это дело! — оживился Анатолий.— С утра ничего во рту не было. Мужики кашу, шрапнель, принесли, но тошно на нее смотреть... А чаек — я с удовольствием!
Достав припрятанный самодельный кипятильник — стеклянную банку, лезвие безопасной бритвы и подсоединенные к нему электропровода — сосед Коржуева по палате принялся готовить чифирь. Вскоре мы прихлебывали горьковатый напиток вприкуску с печеньем.
— Хорошо иметь земляков,— через силу улыбаясь, расчувствовался Анатолий.— Ни пушкарей, ни тихарей не боятся.
— Ладно, обойдемся без комплиментов,— прервал я его излияния.— Ты поправляйся побыстрее, у нас дел много, а ты отлеживаться решил.
— На зону я всегда успею...— начал было Коржуев, но договорить не успел: из соседней палаты донесся звон разбитого стекла, да такой сильный, что все прямо вздрогнули.
— Драка, что ли? Окна бьют? — я поднялся, чтобы идти на шум.
— Сиди, еще в свидетели попадешь. Зачем тебе это надо? Тем более, что ты из другого отделения,— остановил меня Зазуля.
Но я не слушал. Распахнув соседнюю дверь, увидел... распреда из литейки Заварницына. Тот сидел на койке в одних трусах, свесив босые ноги и матерился, не выбирая выражений.
— Ты чего шум поднял? — вместо приветствия спросил я.
— А, прокурор,— даже не удивившись моему неожиданному появлению, протянул Заварницын и продолжил ругань.
— Козлы вонючие, гады ползучие! — сыпалась и откровенная нецензурщина.— Где мой халат, где мои штаны? Что я — дуба должен давать в этой холодине? Когда кончится этот бардак?
— Объясни, в чем дело?
— Понимаешь, раздели догола, запихнули в палату, а шмотки больничные не выдают... Что я им, папуас какой-нибудь?
— Привык начальником быть? Теперь попробуй, что такое шкура простого зэка,— не удержался я от подколки.
— Надоело мне это начальство! Думаешь, просто распредом? Хозяин требует, начальник цеха гоняет, отрядник придирается. Вот плюнул на все и лег в больничку. Пусть там без меня ломаются. А то: «Заварницын не справляется, у Заварницына порядка нет, Заварницын плана не дает...» А на чем план этот давать? На дореволюционном старье? На петровских станках? Вот транспортер опять полетел, лента разлезлась. Что, я своими штанами ее залатаю? Провались оно все пропадом.
Заварницын забрался на койку с ногами, поежился, потому что из распахнутого окна, одна из створок которого была разбита, тянуло осенним холодом.
— Кто это постарался?
— Молодой один, Серегой, вроде, кличут. Лезет парень на рожон, сам на выписку напрашивается.
Словно в подтверждение слов распреда в палату ворвался мой недавний «клиент» Серега Попов. Не обращая на нас внимания, он высунулся в окно и заорал:
— Медведь! Медведь! Подгоняй дачку!
— Для меня, наверное,— насмешливо спросил я, напоминая о том, что крикун так и не рассчитался со мной.
Он недовольно оглянулся, узнал меня:
— А, это ты... Видишь, подводят кореша. Договорились, что сегодня перебросят кое-что, а тут голяк. Ничего, я им припомню.
— Больно нагло действуешь. Засечет охрана, и накроется твоя и моя «посылка».
— Не переживай. Все продумано. Они вон с той березы, что за забором, на воле, бросают. И веревочку привязывают к пакету. Если не долетит — тянут назад. У нас ничего не пропадает.
— Надеюсь, что и долг не пропадет,— опять прозрачно намекнул я Попову, что жалобу писал не задарма.
— Да отдам я тебе долг, не ной,— вдруг окрысился он на меня.— Написал пять строчек, а вони на целую больницу.
— Говори да не заговаривайся,— завелся и я.— Не с малолеткой базаришь. Многое на себя берешь.
— Ты с ним поаккуратнее,— сделал Попову замечание и Заварницын.— Он все-таки бывший прокурор, не кто-нибудь там.
Попова передернуло, он сузил глаза:
— Счастье твое, прокурор, что мы в больничке, а не на зоне. Там бы я с тобой не так говорил бы. А за жалобу я с тобой рассчитаюсь,— с угрозой закончил он. И было непонятно, как именно он решил рассчитываться: продуктами, как обещал, или кулаками. Еще раз смерив меня ненавидящим взглядом, Серега Попов выскочил из палаты.
— Зачем ты сказал, что я прокурор? — набросился я на Заварницына.— Подставить этому подонку захотел? Это же отпетый хулиган, я читал его приговор.
— Ничего, здесь не тронет. А после ваши дорожки разойдутся. Зон в Сибири много, вряд ли встретитесь.
— Все равно, нечего лишнее болтать. Не мальчик уже, не первый год сидишь.
— Ладно, прости, сморозил по глупости. И от злости, что сижу вот голый, как дурак. Где моя одежда? — закричал он, подойдя к двери.
— Ого, как орешь! — подначил я.— Здоровый, как бугай, а в больничку лег.
— Не завидуй. Нога очень болит, колено вот опухло, еле хожу... Думаю операцию сделать.
«Врешь ты все,— глядя на сытую физиономию рас- преда, подумал я.— И там, на зоне, все покупал-продавал, и сюда, в больничку, за влятку попал. Подмазал кого надо в санчасти — и вот тут, в палате. Известны мне твои болезни...»
— Что, не веришь? — фальшиво возмутился Заварницын.— А ты попробуй покрутись день в литейке, побегай, понервничай. Ни минуты покоя нет, присесть некогда.
— Но это же не с тачкой,— как бы мимоходом заметил я.
— С тачкой, без тачки,— отмахнулся он.— Сам знаешь, что такое литейка, хотя и мало у нас пробыл. Кстати, как это тебе удалось слинять в больничку? Только пришел — и уже намылился. Деловой ты, видно, парень. Смотрю, отъелся, посвежел. Долго еще тут думаешь кантоваться или домой собрался?
— Сколько буду — от врачей зависит. А что касается дома — то я хоть сейчас в этой больничной робе готов ехать Только бь выпустили. Но пока и здесь неплохо, во всяком случае, лучше, чем на штамповке, ни гари, ни пыли, ни твоего крика. Лежи себе — поплевывай в потолок.
— Зря на меня бочки катишь. Я сам из распредов уходить хочу. На кой хрен мне эта работа! Вот сделают операцию, подлечусь, в контролеры пойду. Никто душу доставать не будет, сам себе хозяин.
— А на тачку не хочешь? — вновь напомнил я.
— Что ты прицепился к этой тачке? Я, что ли, ее придумал? Говорю тебе: допотопная техника, еще со времен царя Гороха. А план давать надо. Вот и вытягивают из нас все жилы.
«Поженить» Заварницына с тачкой никак не удавалось. Попав в маленькие начальники, он уже не мыслил себя в роли подсобного рабочего, «пахаря». Распред, бригадир, контролер — это еще куда ни шло. Ведь недаром же давал кому-то взятку, недаром шестерил, закладывал, подличал, унижался. И теперь обоснованно рассчитывал на благорасположение администрации колонии. И не ошибался в своих рассчетах.
Продолжать с ним разговор не было желания. Не прощаясь, вышел из палаты и заглянул к Коржуеву. Тот снова лежал на койке с закрытыми глазами, но дыхание на этот раз было ровным.
— Уснул,— шептом сказал сосед.— Не буди.
Я через потайную дверь отправился к себе, в терапию. День закончился удачно.
Неумолимо приближалось неизбежное — выписка. Начальника терапевтического отделения заподозрить в милосердии было нельзя даже при самой смелой фантазии, Ирина Васильевна, при всей ее доброте и отзывчивости, оставлять меня в больнице на свой страх и риск, естественно, не могла. Я и так был ей благодарен за снисходительность к моим манипуляциям с таблетками, ведь отказ от према лекарств, а точнее — уничтожение тех, что не нравились мне, являлось ни чем иным, как грубым нарушением режима. Если придерживаться правил, то меня уже давно ожидала литейка, и винить в возващении туда я должен был не кого-нибудь, а только себя. Но Бог Миловал, Ирина Васильевна ограничилась строгим внушением, и я продержался на зыбкой больничной койке больше месяца — срок, по любым меркам, немалый. И вот он подошел к концу.
— Сороко, собирай свои транты и топай на склад,— объявил однажды утром санитар.
— Кто бы мне объяснил, почему так получается: в больнице время летит быстро, а на зоне тянется медленно? — невесело спросил я у остававшихся в палате.
— Теорию относительности надо знать.
Реплика Мотыльсона была настолько неожиданной, что я даже рассмеялся.
— А еще говорит, что не долечился. Ржет, как конь, от радости, что выписали.
— Это он радуется, что тебя, Моисей, больше видеть не будет, задурил ты ему голову своим трепом.— У Андрианова уже с утра было плохое настроение.
— Ладно, мужики, поправляйтесь,— сказал я на прощанье и с сожалением покинул пусть не гостеприимную, то, во всяком случае, вплоне доброжелательную ко мне палату.
В подвале переоблачился и вновь стал зэком Нижнетагильской колонии. Невыспавшийся хмурый прапорщик доставил меня в этапку, закрыл скрипучую дверь. Обступили уже забытые запахи, в глаза бросилось настенное «творчество» адреса, клички, угрозы в адрес «шестерок», «козлов». Заскрежетал металлический запор: в камеру запустили еще одного осужденного.
— Здоровеньки булы!
— Какое тут здоровье,— уныло ответил я.— Чуть подлечился, а теперь — снова зона.
Сосед был настроен более оптимистично:
— Я сам попросился назад. Пролежал пять дней — и достаточно.
— Стоило ли ехать, по этапам болтаться?
— Еще как стоило! Получил ограничение на тяжелый труд. А еще в кармане освобождение на несколько дней. Так что все идет по плану.
— Так тебе и дали на руки освобождение. Заливаешь!
— Ну, не в кармане ксива, какая разница? Все равно недельку пофилоню.
— Ас чем лежал?
— В хирургии был. Понимаешь, пахал на зоне грузи- лой. Механизации, конечно, никакой. Скатилась чугунная болванка — и на ногу мне. Перелом. Залечили — подлечили, и опять я на то же место попал. А нога болит, опухоль не проходит. К концу смены еле хожу. Я в санчасть. А врач — Сергей Иванович такой — базарит: «Не придуривайся, хохол. Ни хрена у тебя не болит. Не на курорте.»
— Да, ни в грош нас не ставят...
— Это еще не все. Прицепился ко мне, чуть ли не дело шьет. Кричит, что я мастырку заделал, чтобы на работу не ходить.
Про мастырки — раны или увечья, нанесенные себе умышленно — я уже наслышался, но обвиненного в этом грехе (а вообще-то преступлении) встретил впервые. И поэтому спросил:
— Но мастырку же, наверное, легко распознать? Да и опасно это...
— Есть такие специалисты, что ни один врач, ни одна экспертиза не подкопается. Чисто работают. Вот я одного мужика знал, который закосил на туберкулез.
— Как это?
— Технология простая, только терпеть надо. Под кожу запихивается кусочек безопасного лезвия... Можно и полоску фольги или еще какую-нибудь тонкую пластинку.
— А заражение?
— Кто не рискует — тот не пьет шампанское... Так вот, слушай сюда. Кожа затягивается, только шрам небольшой остается. Пошел этот мужик на рентген, а у него потемнение на легких. Это лезвие проявилось. Тубик, значит...
— Никто и не разобрался, что это мастырка?
— Я до конца всю историю не знаю, но снимок — это же документ. В историю болезни пошел. Не выкинешь оттуда.
— Анализы же сдавать надо. А если там нет туберкулезных палочек?
— Чего-чего, а этого добра у любого зэка со стажем навалом. Думаешь, у тебя легкие в порядке? Посиди в тюряге, покантуйся на пересылках, на зоне повкалывай — и все болезни обнаружишь. Тем более на такой жрачке, на баланде. Любому можно поставить диагноз: «легочная недостаточность».
— Можно думать, что у тебя диплом врача...
— Шесть лет на зоне — это тот же мединститут...
— Тут ты прав. В мединституте шесть лет учатся.
— Вот видишь,— оживился сосед.— Так что у меня уже высшее образование. Выйду — диплом потребую.
— Скоро домой?
— Меньше года осталось. Жена молодая ждет не дождется.
— А дети?
— Не успел еще. Молодожен я, полгода назад женился.
Наверное, на моем лице было написано такое недоумение, что сосед расхохотался:
— Думаешь, крыша у меня поехала? Нет, с этим у меня в порядке. И по мужской части все в норме. Жена не жаловалась, во всяком случае.
— С тобою у меня крыша поедет,— только и смог проговорить я.
— Ты, хотя и прокурор, а законы наши плохо знаешь. Еще перед посадкой познакомился я с дивчиной. Кстати, она землячка твоя, из Минской области. Тогда пожениться не успели — загремел я под фанфары.
— За что, если не секрет?
— Применил профессиональные навыки не по назначению.
— Конкретнее можно?
— Служил я в отдельном полку по ликвидации массовых беспорядков. Кое-чему научили. Вот и использовал знания не там, где надо... Но это дело прошлое,— не стал он вдаваться в подробности.
Видя, что сосед не хочет откровенничать, я вернул его к непонятной мне женитьбе.
— Ты про невесту не досказал.
— Про жену,— поправил он меня.— Переписывались мы с ней все шесть лет, а этим летом приехала она в Тагил, пошла к хозяину колонии. Так, мол, и так: хочу замуж выйти за вашего подопечного. Тот вначале обалдел, а потом говорит, что он не поп, обвенчать не может. А она — на такси, привезла работницу ЗАГСа. Нас и расписали.
— Значит, хороший она человек.
— Ия парень не из худших,— выкатил грудь колесом молодожен.— Жаль только, что медовый месяц нам сократили. Только три дня и помиловались в комнате для свиданий.
— Был и я там недавно. Жена приезжала.
— У меня уже свиданки не будет. Навсегда домой скоро. Где-то после Нового года...
— Я тоже рассчитываю. Весной, по крайней мере.
Мы притихли, вспомнив о доме, о родных, близких.
Из коридора доносились громкие голоса, где-то рядом хлопнула дверь.
— Что-то долго нас в этапке держат,— нарушил молчание сосед.— Зачем было из палаты выдергивать?
— Кстати,— вспомнил я,— ты же не рассказал, как на больничку попал. Твой же Сергей Иванович обвинил тебя в членовредительстве.
Хохол криво ухмыльнулся:
— Я того «специалиста» век не забуду. Ходить уже не могу, нога в сапоге не помещается, а он посылает меня подальше. Пришлось припугнуть, что жалобу прокурору по надзору накатаю. Скривился, но выписал направление сюда. Тут хирург посмотрел на опухоль и давай орать на меня: «Ты что, без ноги остаться хочешь? Дело к ампутации идет, если вообще жить будешь. Заражение вот-вот начнется!» А ему в ответ: «Вы, гражданин начальник, на своего коллегу бочки катите, а не на меня, бесправного зэка. Он меня симулянтом назвал». Притих хирург, потом спросил: «Кто у вас там, в колонии, санчастью командует?» «Сергей Иванович,— отвечаю,— врач-педиатр. Только он скорее педераст». Ляпнул, а сам думаю: отправит он меня сейчас назад, чтобы язык не распускал, его дружков-врачей не оскорблял. Ничего, пронесло. Почистил мне рану, гной выпустил. И ограничение дал. Так что все тип-топ.
— Но в лагере все равно в санчасть идти надо.
— Сейчас мне на всех наплевать. Ксива есть, пусть они меня в задницу поцелуют. А чуть что — телегу накатаю, что вшивый детский врач только бабки получает, а работать не хочет.
. — Это кто работать не хочет? — переспросил, открывая дверь, прапорщик.— Я, что ли?
— И вы тоже, гражданин начальник,— буркнул недовольно сосед.— Чего вы нас тут держите?
— На зону всегда успеешь. А пока освобождайте камеру. Пришел этап бытовиков, так что лучше вам побыть в коридоре. От греха подальше.
Возражать мы не собирались: находиться в одной этапке с бытовиками было небезопасно. А когда очутились у окна и увидели первый снег, падавший крупными хлопьями, то почувствовали к прапорщику чуть ли не благодарность.
— Эх, домой бы сейчас,— вырвалось у меня.— К маме, в деревню. Да вместе с дочкой, женой. Печка- голландка теплая, на столе картошка горячая, сало на сковороде шкворчит... Благодать!
— Не трави душу,— отозвался молодожен.— Сплю и вижу дом родной.
Он уперся лбом в стекло, закрыл глаза, глубоко вздохнул. Затем резко повернулся, сморщившись от боли в ноге, и' прихрамывая пошел к дежурившему в коридоре охраннику.
— Можно мне к начальнику больницы зайти?
Прапорщик разрешил, и хохол открыл дверь в кабинет. Теперь и я разглядел, что стою рядом с кабинетом начальника терапевтического отделения. Получив дозвол дежурного, переступил порог.
— Я занят. Прием в ординаторской,— не поднимая глаз, сердито проговорил начальник.
— Простите, но я иду на этап,— решил не отступать я.
— Тем более,— отрезал он.
— Во-первых, я хочу поблагодарить вас за лечение, а во-вторых...
— Во-вторых и в-последних: закройте дверь!
— Гражданин начальник, вы обещали на обходе дать ограничение на тяжелый труд. Записано это в моей карточке или нет?
— Всех не упомнишь!
— Сороко моя фамилия...
В ледяном взгляде врача мелькнула тень догадки; он нетерпеливо махнул рукой:
— Если обещал, значит, органичение будет. Идите.
Вырвав это полуподтверждение, вышел из кабинета,
однако полной уверенности, что начальник отделения вспомнил меня, не было. Поделился своими сомнениями с хохлом, который уже ожидал в коридоре.
— Им веры нет,— добавил скепсиса тот.— Темнят, крутят. Дай тебе ограничение, а кто пахать на зоне будет? Ты же знаешь, что почти каждого надо переводить на легкий труд. Откуда у голодных сила?
— Но у меня в самом деле гастрит. И почки отказывают...
о ~ Раз выписали — значит, здоров. Хотя не переживай. Приедешь в колонию — все узнаешь.
— Там в санчасти тоже не подарки.
— Требуй, дави на психику, пугай прокурором. Никуда не денутся, покажут карточку. А если ограничение есть — бегом к отряднику. Пусть переводит на легкую работу. За свое здоровье бороться надо.
— Борись, борись, а жить когда? — спросил я.
Сосед промолчал. Недовольный, судя по всему, результатом беседы с начальником больницы, он замкнулся в себе. Не смог ответить на собственный риторический вопрос и я. А за окном продолжал падать снег. Но едва достигнув асфальта, он таял, образуя в ямах и выбоинах грязные лужи. По ним тяжело топал очередной этап.
— Выходи строиться! — резкий голос прапорщика заставил нас вздрогнуть. Не теряя времени, подгоняемые караульными, вышли во двор. Там уже стояли, разобравшись по парам, человек двадцать этапников.
И тут произошла встреча, которая насторожила и подпортила настроение. Из этапной камеры вывели все того же Попова, нахального хулигана, которому я как-то написал по его просьбе жалобу и ... так и не получил обещанной платы, хотя наслушался заверений, что для него, короля свердловской блатвы, «честное слово — важнее всего».
Попов сразу узнал меня, но независимо прошел мимо. Не окликнул его и я, хотя так и подмывало напомнить о долге. Остановило в первую очередь то, что в одной компании с ним было несколько бытовиков, а вместе они представляют неуправляемую злобную силу. Тем более, что мы покидали больничную территорию, и запрет на разборки автоматически снимался. Я вновь превращался во врага номер один — прокурора, мента, которого, вновь-таки по зэковским законам, лучше всего видеть мертвым. И это были не пустые слова.
Спустя несколько минут, когда нас гуськом вели к машине-автозаку, Попов сам заговорил:
— Считаешь, прокурор, что обул я тебя в лапти? Так, что ли?
— Вот видишь, ты и оценил себя. Надо было —= прибегал сам, а потом — и дорогу забыл в палату.
— Схалтурил ты,— пренебрежительно проговорил Попов.— Такую телегу я и сам сочинить мог, это как два пальца...
Он явно рисовался перед дружками, а те одобрительно посмеивались. Конечно, следовало поставить наглеца на место, но вызывающий тон, скрытая агрессивность явно показывали, что Попов провоцирует скандал. И я безразлично произнес:
— Ладно, не победнею...
Должник обернулся, кольнул меня злым взглядом, что-то невнятное пробурчал себе под нос.
— Не крутись! — одернул его сопровождающий нашу группу прапорщик.
— Это кто же такой меня воспитывать решил? — окрысился Попов.— Да ты моей подметки не стоишь!
Прапорщик вначале даже онемел от такой наглости, а потом пригрозил:
— Поговори у меня, молокосос! Сопли научись вытирать, а после уже горло дери. Попадешь на зоне к опытным мужикам, притихнешь. Рыпнешься — быстро опустят!
— Кого, меня?! Да я сам любого опетушу...
— Салажонок ты, барабанишь, как пустой чайник. Молчи, пока я добрый!
Но Попов уже завелся. Ему хотелось выглядеть в глазах дружков-кентов героем, а тут его ставили на место.
— Твое счастье, что я тебя на воле не встретил. Отметелил бы так, что ни одна больница не приняла бы. Напялил форму и думаешь, что большим начальником стал? Только и умеешь, что кукарекать!
— Ты форму не трожь, щенок!
— Что, до генерала дослужиться хочешь? Не выйдет. Сразу видно, что болван. Так и сгниешь в прапорах... Дешевкой.
— Заткнись!
— Да ты эту форму, небось, на улице и не носишь. Боишься, что голову проломят. Но ничего, я тебя и в гражданских шмотках узнаю, когда откинусь. Мы с тобой еще встретимся!
—‘ Твое счастье, что не я тебя на зону повезу. Узнал бы, как горло драть. Морда бандитская.
Перепалка и взаимные оскорбления продолжались до проходной приемного покоя. Здесь прапорщик сдал нас караулу. Указывая на Попова, он что-то сказал на ухо старшему. Тот внимательно посмотрел на парня, согласно кивнул головой.
— Накапал, прохоряга? Ничего, пересекутся наши дорожки.
Но прапорщику было не до Попова. Караульные напрочь отказались принимать в этап одного из доставленных заключенных. И были, конечно, правы. Кто принял решение о его выписке, какой врач определил, что он выздоровел — понять было невозможно. Этот изможденный человек — кожа да кости — не мог передвигаться самостоятельно, его поддерживали с двух сторон добровольные санитары из числа осужденных. Про таких «выздоровевших» обычно говорят, что краше в гроб кладут.
— Не хочу грех на душу брать,—отмахивался начальник караула.— Загнется на этапе — кто отвечать будет? Веди его назад в больницу.
Прапорщик сопротивлялся:
— Вот его документы. Раз выписали, значит, здоров. Его место в палате уже занято.
Спор затягивался, а «предмет раздора» обреченно прислонился к стене, глаза его потухли, руки бессильно повисли, лоб покрылся испариной... Недолгая дорога от больницы до проходной отняла последние силы, он тяжело и хрипло дышал.
— Коновалы, а не врачи!
— Им на нас наплевать!
— Живодеры!
Реплики готовых к отправке зэков становились все злее, и караульные, почувствовав поддержку своих «клиентов», еще больше насели на прапорщика.
— Забирай своего доходягу и топай назад. Нам не с руки покойничков возить.
Но отменить распоряжение начальства прапорщик не мог. Пришлось вызвать представителей администрации. Пришел кто-то в белом халате, по-моему, заместитель главврача. И все-таки уломал караульных, хотя без всяких диагнозов было видно, что бедный зэк буквально на ладан дышит.
Когда подогнали автозак, несчастного на руках внесли в машину. В тесный бокс запихнули еще с десяток «выздоровевших», задраили дверь.
— Следующая остановка — городское кладбище,— мрачно пошутил пожилой конвойный.
Я попал в другой, но такой же переполненный бокс. Случайно или по чьему-то умыслу, моими соседями оказались одни бытовики, в том числе и Попов. На всякий случай я остался у двери, оперся спиной о железную обшивку, обезопасив тылы. Попутчики достали из заначек сигареты, закурили.
— Пожалейте доходягу,— раздался возмущенный голос начальника конвоя.— Последний кислород забираете.
К моему удивлению, цыгарки тут же загасили. Только Попов вызывающе крикнул:
— Чего пасть раскрыл, ментяра! И без тебя знаем, что делать!
Ему нравилось — и это сразу бросалось в глаза — быть на виду, в центре внимания, играть роль этакого бесстрашного героя, которому на все наплевать. От него прямо-таки исходила агрессивная энергия; он искал малейшего повода для стычки, скандала, драки. Зэки постарше сморели на него с ленивым снисхождением: «мало тебя еще учили, ничего, посидишь с наше, успокоишься»; ровесники, те, кто похитрее, заводили, подзуживали, чтобы посмотреть, как отреагирует на выходки Попова караул. А он лез в бутылку, корчил из себя руба- ху-парня. И я опасался, что он из-за своего непомерного гонора и неутоленной жажды мести ментам прицепится ко мне, напомнит кентам, что я прокурор. Тогда уж неприятностей не миновать: на автозак «Олимпийская хартия» не распространялась, он был уже атрибутом зоны.
Но Бог миловал — дорога от больницы до изолятора была недолгой. Разминая успевшие онеметь ноги, жадно хватая холодный осенний воздух, столпились на тюремном дворе. Последним из машины вынесли доходягу. Если бы не поддержка тех же санитаров-добровольцев, ему бы ни за что не устоять на ногах. Тюремный прапорщик скептически посмотрел на него, выругался вполголоса. А бедняга, повиснув на руках у соседей, старался вымучить на лице подобие улыбки.
— Смотри ты — живой! — состроил удивленную мину Попов.— А я-то думал, что он коньки откинул.
— Ша, салага! — жестко остановил его старый зэк, руки которого пестрели наколками.— Кончай зубы скалить!
Не ожидавший такого поворота событий Попов стушевался. Но уже в следующую минуту заговорил со мной.
— Слышь, как там тебя зовут? Валерий? Так вот, Валера, я перадал вашему Заварницыну, чтобы он с тобою рассчитался. Он мой должничок, так что теперь с него спрашивай...
— Причем тут Заварницын? Ты заказчик, ты и плати.
— Голяк пока, понимаешь? А он мужик богатый, не победнеет. Да и должен мне, понятно?
— Все мне понятно,— отмахнулся я от настырного попутчика.— На чужом горбу в рай хочешь.
— Ты за кого меня держишь? — озлобился Попов и скулы его напряглись.
— Просто констатирую факт,— спокойно ответил я.— А факты — вещь упрямая, против них не попрешь.
— Умный очень? Мозги мне запудрить хочешь? Работу старую вспомнил?
Не знаю, чем закончился бы наш «учтивый» разговор, но тут нас взяли под неусыпное наблюдение контролеры тюрьмы. Снова сверка документов, снова досмотр, перекличка. На этот раз, как и положено по инструкции, нас, нескольких бывших сотрудников, отделили от остальных заключенных и поместили в специальный бокс. Оглядев тесную, неухоженную камеру, я понял, что уже был в ней. Именно сюда определили меня, когда я прибыл этапом в Свердловск после суда в Риге. Правда, тогда рядом оказались несовершеннолетии. И нас, БС, и их, юнцов, помещают обычно вместе: нам не грозит расправа со стороны уголовников-бытовиков, малолетки защищены от насилия, причем насилия в самом грязном смысле этого слова. Словно подтверждая, что правила не изменились, в камере появились два новосела — молоденькие пареньки. Один из них постоянно курил, зажигая сигарету от сигареты. Вскоре в этапке дышать было нечем — тусклая электролапмочка еле виднелась сквозь сизые полосы дыма.
„ — Перестань коптить,— недовольно заметил я.— Мы с соседом,— я кивнул на хохла, с которым следовал из больницы,— не курим. И ты потерпи.
— Этот пижон,— курильщик показал на второго юношу,— тоже больной, но ничего, терпит.— И вызывающе посмотрел на меня.
— Уж больно ты смелый, как я погляжу.
Паренек сравнил свои и мои возможности, и пошел на
попятную:
— Понимаешь, дед, следствие идет. Шьют несколько угонов машин. И кражи. Так что настроение не из лучших... Мандражирую.
— Шьют или было дело?
— Как тебе сказать...— Он замялся, не рискуя откровенничать.
— Впрочем, не хочешь — не говори,— снял я его настороженность.
— Чего тут темнить,— подал голос второй юнец с бегающими воспаленными глазами.— Влипли, как дети... Шпана...
— Вы, по-моему, и есть дети.
— Не дети, а дураки. Обнаглели от удачи.
— То, что ты дурак — это ясно! — прервал его напарник.— Потому и направили в психбольницу.
— Какой я псих? Вот «закосить» хочу, может, выкручусь.
— Тогда начинай прямо здесь, в этапке. Базарь, скандаль, бейся головой об стенку.
БРИГАДА НОМЕР СТО
— Ага, тут не побазаришь. Скрутят, свяжут, дубиной врежут. Фараоны не цацкаются. Пробовал я уже...
— Ты не под буйного коси, а под тихого, недоумка. Или молчи вообще, или отвечай невпопад, или, на крайний случай, ковыряй в носу. Прикинься полудурком,— дал совет хохол.
— Ему и прикидываться не надо,— ухмыльнулся первый юноша и вновь полез в карман за сигаретой.
— Можно думать, что ты умнее. Вместе погорели, вместе и отвечать.
— С дурака какой спрос.
— Кончайте грызню! — перебил я.— И, между прочим, мы договорились не курить.
— И здесь жизни нет! — юнец зло выматерился, но спичку не зажег.— Это нельзя, то запрещено... Дышать хоть можно?!
— Чистым воздухом,— парировал я.
Правда, чистый воздух в Свердловске, и тем более в Нижнем Тагиле, на вес золота, так что совет мой был нереальным. А уж если говорить конкретно об этапной камере, то вспоминать о чистоте было, по меньшей мере, некорректно. Стены, пол, нары пропитались неистребимым специфическим запахом, они впитали в себя испарения тысяч человеческих тел. И никакая дезинфекция не могла истребить эту стойкую вонь. После больничной палаты (пусть тюремной — но чистой) возвращаться в затхлую атмосферу боксов, стаканов, камер, казарм было невыносимо трудно. Но мы люди подневольные, права выбора у нас нет.
...Больничка с ее теплой палатой, относительно нормальной едой оставалась позади. Каждая минута приближала нас к Тагильской пропасти, к черному провалу.
Неласково встретила «выздоровевших» спецколония. Мокрый снег, все та же копоть, все те же угрюмые физиономии. Было холодно на дворе, зябла от неизвестности измученная душа. Не высказали особой радости и соседи по бараку.
— Отлежался, прокурорская харя...
— Небось, мастырку залепил...
— В лапу дал начальству...
— Рука руку моет...
Такие и еще более злые реплики слышал я за своей спиной, а колючие взгляды подтверждали, что добра ожидать в этом отряде мне не приходится. А отрядник молчал...
Невероятно, но — факт: добрые вести иногда приносят не самые лучшие люди. Сразу им не веришь, ждешь какого-либо подвоха — так уж устроен заключенный, привыкший сначала подумать о худшем,— но зато после радость бываеть двойной. Насторожился и растерялся я, когда завхоз приказал:
— Собирайся с вещами!
— Куда, зачем?
Сан Саныч недовольно пробурчал:
— На кудыкину гору... В другой отряд перевели.
— В какой? — Сердце замерло. Хотя хуже нашего, десятого, работающего в литейке, в колонии, пожалуй, не было, но начальство в отместку за многочисленные жалобы могло задвинуть меня в любую дыру, поближе к зэкам-бытовикам, а это — опаснее самой тяжелой работы.
Завхоз не стал томить:
— Во второй. У тебя же ограничение. У нас в литейке таким хлюпикам работы нет. Правда, и там не малина, но все-таки...
— А чем занимаются?
— Сборкой вентилей, люков. Завтра сам увидишь.
— Спасибо за добрую весть, Сан Саныч,— выпалил я и чуть ли не побежал к своей койке.
— Что сияешь, как начищенный пятак? — спросил Олейник.
— Помоги собраться. Вырвался я все-таки из литейки.
Перекладывая из тумбочки в мешок нехитрый скарб, возбужденно пересказал соседу новость.
— Считай, на курорт попал. Главное — народ там другой, почеловечнее, что ли. А тут собрали одних дебилов или подонков. Вот вчера получил мужик письмо из дома, что жена на развод подала, нашла себе другого. Горе у человека, места себе не находит, сына пятилетнего жалеет. А наша публика ржет, зубы скалит, чужое белье перетряхивает. Хоть ты каждому подряд морду бей.
Я слушал излияния Олейника не очень внимательно, мыслями уже был в новом отряде, вспоминая, кого знаю, пытался представить ожидавшую меня работу. Поэтому лишь вскользь заметил:
— Обстановка делает людей скотами.
Олейник, которому надо было выговориться на прощанье, не согласился:
— Да они пришли сюда такими. Сплошная уголовщина, я с такими на свободе боролся. Только вот сломал зубы, а теперь рядом с ними приходится и пахать, и жить бок о бок. Так и жди подлянки. С тобой хоть душу отвести можно было.
— Смири гордыню, попробуй их понять.
— Ни за что! Если бы хотел, то еще на свободе, в Сочи, с ними повязался. Знаешь, какие мне, начальнику ОБХСС, взятки совали? Сразу по сорок-пятьдесят тысяч!
— Заливаешь.
— Мог бы и больше. Идет судно в загранку, проверяю, а там левого товара целые тюки. Капитан сует пачки сторублевок. Вот так-то... И на базах овощных такое же ворье, и на промскладах. И у всех «крыша» надежная: не для себя, мол, излишки, для начальства. А начнешь раскручивать — тебя же по шапке...
— У всех нас доля одинаковая.
— Нет, прокурор, ты себя с нами не ровняй,— вдруг раздался шепелявый голос.— Тебе, сучаре, надо ном ноги мыть и воду пить...
От неожиданности я даже вздронул. В проходе стоял щербатый зэк-бытовик и вызывающе смотрел на меня. Мы с Олейником, занятые сборами, и не заметили, как он появился у нас за спинами и подслушивал наш разговор.
— Куда намыливаешься, ментяра?
— Не твое собачье дело,— с вызовом ответил я.
— Ты еще и вякать будешь? Пидаром сделаем...
— Смотри, чтобы всю жизнь на четвереньках не ползал. Шустряк-одиночка!
— Плюнь ты на него,— остановил меня Олейник.— Не ковыряй говно — развоняется.
— И ты базлать вздумал? — выщерился бытовик.— Вот вдвоем с прокурором и пустим по кругу.
— Ему ты теперь только соли на хвост насыпать можешь. Уходит он в другой отряд. А ко мне попробуй — сунься, последние клыки выбью! Топай отсюда, недоносок.
Увидев, что мы оба настроены агрессивно, непрошенный гость, пробормотав грязные ругательства, счел за лучшее ретироваться.
— Везунчик ты, Валера. Чуть побыл в литейке — и уже вырвался. А я, как ни бьюсь, никакого результата. Остается один вариант — отказаться от работы, загреметь в ШИЗО, получить выговор. И только после добиваться перевода. Кстати, ты со взысканием уходишь? Тебе же, помню, отрядник вынес...
На радостях я, признаюсь, и забыл, что у меня есть нежелательный «хвост». И теперь решительно произнес:
— Сниму. Сейчас же пойду к отряднику. Он, наверное, оформляет мои документы. Куй деньги, как говорят, не отходя от кассы.
Старший лейтенант, на мою удачу, был в кабинете один.
— Гражданин начальник, осужденный Сороко...
— Проходите, садитесь,— отрядник впервые (!) предложил мне сесть.
— Гражданин начальник,— набрав в легкие побольше воздуха, я приготовился вьщать на-гора приготовленную по дороге тираду.
— Короче, Сороко.
— Есть. Вы убедились, что я не обманывал вас, когда утверждал, что выполнить норму не могу из-за плохого состояния здоровья. Врачи подтвердили, и об этом есть запись в медицинской карточке, что тяжелый физический труд мне противопоказан.
— Вот мы вас и переводим на более легкую работу...
— Спасибо,— как можно вежливее произнес я, хотя отрядник явно присваивал себе чужие заслуги: переводил в другой отряд начальник колонии.— Но мне не хотелось бы уходить от вас со взысканием. Оно, как вы понимаете, незаконное...
— Я пользовался информацией санчасти,— отбил первую атаку старший лейтенант.
— Вам сказали неправду,— наседал я.— У меня было право, но я им не воспользовался, обжаловать взыскание, обратиться к прокурору.— Показал я свое благородство.— Слава Богу, все выяснилось без постороннего вмешательства. Зачем сор из избы выносить...
Последними словами я дал понять, что знаю о неприятностях, преследовавших в последнее время начальника отряда: некоторые жалобы на него были удовлетворены, и ему порядком нагорело от начальства.
— Хорошо, сейчас наведу справки,— сдался отрядник и набрал номер телефона санчасти.— Что там в карточке у Сороко записано?
Томительно тянулись секунды. Наконец старшему лейтенанту прочли заключение врачей.
— Что ж, твоя правда, Сороко. Есть у тебя ограничение. Снимаю взыскание.— И он взялся за авторучку, чтобы сделать отметку в личной карточке.
— Нет, гражданин начальник, вы его не снимайте, а отметьте, что оно было вынесено ошибочно. Не зарабатывал я его, не был ни в чем виноват.
— Ладно, будь по-твоему. Все тонкости знаешь.
— Жизнь заставляет,— скороговоркой произнес я, внимательно следя, как отрядник перечеркивает злополучные строчки.— Вот теперь я чист перед Богом и законом.
— Чистые сюда не попадают,— встал из-за стола начальник отряда.— Здесь очищаются.
— Так точно, гражданин начальник,— с готовностью подхватил я и продолжил неприкрытую лесть: — Когда трудишься под руководством порядочных людей, любые трудности можно вынести.
— Я только выполняю свой долг,— слегка поморщился старший лейтенант, но было видно, что даже «лобовой» комплимент ему приятен.
— Человек долга всегда держит слово,— добавил я, забрасывая удочку в будущее. На комиссии по досрочному освобождению, попасть на которую я рассчитывал, мнение отрядника станет одним из важных аргументов «за» или «против», и иметь союзника или хотя бы не врага —дело не лишнее.— Благодарю вас.
— Можете идти.
Не идти, а лететь хотелось после разговора с начальником отряда. Унылая казарма казалась праздничным дворцом, хмурые зэки — лучшими друзьями. «Будь благословен ты, день сегодняшний,— повторял я про себя (а, может, быть и вслух).— Будь благословен!..»
— Где шляешься? — хмуро встретил Сан Саныч, а затем, приглядевшись ко мне, удивленно спросил: — Что сияешь, как спелое яблоко? Отряднйк благодарность объявил?
— Секрет фирмы...— Я решил не раскрывать карты.
— Темнишь, темнишь... Как у него настроение?
— Нормальное.
— Пойду пол помою у него в кабинете.
— Сапоги не забудь почистить, Сан Саныч.
— Надо будет — вылижу, не только почищу. Лишь бы вырваться отсюда, так все осточертело... А ты не тяни резину, собирайся быстрей. Прихвати с собой Назарова, он тоже идет во второй отряд, даже в одну бригаду.
— Будет сделано, гражданин начальник,— вытянулся я перед завхозом и попытался даже щелкнуть стоптанными каблуками.
— Не выпендривайся, прокурор. Марш отсюда, ты уже не мой.
Повторять дважды не пришлось, и я легким шагом (откуда и прыть взялась?) поспешил к своему отсеку. Олейник понуро сидел на койке, опершись на мой упакованный мешок.
— О чем задумался, детина? — Бригадир не поддержал моего тона, еще больше ссутулился.
— Не переживай, все будет нормально. Вылезешь и ты из этой дыры.
— Да, что дыра — то дыра. И не люди вокруг, а звери неуправляемые. А на мне еще это бригадирство. Пахать никто не хочет, а закладывать я не могу, душа к такой подлянке не лежит. Вот и крутись тут, как хочешь.
Помочь Олейнику я не мог ничем, разве что — сочувствием.
— Ищи выходы, ищи варианты. Может, с помощью денег... Попробуй, попытка — не пытка...
— Где эту валюту взять? До свиданки далеко, а тут каждый сам за себя... Тупик.
— Ты не обижайся. Но мне пора идти, завхоз предупредил, чтобы не ошивался в отряде. Я уже чужой.
— Пора, так пора. Я провожу.
Мы вышли во двор. Назарова, с которым мы должны были идти в новый отряд, еще не было, но зато встретился Баголибеков. Увидев меня с вещами, он удивленно вытаращил глаза.
— Куда это?
— Домой. Освободили. Только что гонец из штаба команду дал.
— Ну, ты даешь! Точно говорят, что тебе Бог в кашу... Не забудь про меня, обещал ведь. За мной не заржавеет.
Розыгрыш прервал Олейник:
— Лапшу он вешает. Переводят его во второй отряд.
Баголибеков недоверчиво посмотрел на нас, потом махнул рукой:
— Разберешься тут с вами. Хотя я могу поверить, что прокурор топает домой. Настырный он. Захотел — и из литейки выбрался.
— Можно подумать, что ты в ней застрял. Валяешь дурака на «петушках».
— А ты знаешь, сколько мне пришлось выложить? Дорогие эти «петушки».
— Здоровье дороже, ты же сам говорил.
Баголибеков согласно кивнул головой, хотел спросить
еще о чем-то, но тут из казармы появился Назар с двумя дружками.
— Задержался с кентами. Чифирка на прощанье хватанул, раз ничего крепче нету. Теперь все чин-чина- рем. Пошли, прокурор.
— Жаль, что смывается,— искоса посмотрел на меня его дружок.— Мы бы пощекотали немного за старые грехи.
— К своим линяет. Там, во втором, все менты.
Не обращая внимания на злые реплики и колючие взгляды, я быстро пошел к лопатке, разделяющей отряды. Назаров догнал меня, хлопнул рукой по плечу.
— Живи проще. И мужиков пойми: вы их сюда загнали, прокуроры да следователи. Вот и прут они на вас рогом.
— Мозгов нет, потому и прут.
— Не всем же умными оыть. У нас разоорки свои: набили один одному морды, а затем за чаек сели. Срок же вместе тянуть.
— Это дело хозяйское, но я в такие игры не играю.
Когда миновали лопатку, мне показалось, что даже
воздух стал чище, хотя над колонией висело все то же свинцовое тагильское небо. Кружил голову неожиданный успех — позади была проклятая литейка; не висел камнем на душе неправедный выговор. Фортуна улыбнулась мне.
Приподнятое настроение, будто я переселялся в новую кватиру, а не менял один тюремный барак на другой, не покидало меня. Тот же типовой корпус, только на этот раз — второй этаж. И планировка типовая: по обе стороны коридора — раздевалка, кабинет отрядника, умывальник, туалет, ленкомната. В конце коридора вход в спальное помещение, а рядом еще одна дверь — в каптерку завхоза. Старший дневальный, увидев незнакомых, вопросительно уставился на нас.
— Нас перевели из десятого отряда...
Не переставая перебирать самодельные четки, активист-общественник небрежно кивнул головою на каптерку. Вообще-то инструкциями было запрещено иметь подобные безделушки, но в то время это считалось криком моды, и многие зэки даже промышляли их изготовлением, зарабатывая неплохой приварок.
Худощавый темноволосый завхоз разительно отличался от говорливого Сан Саныча, с которым мы недавно расстались. Без лишних слов он достал со стеллажей застиранные простыни, наволочки, вылинявшие одеяла с несмываемыми тюремными штампами, маленькие подушки со сбившейся в комок ватой.
— Спать будете на втором ярусе. Других мест нет... Там рядом вся ваша сотая бригада.
— У меня рука больная, я после операции,— начал было Назаров, но захвоз развел руками: — Ничем не могу помочь. Казарма переполнена.
Наши койки оказались в конце прохода, во втором ряду, у окна.
— Что ж, в тесноте, но, даст Бог, не в обиде,— проговорил я, читая фамилии на бирках, прикрепленных к каждой койке: Рыскалиев, Мусатов, Тулбу, Битарашви- ли, Проценко... «Да, судя по всему, тут настоящий интернационал. Теперь еще белорус и русский добавились. Только вот удастся ли сохранить дружбу между народами?..»
Прервал размышления Назаров. Он толкнул меня в бок и удивленно воскликнул:
— Гляди-ка, прокурор! Еще один клиент из больнички!
И действительно, в самом начале прохода с вещмешком стоял Солодовников, с которым мы вместе были в Свердловской больнице.
— Знаешь, какая у него кликуха? — спросил Назаров. И не дожидаясь ответа, сам же сказал: — Череп.
— Ничего оригинального,— небрежно заметил я.— Обычное определение по внешним данным: он лысый, череп немного вытянут. Другой клички у него и быть не может.
— Хреновый он мужик,— не слушая моих теоретических обоснований, продолжил Назар.— Работает на опера, сука.
— Мало ли что говорят.
— Железно! Точно установлено. Он раньше на вышке стоял, у лопатки. Мужики из соседних отрядов хотят перебазарить, идут к нему. Он чай возьмет, гадина, а потом сам же их и заложит. Больше сотни рапортов за месяц накатал. Столько людей продал!
— Теперь понятно! А я удивлялся, чего это он на этапе всех боялся, поближе к охране держался. Чует кошка, чье мясо съела.
— Ничего, здесь ему припомнят, никуда не денется.
Будто услышав, что мы говорим о нем, Солодовников
протиснулся между коек к нам. Сделав удивленное лицо, развязно бросил:
— И вы, соколики, здесь? По моим следам идете?
— Нужен ты нам,— не принял панибратского тона Назаров.— Ты — сам по себе, мы — сами с усами.
— Слабовато устроились,— оценил он наш второй ярус.— Я лично буду спать на первом. Что я, салага какой-нибудь? Ветеран, можно сказать, на зоне.
— Завхоз говорит, что нет мест.
— Найдет. Я с него не слезу!
Пробыл в баталерке Солодовников долго. И когда вышел со старшим дневальным, все еще продолжал качать права:
— Меня же засмеют старики, если я на второй ярус полезу. Никакого уважения к ветеранам...
— Ты что, русского языка не понимаешь? — огрызался дневальный.— Сам начальник отряда распределяет по койкам, держит это дело на контроле. Что я, переселю кого-нибудь без разрешения? На кой хрен мне неприятности на собственную задницу?
— Тогда поставь еще одну койку. Вот здесь,— и Солодовников показал на узкую щель возле самого входа.
— Тебе же хуже,— нехотя согласился дневальный.— Хочешь, чтобы по голове ходили, твое дело.
Вскоре одинокая койка приткнулась в начале ряда. Прихоть новосела была удовлетворена, но какую выгоду он от этого получил, я так и не понял. Разве что возможность наблюдать, кто, когда и куда выходит. Что же, может именно это и нужно было Солодовникову?
Впрочем, все посторонние заботы вскоре отошли на задний план. Оставшись один (отряд был во второй смене), я еще раз перебрал в памяти все произошедшее за день. Самое главное, несомненно, что ушел из литейки, причем со снятым, вернее, отмененным, взысканием. На такой подарок судьбы я и не надеялся. Теперь надо во что бы то ни стало попасть на комиссию по условнодосрочному освобождению. Когда же я получу право на эту льготу? И тут меня будто током ударило: вчера, 28 октября 1988 года, исполнилось два года моего заточения, я уже отбыл половину срока! Значит, у меня есть все основания рассчитывать на У ДО. В самом деле, счастливый день, счастливое совпадение!
От волнения даже пересохло во рту, бросило в жар. Закрыв глаза, несколько раз глубоко вдохнул, успокаивая возбуждение. Следовало детально обдумать план дальнейших действий. Ближайшая задача была ясна: получить хорошую характеристику в новом отряде, без этого о комиссии и мечтать нечего. Что ж, эта цель достижима, надо лишь ударно поработать месяц-другой. К труду я привычен, особенно после литейки, так что с нормой справлюсь, не полный же я калека... Еще не мешало бы обратить на себя внимание отрядного начальства. Нет, не наняться в шестерки, не доносить, не кляузничать, а просто найти хоть небольшую подпорку к характеристике. Видимо, придется все-таки вступить в какую-нибудь секцию. Без этого на комиссию по УДО появляться рискованно, могут показать от ворот поворот. Правда, на активистов обычно соседи косятся, но ничего, ради свободы и это стерпеть можно. К тому же, народ в отряде, если верить разговорам, совсем другой, чем в десятом. Там в основном бытовики, обычная уголовщина, а здесь — такие же, как я, БС. Они должны понять, во имя чего я подаюсь в общественники. Впрочем, особенно спешить не следует, надо посоветоваться с людьми более опытными. С Коржуевым, например, с Комом.
Встречу с земляками решил не откладывать в долгий ящик. Обувшись, я выскользнул во двор. Если разобраться детально, то действовал я в эти минуты очень рискованно. Ходить «в гости» в другие отряды категорически запрещалось, и попади я на глаза кого-нибудь из администрации, наказания не миновать. Счастливо избавившись от одного выговора, я сам, по своей воле, нарывался на другой, и тогда все мои мечты о досрочном освобождении летели в тартарары. Но я верил в удачу, в то, что именно в этот день со мной не случится ничего плохого. Лопатка, как и положено во внеурочное время, была закрыта. Пройдя вдоль ограждения и не обнаружив дыры, вернулся к воротам. Один из толстых железных прутьев был отогнут, и я протиснулся в щель. Петляя, будто заяц, прижимаясь к стенам, добрался до казармы шестого отряда. Приоткрыв дверь, увидел, что она пуста.
— Где народ?
— На смене, где же еще? — ответил одинокий постоялец, сидевший у входа.
— Коржуева не видел?
— На ббльничке он еще, здоровья набирается.
Трусцой побежал к другому земляку — Николаю
Кому. Того увидел прямо во дворе. Оставшись в нижнем белье, он, окутанный облаком пара, разминался, выталкивая самодельную штангу. Иногда я искренне завидовал умению Николая отвлечься от тяжелого бытия, его почти олимпийскому спокойствию.
— Давай лапу, земеля! — обрадовался он и крепко сжал мои пальцы мозолистой ладонью.
— Не иначе на Олимпийские игры собираешься,— кивнул я на штангу.— Вместе с Тараненко и Курловичем,
— Они ради медалей железо тягают, а я ради здоровья. Выйду, оно пригодится... Кстати, как у тебя драгоценное после больнички; когда ты вернулся?
— Три дня назад, еще лекарствами пахну.
— Привез ограничение?
— Все о’кей! И даже смылся из литейки. Во второй отряд.
— Вот это да! Поздравляю,— он снова начал трясти мою руку.— Значит, все идет по плану. Фартовый ты мужик.
Мне была приятна радость земляка; было видно, чтс он не завидует, а по-товарищески желает добра.
— Что, хвороб много нашли? — продолжал он расспрашивать.
— Подтвердились старые болячки, обнаружились новые... В общем, сорок восемь дней провалялся. Кололи, пичкали всякой гадостью, зонды давали... Но ничего, зато в тепле, а не на формовке. И ограничение в личном деле,— хвастался я болезнями, будто спортивными рекордами. И добавил: — Через месяц опять обещали вызвать, не долечили. Уролога не было, инфекционист в отпуске... Так что скоро еще этап (но приятный) в Свердловск.
Ком удовлетворенно потер руки:
— По такому поводу надо бы чаек заварить.
— Рад бы, но... голяк.
— По такому случаю я найду в долг. С отоварки отдашь. А, впрочем, я угощаю. Гулять — так гулять! Пойдем ко мне.
Приведя меня в знакомый уже закуток казармы, Николай отлучился на несколько минут. Вернувшись, поднял вверх большой палец руки:
— Все на мази! Чаек готовится.
— Начальником стал,— беззлобно подначил я.
— Контролерами командую все-таки,— не без самодовольства заметил земляк и спросил-предложил; — Могу, вернее, попробую, и тебя устроить. Поговорю с шефом.
— Кто бы против, а я — нет... У меня, тем более, льготы есть. Треть срока, чтобы на химию идти, давно минула, а вчера уже половинка стукнула. Так что перед У ДО неплохо бы под твоим началом поработать, благодарность получить.
— Ас выговором как?
— Снял сегодня отрядник, вычеркнул как ошибочный.
Николай недоверчиво посмотрел на меня:
— Ты это всерьез? Уломал Гигельмана? Редко кому удается, хватка у него мертвая.
— Ловкость рук,— похвалил я самого себя, но потом пояснил: — Санчасть подтвердила, что у меня ограничение, вот он под мою диктовку и ликвидировал взыскание.
— Тогда ты можешь смело идти на комиссию. Стучись во все двери. Только...
— Что только? Договаривай.
— Сейчас ты попал в отряд к старлею Колчину.
А этот мужик почище Гигельмана. Семь пятниц на неделе у него. Пьет, говорят, а с похмелья неуправляемым становится. Набрасывается на всех без разбору.
— Мне нечего с ним делить. Буду пахать, норму делать. Вот в секцию записаться хочу. Ради характеристики.
— Все правильно ты решил, но опять-таки... Сколько гы уже на зоне, в колонии?
— Скоро четыре месяца.
— Маловато, надо хотя бы полгода. Здесь не любят, когда сразу с заявами лезешь. Бортанут на комиссии, а потом доказывай, что ты не верблюд. Выжди немного, покажи себя...
— Понимаешь, вроде масть пошла...
— Поспешить — людей насмешить,— урезонил меня земляк и пошел за чаем.
Принесенная кружка до краев была наполнена черным, как деготь, напитком. Переливая его в банку, а затем обратно, чтобы немного остудить, Ком блаженно щурился, приговаривал:
— Хорош чаек. Класс чаек. Погреем грешную душу.
Сделав, обжигаясь, глоток, я, не желая обидеть
земляка, похвалил чай, но вынужден был заметить, что он немного горьковат, хотя на самом деле он был горьким, как полынь.
— Сейчас подсластим,— отозвался Николай и достал из банки леденец.
— Ты запасливый, как Плюшкин. А шоколада у тебя случайно нет?
— Скоро на волю вырвешься — плитками лопать будешь,— в тон мне отозвался земляк.— А пока будь доволен малым. Как я, например.— И он, непритворно наслаждаясь, начал пить чай маленькими глотками, сопровождая каждый охами и вздохами восхищения.
— Помолодел даже,— удовлетворенно сказал он, окончив священнодействие.— Молодцы китайцы, что придумали чай.
— Вот бы они еще придумали, как быстрее вырваться отсюда,— вернул я его на грешную землю.— Давай обсудим мою ситуацию.
— Гони, только не очень. Я еще под кайфом,— пошутил Ком, но увидев на моем лице, нетерпение, посерьезнел: — Выкладывай, что надумал.
— Излагаю коротко: ограничение у меня в кармане, выговора нет, льготы мне положены. Какой следующий шаг?
— Заявление о допуске на комиссию.
— Ия так думаю, но ты же сам говорил, что спешка нужна при ловле блох. Говорил?
— Ну, говорил. Только и сидеть сложа руки нельзя. Ты, значит, во второй отряд идешь? Постой, там же земляк у нас есть, Николай Грядовкин. Знаешь такого?
— Встречались...
— Он там в активистах ходит, с начальством дружит. Вот он и поможет тебе на первых порах.
— Не имей сто рублей, а имей сто друзей...
Так, на шутливой ноте, мы расстались с Николаем. Я загостился, и любой неосторожный шаг мог перечеркнуть все мои радужные надежды и даже привести в карцер. Теми же закоулками пробрался в свой барак и лег спать на новом месте, загадав, чтобы приснился вещий сон.
И лишь коснулся жесткой подушки, увидел маму, стоящую у калитки... Затем всплыло лицо Инночки, моей дочурки. Она собиралась из садика домой и поглядывала на дверь, в ее глазах явственно читался вопрос: «Придет ли сегодня за нею папа?»... А вот и жена, Люда, хлопочет на кухне и прислушивается: не поворачивается ли в замке ключ, не возвращаюсь ли я с работы?.. Видения были настолько реальными, что мне нестерпимо захотелось домой, и я проговорил: «Я иду, я сейчас вернусь!..»
— Вернешься, вернешься, когда срок отбудешь! — привел меня в чувство чей-то незнакомый голос.
По шуму, грохоту, ленивому переругиванию понял, что вернулись с работы мои новые соседи. Шел второй час ночи. Не подавая виду, что проснулся, я плотнее закутался в тощее одеяло и попросил Бога, чтобы он снова помог мне увидеть самых родных людей. С такой надеждой и уснул под утро, но чудо не повторилось...
Встал я раньше других. Стараясь никого не толкнуть, на цыпочках пробрался по проходу, на самой крайней койке увидел лысый череп Солодовникова. Кивнув дневальному, вышел из спального помещения. Умывшись ледяной водой, почувствовал прилив бодрости. «Что день грядущий мне готовит?» — спросил я самого себя и оптимистично ответил: «Нам не страшен серый волк!»
Дневальный остановил меня:
— Откуда будешь, новобранец?
— Перевели из десятого. По ограничению.
— Определили уже?
— Да. В сотую бригаду.
— К интеллигентам. Там Бровин бригадиром, секретарь ЦК.
— Что-то не слышал я о таком...
— Ну, не секретарь, а из секретариата Брежнева. Все равно шишка важная. Икру ложками жрал, небось, коньячок попивал.
— Не знаю, я с ними за одним столом не сидел.
— Чего ты осторожничаешь. Не бойся, наш отряд нормальный, стукачей, считай, нет. Жить можно. Только вот бытовиков пригнали, начинают права качать. Но тоже особенно не рыпаются. Здесь им быстро мозги вставят.
— А если в гости сходить к соседям?
— С этим все в порядке. Завхоз мужик нормальный, звонком сидит. Так что жизнь зэковскую знает насквозь.
— Как говорят, спасибо за информацию.
— Спасибо в стакан не нальешь,— ухмыльнулся дневальный.— Но я добрый, прощаю.
Первое знакомство оказалось удачным, я почувствовал уверенность; появилось спокойствие, подспудные страхи рассеивались. «В конце концов, не место красит человека, а человек — место», не совсем кстати подумал я, но потом все-таки решил, что на самом деле все зависит от меня самого. Зарабатывать характеристику придется своим потом.
Первые впечатления о своих новых соседях я составлял, находясь на своеобразном наблюдательном пункте — в ленинской комнате. Написав письмо домой, коротал время в одиночестве, ожидая, когда прозвучит звонок на подъем. И как только раздался резкий сигнал, мимо двери, в которой была застекленная форточка, засновали полусонные фигуры — ленкомната находилась на полпути между спальным помещением и туалетом. Сразу же отметил, что публика здесь постарше, чем в десятом отряде: средний возраст где-то к сорока годам. Приятно удивило, что не было слышно традиционного зэковского мата, как и не было излишней суеты, толкотни, спешки. Вразвалочку выходили после очередного звонка и на физзарядку. И это «мероприятие» проходило вполне пристойно: осужденных никто не загонял в строй, не было слышно крикливых ненужных команд. Каждый выбирал себе место по вкусу, делал те упражнения, которые считал нужными. В общем, если бы не окружающая обстановка и зэковские робы, можно было подумать, что солидное учреждение, состоящее из одних мужчин, проводит производственную гимнастику. С удовольствием (именно так!) проделал привычный комплекс и я, почувствовав даже прилив сил.
— Каким ветром к нам занесло? — прервал мои приятные размышления знакомый голос. Меня догнал бывший минчанин Юрий Осипчук. Я знал, что он «привез» в колонию пятнадцать лет, назначенных ему военным трибуналом, и «полосу» — склонен к самоубийству. Честно говоря, у меня в голове не укладывалось ни его преступление — убийство,'сопряженное с ограблением в группе, ни попытка покончить с собой в следственном изоляторе. Этому красивому тридцатилетнему крепышу шагать бы по жизни с высоко поднятой головой, детей растить, людей радовать и самому радоваться. А тут — камеры, пересылки, казематы, бараки, колючая проволока...
— Я спрашиваю, как к нам попал? — повторил вопрос Юрий.
— Ограничение получил, перевели в ваш отряд.
— Тогда класс! Было два земляка, станет три. Все веселей.
— А кто третий?
— Грядовкин Микола, милиционер постовой. Он говорил, что ты тоже из Витебска. Должны скорешиться.
— Знаю я его, на больничке вместе были недавно.
— Вот и отлично. Будем вместе держаться.
— На зоне отлично не бывает.
— Не скажи,— возразил Осипчук.— По сравнению с СИЗО тут курорт. Жратва совсем другая, свежий воздух...
— Это ты загнул! У меня кислородное голодание от этой «атмосферы»,— я показал на висевшее над лагерем разноцветное облако.
— По этому дети будут,— беспечно махнул рукой Юрий.— В тюряге от параши, от ее запахов загнуться можно... А главное — люди вокруг нормальные, а не зверье.
— Чем же они тебе понравились? — спросил я, показывая на шедших вместе с нами заключенных.
— Ну как же? Генералы, начальники разные, прокуроры, судьи. Если они сидят, то чего мне, простому смертному шоферюге, особенно переживать? Как-нибудь перебьюсь. Вот и дома успокоились немного, письмо пришло.
— Что ж, рад за тебя.
— Подваливай, земеля, попозже. Побазарим, перекусим. У меня повидло есть, маргарин. А пока я потопаю, койку еще не заправил.— Осипчук добавил шагу, обогнал меня, но потом остановился и показал рукой на стоявшего в одиночестве зэка: — Вон наш третий. На ловца и зверь бежит...
Когда я хлопнул Грядовкина по плечу, тот испуганно обернулся и удивленно вытаращил глаза.
— Не рассчитывал встретить? Думал, что я навечно в больничке?
Грядовкин наконец-то улыбнулся, протянул руку. Затем отозвал в сторону.
— Ты что, в самоволку сорвался?
— В какую самоволку?! Дали ограничение, перевели в ваш отряд,— повторил я сказанное уже Осипчуку.
— Значит, нашего полку прибыло. А в какую бригаду?
— К Бровину, в сотую.
— Совсем хорошо. Там вкалывать можно. Вентиля собирать будешь, справишься. Мужики постарше тебя и то норму дают.
— Я работы не боюсь. И в литейке не сачковал, чо там нужно лошадиное здоровье, а откуда оно у меня?
— Ладно, не прибедняйся, я не отрядник и не санчасть.
— Но все-таки начальник,— показал на нашивки активиста.
— Какой я начальник. Домой пораньше хочется,— объяснил Николай,— вот и вступил. А вообще-то я контролером пашу, работа ништяк.
То, что Грядовкин был не последним лицом в совете отряда, отвечало моим новым планам, поскольку и я решил податься в общественники. Не теряя времени, взял быка за рога:
— Мне бы тоже в секцию записаться. Скоро комиссия по условно-досрочному освобождению. Хочу попасть. И чтобы не показали «от винта»...
Земляк обнадежил:
— Нет проблем. Я сам тебе все ксивы оформлю. Это в моих силах. Но...
— Что, подогреть надо?
— Обижаешь, земеля. Что с тебя, новобранца, возьмешь? Просто услуга за услугу. Надо жалобу написать.
«Жизнь продолжается,— улыбнулся я про себя.— Не успел прийти в новый отряд, как снова те же просьбы.» А вслух спросил:
— Почему такая спешка? Дай оглядеться, устроиться.
— Не хочу времени терять,— настаивал Николай.— Вчера получил ответ Сащеко, заместителя прокурора БССР.
— Ты не ошибся? Он уже зампрокурора республики?
— Подписал ответ он. Правда, какой там ответ — форменная отписка.
— Да-а-а, делают карьеру люди... Кажется, совсем недавно Сащеко был прокурором в Слуцке. Я при нем начинал, помощником. Затем, знаю, его в область перевели, а теперь уже и в республике большим человеком стал... Но, по-моему, он мужик хороший. Справедливый.
— Хороший, но не для меня,— не согласился Гря- довкин.— Отказал. Правда, не он первый... Десятки заявлений и жалоб накатал — и все по нулям. Может, у тебя легкая рука?
— Не все сразу. Дай очухаться. Я же первый день в отряде.
— Так бы и говорил,— невпопад сказал земляк, забыв, что именно с этого мы начали разговор. Затем, потянув меня за рукав, добавил: — Пойдем, сейчас завтрак начнется. Перехватишь вместе со всеми, а потом чеши ко мне. Доппаек найдется, заодно и моим делом займешься.
Заниматься чужими делами, не уладив свои, мне, правду говоря, не хотелось. Но отказать на зоне земляку, отвернуться от него,— большой грех. И я после завтрака нашел Грядовкина. Встретился — и не пожалел об этом. Не только потому, что он помог мне без волокиты оформить членство в активе. Нежданно-негаданно я узнал некоторые детали, касающиеся Витебского дела. Мир тесен, что ни говори...
Николай Грядовкин до ареста в конце октября 1984 года был милиционером патрульно-постовой службы в Витебске. Вместе с молодой женой ждал ребенка- первенца. И в это же время бесчинствовал на улицах города и в его окрестностях. Начало своей преступной эропее он положил вечером 20 февраля 1984 года, когда дважды (!) напал на женщин с целью их изнасилования. Первая попытка оказалась неудачной — жертва смогла вырваться. Спустя час Грядовкину встретилась, на свою беду несовершеннолетняя М. Затащив ее к железнодорожной насыпи, пьяный насильник все-таки осуществил задуманное... Затем были апрель, август, октябрь того же года, когда Грядовкин, опять в изрядном подпитии, пытался удовлетворить свою похоть, причем, потеряв над собою контроль, уже в дневные часы. Дикая охота, к счастью, срывалась — насильник получал отпор. А 29 октября, спустя пять дней после нападения на И., Грядовкин подрался в пивном баре. Местные следователи в то время практически всех задержанных «примеривали» к страшным убийствам женщин, происходившим в области. Взяли «на пушку» и своего брата- милиционера. И он... раскололся. Рассказал где, когда... Как мог, помогал следствию: потерпевшая М. не смогла его опознать, тогда он сам напомнил детали...
— Ничего не понимаю,— удивился я.— Влип за драку, а признался в изнасилованиях.
— Попробовал бы не признаться! Мой следователь Савельев на первом же допросе загнал меня в угол: «Признавайся,— кричит,— сколько баб задушенных на твоей совести!» Я и наложил в штаны... Подумал, что кто-то засек, узнал... Не дай Бог, спишут на меня все нераскрытые убийства — и вышка или срок под самую завязку. А зачем мне чужое на себя брать? Написал явку с повинной, все выложил на блюдечке. Собрали всех «моих» баб — они мне чуть глаза не выцарапали. Только одна, которую я в самом деле трахнул, сказала, что не знает меня. Пришлось доказывать дуре, что это именно я штаны с нее снимал около железной дороги. За нее и статью дополнительную заработал — 115-ю.
— Несовершеннолетней была?
— Откуда же я знал? Телка здоровая и не сопротивлялась совсем. Почти сама легла... К тому же я у нее далеко не первый был; молодая, да ранняя. Потом по городу с ней прошлись, домой ее довел, родня видела. И никому ни гу-гу... А я, дурак, в повинной под диктовку Савельева своей собственной рукой написал: «Потерпевшая М. говорила мне, что ей только шестнадцать лет.» Сам себе камень на шею повесил, такой довесок к сроку заработал. Даже деваха в суде отрицала, что шел разговор о возрасте — мне не до того было, хотелось поскорей...
— Ас убийствами как?
— Причем тут я? И Савельеву, и заместителю начальника УВД, который моей персоной интересовался, сразу сказал, что к мокрым делам я никакого отношения не имею. Сколько ни крутили, ни вертели, ни хрена у них не вышло. Хватит, что в повинной сам себя оговорил.
— Так уж и оговорил? На пятерых женщин напал, избил, изнасиловал...
— Во-первых, изнасиловал только одну. Да и ту, считай, по согласию. А остальных чуть попугал.
— Теперь это называется попугал? Остряк-самоучка.
— Да я не отказываюсь! В чем виноват — в том виноват, за то и получил по заслугам. А вот часть третья из сто пятнадцатой мне ни к чему. Эту статью я и хочу скостить, поэтому и пишу жалобы и заявы. За малолеток много дают. Скинуть бы годика три...
Сочувствия земляк не вызывал. Пьяный мужчина, который ради удовлетворения животных потребностей идет на гнусное преступление,— что может быть отвратительнее! Вдвойне страшно, когда насильником становится работник правоохранения, по долгу службы призванный защищать людей, помогать им в беде. Не могу утверждать, но мне казалось и кажется, что именно форменный мундир развил в Николае чувство вседозволенности, даже толкнул на путь преступления. К сожалению, нередко случалось и случается (контингент Тагильской спецколонии тому подтверждение), что свою причастность к «органам» многие воспринимают и понимают в корне неправильно, даже извращенно. «Поскольку я работник МВД, прокуратуры — значит, мне законы не писаны, пусть им подчиняются и выполняют другие. А случится прокол у меня — ничего, свои в обиду не дадут...» Вот и Грядовкин из их числа. Он знал, что в Витебске ищут насильников, сам участвовал в различных рейдах; знал, что зафиксированы и его нападения на женщин. И рассчитывал выйти сухим из воды. Более того — продолжал «развлекаться», множа число преступлений, добавляя головной боли и бессонных ночей оперативникам и следователям. И не ввяжись он в драку, так бы и гадало его начальство, что это за половой разбойник разгуливает по Витебску, составляя конкуренцию Михасевичу. (Вот и осуждай тут пьянство! С одной стороны, после «ста граммов» Грядовкин отправлялся на «подвиги», но, в то же время, именно пьяный гонор втянул его в конфликт в пивном баре, и он был задержан.) Во- сем лет определил суд Николаю для раздумий о собственной судьбе, о том, что отличает человека от животного. Но Грядовкин, потершись на зоне в обществе юристов- профессионалов, решил оспорить один из пунктов приговора. И обратился за помощью ко мне, земляку. Мне, честно говоря, не хотелось браться за это скользкое дело, тем более, что наказание было справедливым. Я так ему и сказал.
— Не хочешь земляка выручить? — обиделся Грядовкин.— А я на тебя надеялся...
— Понимаешь, нет никакой зацепки для протестов, жалоб. Суд сработал четко, придраться не к чему.
— Но я же не знал, что она малолетка! Ничего она мне не говорила и на суде это подтвердила. Вырвал из меня Савельев повинную — вот и все доказательства!
— Пустой номер, не стоит зря порох переводить,— решительно отказался я.
Николай поник, казалось, что он вот-вот расплачется.
— А я на тебя так рассчитывал*— наконец медленно выдавил он.— Четыре года на зоне вкалываю, как проклятый, в председатели совета отряда выбился. Дома жена мучается, дочка отца родного ни разу не видела, сразу после ареста родилась.
— Раньше думать о них надо было, а не набрасываться на баб, как голодный кобель.
— Черт его знает, что за моча в голову ударяла. И жена молодая под боком. Спи, сколько хочешь. Дурак пьяный, что еще можно сказать? Но теперь-то десятому закажу! Ноги готов потерпевшим целовать, прощения просить, лишь бы помиловали.
— Обожди-ка! — прервал я его покаяние.— Ты сказал о помиловании? В этом что-то есть.
Грядовкин умолк, а я, как мне показалось, нашел пусть не надежный, не гарантирующий успех, но все-таки способ как-либо помочь Николаю. Может быть, и в самом деле его раскаяние искреннее, ведь не закоренелый же он преступник, для которого тюрьма — дом родной? Да и кто сказал, что чем суровее, строже наказание, тем больше гарантий исправления человека? Четыре года, проведенные им за решеткой, безусловно, навсегда отбили у него охоту к насилию. К тому же, в самом деле — молодая жена, маленькая дочь. Будут ли они его ждать еще четыре года? Не вернется ли он к разбитому корыту? Не озлобится ли, если останется один, не станет ли мстить всем подряд, не вернется ли на преступный путь?
И я подал надежду:
— Попробуем написать прошение о помиловании. В Верховный Совет БССР.
Земляк оживился, но затем безнадежно махнул рукой.
— Жена писала уже. Отказали.
— Капля камень точит. Не забывай, что у тебя уже полсрока в кармане. Все основания есть стучать в любую дверь,— проговорил я с оптимизмом, правда, немного наигранным.
Мой уверенный тон подействовал на Грядовкина, он воспрял духом.
— Если ты считаешь, что нужно, так я — тем более. Только как писать? Я толком два слова связать не умею. Помоги.
— Придется, что с тобой поделаешь? И что с тебя возьмешь?
— Вот, все вы такие, грамотеи. Чуть что — про рассчет базар заводите. Какой же ты земляк, если шкуру с меня содрать хочешь?
— Шуток не понимаешь. Отупел тут, на зоне.
— Да я никогда особенно умным не был,— самокритично заметил Николай.— И сел за дурость.
— Ладно, не занимайся стриптизом. Начнем работать.
Составлял прошение о помиловании я недолго. В памяти были похожие истории, к тому же мне уже приходилось писать подобные слезливые (чего греха таить) бумаги. Грядовкин едва успевал за моей быстрой речью.
«За тяжкие преступления мне назначена суровая мера наказания — 8 лет лишения свободы в НТК усиленного режима. Еще на предварительном следствии я добровольно написал повинную, чем способствовал раскрытию преступлений. Более того, когда некоторые потерпевшие не смогли меня опознать, я вновь-таки добровольно признал виновным себя, чем помог следствию. Глубоко раскаиваясь в содеянных преступлениях, я правдиво и чистосердечно давал показания в суде, прося о милосердии и снисхождении не столько к себе, сколько к жене, ожидавшей ребенка, и к моим престарелым родителям.
К сегодняшему дню я уже отбыл в местах заключения четыре года — половину срока, назначенного мне судом. Понимая всю тяжесть содеянного мной, я старался заслужить прощение общества упорным трудом и примерным поведением. Ежедневно казня себя за безрассудство, я понял, какое тяжелое оскорбление нанес я беззащитным слабым женщинам, какую нестерпимую боль причинил им, сколько горя принес в их семьи.
И, клянусь всем святым в моей жизни, что подобных аморальных поступков я больше не совершу.
Понимая, что тяжкий грех, взятый мною на душу, требует сурового наказания, что искупить его можно лишь постоянным покаянием и трудом на благо людей, прошу поверить, что бесповоротно выбрал путь правды, доброты и искренности. Я молод, мне всего 28 лет, и я надеюсь, что оставшимися годами жизни смогу заслужить прощение.
Обращаясь с просьбой о помиловании, я безоговорочно верю в милосердие и гуманность нашего общества. Если бы Президиум Верховного Совета внял моей просьбе, мольбам жены, малолетней дочери и родителей-пен- сионеров и ограничил срок наказания четырьмя годами, уже проведенными мною в заключении, то восторжествовала бы высшая справедливость. В семью вернулся бы любящий муж, отец и сын, бесконечно благодарный родной власти. Глубоко верю, что мое прошение найдет отклик в сердцах добрых и отзывчивых людей. Ради Бога».
Окончив писать, Николай вслух перечитал прошение, удовлетворенно хмыкнул.
— Знаешь, я такое вовек не придумал бы. Не зря, видимо, ты учился и в прокуратуре работал.
— А кто тебе не давал учиться?
— Что, сам не знаешь, какая в деревне учеба? Больше коровам хвосты крутил, чем в школу ходил. После армия, затем — милиция. Грамоты большой не требуется.
— Вот тут ты не прав. Милиционеру, в каком бы звании он ни был, какую бы должность ни занимал, образованность, знания нужны обязательно. Вы же представители власти, понимаешь? Ты же порой судьбы людей решаешь, не так ли?
— Решал,— поправил меня Грядовкин.— Дорешал- ся, что сам в лагере сижу. Валенок деревенский. Хочешь, рассказажу, как иногда в милицию набирают? Скажем, едет солдат домой, демобилизовался. Конечно, поддатый или чаще пьяный в стельку. Его патруль на вокзале захомутает и ведет не в комендатуру, а в милицейскую дежурку. А там уже сидит «купец» из УВД. И ставит условие: или идешь в милицию служить, или получаешь сутки, а, может быть, и срок. Зацепку всегда можно найти: морду кому-нибудь набил, к бабе приставал, офицера оскорбил. Вот и готов дембе-
лек, спекся пишет заяву, что хочет служить в орга
нах. Я таких многих знаю.
— Преувеличиваешь. Это — исключение, не система.
— Как раз наоборот. А пообещают вдобавок прописку городскую, а потом и хату — кто не клюнет на эту удочку. Чем в колхозе в навозе копаться, лучше в городе ... груши околачивать. И без ста граммов никогда не останешься, стоит захотеть... Вот и служат такие пни еловые, как я.
— Хорошо, что ты хоть теперь это понял.
Земляк согласно кивнул головой, грустно улыбнулся:
— Поздновато, но что поделаешь... Дураков тюрьмой учат. Спрятав прошение о помиловании в тумбочку, переменил тему; — После работы можно и подкрепиться, а то столько энергии растратил, аж вспотел.
Из торбы, висевшей за кроватью у стены, достал шмат сала, луковицы, хлеб. Нарезав большими ломтями, предложил:
— Попробуй — свое, домашнее...
Сало было хотя и желтоватым, но вкусным — в меру посоленным, с запахом чеснока, тмина.
— Это еще от прошлогоднего кабана. Вот забьют к Рождеству или к Новому году, попробуем свеженины. Мне в посылке всегда присылают. Еще бы бутылец самогона...— Он мечтательно закатил глаза.
— Каким ты был — таким ты и остался.
— Что, уже и помечтать нельзя? Дома можно и чарку выпить, ничего страшного. А вообще-то я завязал.
Перекусив, я начал играть «свою игру».
— Теперь ты должен помочь мне, если можешь, конечно. У меня подошли льготы, надо попасть на комиссию по УДО.
— Какие трудности? Что от меня требуется?
— Мужики говорили, что к активистам относятся лучше, у них больше шансов.
— Правильно. Без общественной нагрузки туда и соваться нечего. Пиши заяву.
Произнес он последнюю фразу таким уверенным тоном, будто был начальником отдела кадров. Видя, что я засомневался, успокоил:
— Все будет в порядке. Заяву напишешь на имя отрядника, а отдашь мне. Я заведу на тебя карточку, подклею к ней заявление, сделаю отметки о твоей работе в секции. У меня эти документы в полном ажуре.
— Ты что г- доверенное лицо отрядника?
Грядовкин поморщился от прозрачного намека,
но все-таки нехотя сказал:
— Просто нормальные отношения. Мужик он неплохой, хотя и выбрыкивает иногда. Подход к нему надо иметь.
— Вот ты и помоги...
— За мной дело не станет. Только ты сначала характеристику хорошую заработай, покажи себя. А то не успел появиться — и уже на комиссию хочешь. Так быстро здесь же бывает.
Конечно, Николай был прав, я это понимал отлично. Но все равно решил зафиксировать хотя бы первый шаг на пути к желанной и спасительной комиссии.
— Заводи на меня карточку, раз пообещал,— приступился я к Грядовкину.
— Рука уже устала от писанины. Не горит ведь, успеем.
— Давай, давай, не ленись. Долг платежом красен,— пришлось напомнить наполовину шутя, наполовину всерьез.
— Впился, как клещ,— беззлобно пробурчал земляк, но достал из тумбочки стопку обычных школьных тетрадей, разрезанных пополам. Просмотрев самодельные карточки активистов, нашел нужную.
— Вот тут один мужик недавно ушел на «химию». Поставлю твою фамилию, все его заслуги к тебе перейдут. Согласен?
Вариант был неплохим, но из предосторожности я все-таки спросил:
— А не усечет кто-нибудь? Служебный подлог...
— В своих бумагах я хозяин. Пиши заяву.
— Нет, наглеть не надо. Сделай запись в октябре, потом в начале ноября. Идти с липой на комиссию опасно. Выгонят с треском, и ты погоришь.
Мой благодетель согласился, при этом то ли похвалил, то ли уколол:
— Осторожный ты. Все хочешь предусмотреть.
Я не стал ему противоречить, а быстро набросал необходимую бумагу. Сделать это было несложно, тем более,что образец подобного «творчества» лежал у меня перед глазами. Оставалось лишь не напороть грамматических ошибок.
И вот что получилось:
Начальнику отряда старшему лейтенанту Колчину А. С.
Заявление
Прошу принять меня членом СКО. Обязуюсь добросовестно выполнять порученные задания, активно участвовать в общественной жизни отряда, поддерживать надлежащий порядок.
Осужденный Сороко В. И.
— Сразу видно, что привык бумаги строчить,— позавидовал Грядовкин.— Я мучаюсь над каждой буквой, а у тебя все само собой получается.— Он забрал заявление и пообещал: — К Новому году уйдешь домой. Даю гарантию. Комиссию проскочишь — и бывай здоров, дорогой Нижний Тагил... Что бы провалился в какую- нибудь пещеру!
— Кому это желаешь провалиться на тот свет, Микола?
— Не тебе же, конечно, а городу «родному». А вырвешься отсюда, не забывай земляков.
— Договорились. Если я встречаю Новый год дома, то ты, в свою очередь, приедешь в Витебск к Первомаю.
— Не шути так. Мне бы хоть пару лет скинули, и то был бы рад.
Удачи последних дней — освобождение от тяжелого труда, снятый выговор, переход в новый, «привилегированный», отряд, встреча с земляками, быстрое вступление в СКО — развили во мне комплекс Хлестакова, который все может и которому все подвластно. Вот и Николаю я самоуверенно сказал:
— О каких шутках может идти речь?! Возьмусь за твое дело, как адвокат, потребую пересмотра и выиграю процесс.
— Как же, разогнался. Добавить они могут, а скостить... Против силы не попрешь!
— Фирма гарантирует. Намертво прихвачу и следствие, и суд.
Грядовкин с опаской посмотрел на меня. Возможно, и поверил. Подумал о чем-то своем, потом раздумчиво произнес:
— Знаешь, мне, наверное, повезло, что следствие по моему делу вел не ты.
Столь неожиданное заявление прямо-таки ошеломило меня, а Николай в упор спросил меня:
— Ты такого Адамова Олега не знаешь? — и тут же смягчил резкость: — Случайно?
Усилием воли погасив появившуюся растерянность, я ответил вопросом на вопрос:
— А что?
Немного поразмыслив, Грядовкин прямо-таки ошеломил меня:
— Я с ним сидел в одной камере в Витебском СИЗО.
— И что, интересный мужик? — Я спросил первое, что пришло на ум, лишь бы не молчать, настолько невероятным было совпадение. Затем взял себя в руки, буднично уточнил: — Это тот, которого в убийстве обвинили?
— Тот самый. Запуганный, тени своей боялся. Меня к ним в камеру закинули попозже, когда он уже в суд ездил. Как узнал, что я бывший милиционер, забился в угол, дрожит. «Не подходи,— кричит,— ментяра. Все вы звери, а не люди!» Потом аж пена изо рта пошла; я думал, что припадок у него.
— Может, и вправду больной?
— Кто его разберет?.. А когда дошло до него, что меня нечего бояться, что я сам «родной» милиции боюсь, немного отошел, успокоился. «Если бы,— говорит,— над тобой так издевались, то ты от каждого столба шарахался бы.» Ему, оказывается, убийство одной бабы приписали, заставили повинку написать. И еще нескольких примеряли, заставляли взять на себя.
— Фамилии какие-нибудь называл?
— Называл какого-то полковника, майора, только я уже забыл.
— Про меня не вспоминал?
— Нет, это точно. Твою фамилию легко запомнить.
— Значит, милиции боялся? — вроде бы безразлично переспросил я.— Ну, а что о прокуратуре говорил?
— Деталей не помню. По-моему, что все они заодно, хрен редьки не слаще. Только милиция страшнее. Колотило его аж от одного напоминания о ней. Видимо, хорошо ему вложили в кости.
— Это все твои домыслы,— попробовал я скрыть свою заинтересованность.— Надо же на кого-нибудь вину свалить...
— Тут нечего придумывать. Сам знаю, как Савельев душу из меня доставал. Слава Богу, хватило ума и сил не взять на себя убийства, а то, наверное, уже землю бы парил. А этот Адамов струсил, пошел в повинку, а ему — бац! — и накрутили пятнадцать лет.
— Ну, а про следователя какие песни он пел?
— Клял его матом на чем свет стоит! Только разойдется, кричит, что после отсидки, убьет, покалечит. И жалобы на следствие собирался писать.
— Что ж только на следствие?
— Попробуй на милицию напиши! Быстро разберется, у нее руки длинные. Пришьют в темном углу — и концы в воду. Был человек — и нет человека.
В словах Грядовкина была доля истины, но поддакивать ему я не собирался, стараясь получить как можно больше нужной мне информации.
— Вообще-то, как ты считаешь, виноват он или нет? Зря его посадили?
— Хрен его знает. Я мало с ним вместе побыл.
— Но все-таки?
Скорее всего — нет. Но что-то об убийстве он, по- моему, знал. Боялся о чем-то проговориться, выдать какой-то секрет, что ли? Я после, когда в «Литературной газете» прочитал о всей этой истории, подумал: может, он видел, как Михасевич вещи прятал? Или даже само убийство видел? Ведь рядом он тогда был, в Лучесе.
Вряд ли. Он трусливый. Понимаешь, настолько трусливый, что даже убийство на себя взял, лишь бы шкуру свою спасти. И следствие ему поверило. Повинная гарантировала ему жизнь —вот он и написал ее. Другое дело, кто ему подсказал такой вариант...
Только у меня и забот, что о ваших вариантах думать! Со своей бы бедою справиться, вырваться отсюда побыстрей. Что мне чужое горе?!
Услышанное надо было спокойно обдумать, проанализировать, отделить зерна от плевел, эмоции — от действительных фактов. И я решил, если потребуется, вернуться к разговору об Адамове позже. Мой земляк тоже устал от нелегких воспоминаний. В общем, требовалась передышка, смена, как говорят, декораций.
— Будем считать, что контакты мы с тобой наладили, протянул мне руку Грядовкин.— А теперь познакомься с твоим непосредственным начальником,— и он указал на вторую койку от стены, где сидел худощавый пожилой мужчина.— Это бригадир Бровин. Большим человеком был!
Когда я остановился возле него, Бровин поднял голову и вопросительно посмотрел на меня выцветшими голубыми глазами.
— Меня направили в вашу бригаду... Перевели из десятого отряда.
— Добро пожаловать. Меня зовут Геннадием Даниловичем. Фамилия моя Бровин.
Назвал себя и я. Пригласив сесть рядом на койку, бригадир вынул из тумбочки аккуратную папку для бумаг, достал такую же аккуратную тетрадь, открыл ее на нужной странице, разгладил ладонью листы. В каждом его движении, привычном и выверенном, в бережном отношении к казенным бумагам, пусть даже и малозначащим, чувствовалась добрая старая школа канцеляризма. Сразу видно было, что это чиновник, причем крупного масштаба, знающий цену каждому документу. Я впервые так близко столкнулся с человеком из круга, недоступного простым смертным, и поначалу разглядывал его с явным любопытством, граничащим, пожалуй, с бестактностью. Бровину это было не впервой; он, видимо, привык к повышенному вниманию и поэтому спокойно записывал в тетрадь мои данные. Закончив формальности, он завязал тесемки на краснобордовой папке.
— Никак не отвыкнешь от красного цвета,— подколол его сосед по нарам.
— Привычка — не пуговица, сразу не оторвешь.
— Тебя же оторвали. От кормушки...
— Мои дела — мои заботы,— спокойно, но решительно прекратил ненужный разговор Бровин и обратился ко мне: — Откуда будете?.. Какими судьбами?
Исповедоваться я не собирался, но как-то само собой получилось, что я рассказал о своих злоключениях почти все. Скорее всего потому, что и Бровин не темнил и не корчил из себя большого начальника. Внимательно слушал, искренне сопереживал — был тем собеседником, от общения с которыми я уже отвык. Нашел он добрые слова и на завершение:
— Кто горя не знавал, тот счастья не видал. Скоро дома будешь, все наладится у тебя.— В первые минуты знакомства он говорил мне «вы», потом, когда расстаяла некоторая отчужденность и настороженность, перешел на «ты», я же так и не смог переступить эту грань. И не потому, что я страдал излиш- ным чинопочитанием — такого за мной не числилось и на воле, а тем более — на зоне, где всех уравнивала арестантская роба. Бровин, во-первых, был старше меня возрастом, а во-вторых — и это главное,— он вызывал к себе уважение степенностью, уравновешенностью, рассудительностью и справедливостью.
К началу смены я познакомился практически со всеми, с кем мне предстояло работать. И вновь с облегчением отметил разительный контраст с литейкой. Ни вызывающей грубости, ни открытого хамства, ни беспричинного сквернословия. Конечно, говорить о внутренней общности, объединяющей какой-никакой, но коллектив, было бы преувеличением, скорее срабатывали оставшиеся с прежних пор привычки к дисциплине, ответственности; немалую роль играл, безусловно, и высокий образовательный ценз. Суммируя первые впечатления об отношениях в бригаде, я определил их как сдержанно-деловые. Большего в колонии, пожалуй, и не требовалось.
Подтвердились мои наблюдения и во время развода на работу. Ни суеты, ни ругани. В раздевалке, правда, еще более тесной, чем в десятом отряде, Бровин временно уступил мне свою вешалку.
— Я решил переодеваться в цехе, там меньше толкотни,— объяснил он этот дружелюбный жест.— У меня там есть закуток.
Мелочь, но приятная. Не возникло проблем и во второй раздевалке, где мы напяливали на себя рабочие робы. Я только начал отыскивать глазами свободное место, как раздался громкий голос:
— Прокурор, иди сюда, у нас есть лишний крючок.
Стараясь никого не толкнуть, пробрался к Белозерову — полному пятидесятилетнему мужчине. Чуть раньше, в казарме, я узнал, что он работал в Совете Министров какой-то автономной республики.
— Не лови ворон, проявляй характер,— наставлял напарник по бригаде.— Прокурор ты или не прокурор?
Меня немного задело обращение — «прокурор», так обычно с ненавистью и издевкой называли меня уголовники-бытовики, считавшие всех прокуроров врагами.
— Спасибо,— сдержанно поблагодарил я Белозерова.
— Спасибо в стакан не нальешь...
— Все еще впереди,— отшутился я и стал поспешно натягивать робу.
Между прочим, сразу же отметил, что она намного грязнее, чем у всех соседей,— свой автограф оставила литейка. «Надо постирать в выходной»,—■ дал сам себе задание.
Заметив, что я тороплюсь, Белозеров успокоил:
— Успеешь, добро б на свадьбу...
— Не хочется, чтобы день начался с замечания,— объяснил я.— На формовке с этим строго.
— Здесь публика другая, на нас особенно не поорешь. Сами умеем.
— Все-таки...
— И вправду говорят, что белорусы — народ покладистый, податливый.
Не успел я возразить, как Белозеров сально ухмыльнулся, подмигнул мне и, будто близкому приятелю, сообщил:
— Девки у вас податливые, не отказывают мужикам. Когда я еще председателем колхоза был, приезжали ко мне летом на сельхозработы. Так мы с районным начальством наберем поддачи, закуси, прихватываем ваших девчат — ив степь... На шашлыки.— Сделав двусмысленный жест, он довольно расхохотался.
«Да, рановато ты обрадовался, Валера,— сделал я себе выговор.— Публика и здесь гнилая попадается». А вслух резко заметил:
— Проституток везде достаточно, но думаю, что в моей Беларуси их все-таки меньше, чем в России. Не буду уже говорить о Сибири и Урале, куда много сброда наехало. Так что не надо говорить огулом.
— Вот уже и взъерепенился,— пошел на попятную Белозеров.— Я сказал, что у меня были благоприятные условия, и грех было ими не воспользоваться...
Косвенные извинения не затушевали неприятного осадка, и я с возмущением подумал о соседе: «Жирный развратник. Если ты в бытность председателем колхоза позволял себе такое, то можно догадываться, что творил, будучи в Совмине...» Молча закончив переодеваться, пристроился к бригаде, уже готовой к разводу. Пройдя лопатку, степенно пошагали к своему цеху. На пути лежал мой прежний — литейный. Уже посторонним глазом отметил, как почернел от копоти снег во дворике; втянул в себя воздух — и тут же закашлялся... Да минет меня впредь чаша сия...
Участок сборки, где работала наша бригада, располагался на втором этаже производственного корпуса. (На первом изготавливали ширпотреб — машину по очистке картофеля «МОК».) Переступив порог цеха, по привычке сравнил его с литейкой и решил, что попал если не в рай, то в его преддверие: тепло, светло, относительно тихо. Но тут же, вспомнив хамство Белозерова, остудил свою восторженность... И тот с виду был душа- человек, оказался же... Так и новая работа может преподнести любые сюрпризы... Пора научиться сдерживать эмоции...
На столе мастера, пока расписывался в журнале, что буду соблюдать технику безопасности, увидел схему расстановки членов бригады по рабочим местам. Постарался запомнить: Шукоров — обжим золотника, Тар- лиев — сборка золотника, Гнатюк — сборка узлов с разбраковки, Гладилин, Тулбу, Богов, Мусатов — окончательная сборка, Нестеренко, Белозеров, Жданов — испытания вентиля, Годелико, Битарашвили — нарезка резьбы и упаковка вентиля, Айропетян — доставка деталей, пропитка набивки... «Ого, целый технологический процесс,— мелькнуло в голове.— Впишусь ли я в него?.. Впрочем, не Боги горшки обжигают. Мои коллеги тоже не на сборщиков учились. Не безрукий же я?..»
— Что вы поручите мне? — чуть напряженно спросил я у Бровина.
— Станешь на сборку вентиля. Вот его техпаспорт.
С первого взгляда я понял, что знаком с этим изделием — в литейке формовал крышку для него, корпус, гайку. Теперь прочитал, что мы выпускаем: «Вентиль запорный, муфтовый, из серого чугуна... Применяется на трубопроводах для периодического отключения их частей...»
— Почувствовал, какое ответственное дело тебе поручено? — с едва заметной улыбкой спросил Бровин.— Теперь пойдем знакомиться с твоим рабочим местом.
Цех занимал огромную площадь размером примерно 50 X 15 метров. В одну продольную стену вмонтированы грузовые лифты, которые подают заготовки, пустую тару и забирают готовую продукцию. Станки для отжимки золотников, для автоматической накрутки гаек, испытательные стенды для проверки вентиля на водо- и газонепроницаемость... Семь столов с тисками, где вручную собирают вентили... К одному из этих столов и подвел меня Бровин.
— Вот здесь и обживайся... Подбери себе инструмент — ключ и зубило.
Повертев в руках нехитрые орудия труда, критически осмотрел их — они были, как принято говорить, «бывшими в употреблении». Заметив мой скептитизм, стоящий рядом Мусатов протянул мне другой ключ:
— Этот удобнее. Знай мою доброту.
— Век не забуду,— в тон ему ответил я..
— План вместе давать будем...
— Правильно,— одобрил Бровин.— А теперь, новички, смотрите, что вы должны делать.
Он не случайно сказал «новички»: вместе со мной на участок направили и Солодовникова, того самого, с кем я пришел в отряд.
— Мне это ни к чему,— отказался Солодовников.— Я здесь вкалывать не собираюсь.
— ???
— Пусть здесь салаги пашут, а мне, старожилу, место потеплее найдется. Нашли дурака...
— Тебя же направили сюда!
— Как направили, так и отправят. Тут все восемь часов, как заведенному, крутиться надо... Я сразу это усек... Это место не для меня... Да и рука у меня еще болит.
Он готов был распространяться о своих болезнях — мнимых и действительных, но Бровин остановил его:
— Дело твое. Иди к распреду и доложи, что ты отказываешься. А мне не морочь голову. Смена начинается.
Продолжая качать права, Солодовников пошел искать высокое начальство, а бригадир начал обучать меня:
— Операция не сложная. Сначала зажмешь корпус в тисках, затем ключом поднимешь крышку, положишь прокладку (не забудь о набивке), сверху уплотнитель... Его надо подбить молотком... Вот так,— он быстро показал нехитрый прием.— И закрутишь гайки. Вентиль готов.
По моим подсчетам, на всю сборку ушло чуть больше минуты, учитывая, что Бровин работал медленно, показывая мне каждую операцию отдельно. Что же, у бывшего работника секретариата генсека руки были заточены как надо.
— Обычная норма — шестьсот штук в смену. Тебе как ученику надо сделать восемьдесят процентов. Значит, четыреста восемьдесят.
— По одному вентилю в минуту...
— Ну вот, с математикой ты в ладах. Остается применить физику.
— При чем тут физика?
— Я имею в виду физические возможности,— улыбнулся Бровин.— Мужчина ты молодой, сообразительный. Желаю успеха.
Соображать особенно не было чего. Очередность сборки я запомнил, инструменты в руках. Однако дело шло туго: я долго возился с набивкой, излишне старательно подбивал уплотнитель, несколько раз проверял, до конца ли закрутил гайки. А драгоценные минуты летели одна за другой. Ко мне подошел Гна- тюк — помощник бригадира. Растолковал, в чем мои ошибки, на чем я теряю время... Работая без остановок, я все равно отставал от соседей. Решил посмотреть, за счет чего они меня опережают. Наиболее продуктивно работал плотный коренастый молдаванин Ту лбу. Со стороны казалось, что ключ и пробойник являются продолжением его рук, что он не затрачивает никаких усилий, а детали сами находят место в корпусе. Подметил я и запрещенный прием — в некоторые вентили он не ставил прокладки, чем, естественно, экономил время.
— Что, учишься? — оторвался он от тисков.
— Да, темп что надо... Долго руку набивал?
— Третий год здесь и все на сборке. Запросто могу тысячу вентилей дать... А знаешь почему?.. У меня все заранее подготовлено. Договорились со сменщиком, чтобы он оставлял мне корпуса. Прихожу — и сразу за работу, никуда не надо бегать. Пока вы раскачаетесь, у меня сто вентилей собрано. И гайки у меня в заначке есть, и набивка. Так что учись, пока я жив.
— Вижу, что поучиться можно,— согласился я, подумав, правда, что халтурить с прокладками никогда не буду.
— Посидишь с мое, тоже в передовики выйдешь...
— Столько, думаю, здесь не пробуду... Надеюсь скоро выйти.
— А за что попал сюда?
— По приговору — за злоупотребления. А ты?
— Как ты сказал, по приговору — за взятки. Но ты мне разъясни, разве можно подношения в знак благодарности квалифицировать как взятку?
— Смотря кому и в связи с чем сделан подарок.
Дискутировать, когда даже ученическая норма не поддается, мне не хотелось, и я направился к своему столу, но Тулбу меня остановил:
— Перекури, с тебя пока спрос небольшой. Послушай меня. Вот я работал председателем горисполкома в Котовске...
— Слышал, это в Молдавии.
— Правильно, но не перебивай. Сердце будто чувствовало, что не надо мне идти на эту советскую работу. Есть диплом инженера-строителя; вакансий — хоть отбавляй. И отец был против. Просил вернуться в деревню. У нас дом огромный, сад, виноградник, огород. Да еще ульев около сорока. Можно только со своего хозяйства иметь десять — пятнадцать тысяч. А я, дурак, все это поменял на зарплату в четыре тысячи за год и... на восемь лет лишения свободы. Как это тебе нравится?!
— Вариант, прямо скажу, не лучший.
— Хуже и в кошмарном сне не приснится!.. Горбатился на работе, как проклятый, выходных не знал. Днем совещания, заседания, планерки, прием людей. На предприятия — надо, на встречу с избирателями — надо, в горком — надо. Вечерами доклады пишешь...
— Такая работа...
— Я-то работал, а другие жировали. Особенно горкомовские «товарищи». Сколько с ними воевал, с бюрократизмом, с поборами. Вот и подставили меня. Нашли удобный момент — и съели. Мало того — посадили.
— Горком посадил?..
— Можно считать, что да. Приходит ко мне спортсмен один известный, мастер спорта. Для нашего небольшого Котовска — фигура. Просит дать вне очереди квартиру. Я отказываю «По очереди,— говорю,— пожалуйста. А так,— повторяю,— не могу». Он к секретарю горкома, а тот записку пишет. Убедительно, мол, прошу. Ну я пошел, как говорится, навстречу, поступился партийной совестью. Или выполнил партийное указание. Можно по-разному считать. Тут, как на беду, мои пацаны (у меня двое сыновей-школьников) пристали: «Купи да купи магнитофон». Откуда-то узнал о их просьбе тот самый спортсмен. Предложил эту проклятую машину. Я и купил у него за шестьсот рублей. И, откуда ни возьмись, следователь... «Магнитофончик,— говорит,— тысячу сто рублей стоит. Взятку вы получили, гражданин Тулбу». Так и окончилась моя исполкомовская карьера, чтоб ей пусто было.
— А что секретарь горкома?
— Знаешь такую песню: «Ничего не вижу, ничего не слышу»? Вот и он задницей повернулся. Еще и багаж на мне нажил: как же, вычистил из рядов партии взяточника, лихоимца... Стал я им поперек горла, вот и рассчитались.
Весь этот гневный монолог, в который едва пробивались мои вопросы, он произнес на одном дыхании. И я сразу поверил, что все произошло именно так, как он рассказывал. Подставить под удар неугодного человека, скомпрометировать его — в этом неблагородном деле партийные функционеры приобрели богатый опыт. Замкнутая коррумпированная среда выталкивала отщепенцев, нарушивших правила игры, и жестоко расправлялась с ними.
— Вот и теперь работаю на них,— зло закончил Тулбу.— Укрепляю мощь государства ударным трудом. Нормы перевыполняю, как видишь.
Если оставить без внимания «маленькие хитрости», то действительно его можно с полным основанием назвать ударником подневольного труда. Работал он азартно, увлеченно и умело, как пожалуй, умеют только дети крестьян. Наверное, с таким же старанием подвязывал он виноградную лозу, пахал землю, поливал ее водой и потом. А вот попал «не на свой этаж» и запутался, пошел против совести. И — Нижний Тагил, спецколония, сборка абсолютно ненужного ему вентиля.
Впрочем, это же в полной мере я мог отнести и к самому себе. Шел, как мне казалось, вверх по лестнице, а очутился внизу. И вот учился собирать — вентиль запорный, и не мог выполнять даже ученическую норму.
— Маловато сделал,— без нажима, но сделал замечание в конце смены бригадир Бровин.
— А сколько не хватило?
— Как, ты даже не знаешь, сколько сделал?
— Нет, испытатели же считают. Мы им сдаем продукцию.
— За свою работу отвечаешь ты. Как говорится, на друга надейся, а сам не плошай.
По тону я почувствовал, что он что-то недоговаривает. Мои сомнения подтвердились позже, когда я уже более-менее освоился. Бровин, не желая склок, не стал мне объяснять, что в бригаде завелся, мягко говоря, мелкий воришка, который, заведя блат с испытателями, приписывал себе чужую работу. По общему мнению, нечистым на руку был Белозеров...
Досрочное и бесхлопотное зачисление в актив колонии было первым шагом к освобождению. Теперь на очереди был выход на начальника отряда. И опять я решил воспользоваться услугами Грядовкина.
— Подскажи, с какой стороны к нему лучше подъехать?
— После выходных к нему не суйся. С перепою будет злой.
— Раз на раз не приходится...
— Квасит он регулярно. Выгоняли уже со службы, потом, правда, вернули. Нашлась где-то волосатая рука... А может, не хватает кадров. Кому охота всю жизнь добровольно за колючкой сидеть?..
— Опохмелить его, сам понимаешь, я не в силах... И подогреть нет чем.
— Можно думать, что он с тобой на эту тему базарить станет. Чтобы ему в лапу дать, надо целую цепочку пройти. На него выход есть только у самых доверенных и проверенных.
— Ты к ним не относишься?
Грядовкин предпочел не отвечать на мой лобовой вопрос. Он лишь добавил:
— Вообще-то отрядник мужик не плохой. Пижон немного, но кашу с ним сварить можно. Только в струю попасть надо.
— Вот и помоги, прозондируй обстановку.
— Посмотрим. Скоро он, пО-моему, дежурит по колонии. Будет обход делать, тогда и подъедем к нему. Я тебя предупрежу.
Через день, а может, через два земляк вечером сам нашел меня.
— Собирайся в темпе. Колчин у себя в кабинете.
— Какой Колчин? — не понял сразу я.
— Темнота! Начальство и в лицо, и по фамилии знать надо. Отрядник это наш.
Не теряя ни секунды, я бросился вслед за Грядов- киным. Но как ни спешили мы, оказались не первыми: около двери уже толклось несколько человек.
— Не мог очередь занять,— упрекнул я земляка.
—, Во даешь! Сказал бы спасибо, что наколку дал,
а ты еще с претензиями...
— Ладно, извини, ляпнул сгоряча.
— Ты только там,— он кивнул на кабинет,— думай, что говорить. Он мужик ушлый, сразу зацепится за лишнее слово.— Земляк что-то прикинул в уме, затем предложил: — Сделаем так: сначала зайду я (у меня есть свои проблемы), потом — ты. Надо его подготовить, поднять настроение.
Последние слова земляка давали понять, что между ним и отрядником существуют какие-то особые отношения, но вдаваться в их суть мне не хотелось. Главное, чтобы Грядовкин в самом деле помог мне.
Дождавшись своей минуты, Грядовкин зашел к старшему лейтенанту. Пробыл он в кабинете недолго, вышел удовлетворенным и подтолкнул меня к двери:
— Вроде все на мази. Смелее.
Старший лейтенант выглядел усталым: красные подпухшие глаза, хмурый вид. И если бы не аккуратная, подогнанная по фигуре, даже щегольская форма, его вполне можно было бы посчитать завсегдатаем окраинной пивной.
— Осужденный Сороко,— доложил я.
— Садитесь,— неожиданно вежливопредложил он и указал на стул.
Такое благорасположение подняло мой дух, и я начал с места в карьер:
— Гражданин начальник, от вас зависит вся моя дальнейшая судьба.
— Так уж и вся...
— Именно так. Скоро комиссия по УДО...
— На комиссию представляю не я, а руководство колонии, так что вы не по адресу обращаетесь. Это раз. А во-вторых, и это главное, вы у нас без году неделя. Мы вас не знаем.— Ровный тон, отсутствие эмоций, безразличный взгляд. «Вот тебе и помощь Грядовки- на»,— мелькнуло в голове. Но отступать было некуда.
— Перед вами, гражданин начальник, моя карточка. В ней указано, где я был и как себя вел.
— Да, биография богатая: два следственных изолятора КГБ и два — МВД...
— Находился я там, как вы понимаете, не по своей воле. Но сейчас речь не о том. Я всегда старался соблюдать дисциплину, выполнять все требования администрации. Характеристики, насколько я знаю, положительные. Так что, вы им не верите?
— Верю — не верю... Нам надо самим разобраться, что вы за птица, Сороко. К тому же,— прочитав какую-то запись в карточке, он заметил: — у вас нет оснований для УДО.
— Как это? Два года уже прошло.
— Нет. Здесь отмечено, что начало срока у вас 27 ноября 1986 года.
— Ошибка,— разволновался я.— В определении Верховного суда Латвии четко и ясно сказано,, что я под стражей с 27 октября. Да я и сам это прекрасно помню! Зачем мне лишний месяц сидеть?!
— Успокойтесь. Я уточню в спецчасти, разберемся.
— И здесь бюрократия! — не выдержал я, но сразу же осекся: пришел с просьбой, а предъявляю претензии.
Отрядник понял мое состояние и не отреагировал на мой вызывающий выпад. Помедлив, поинтересовался:
— У вас, кажется, есть ограничение на тяжелый труд?
— Так точно, гражданин начальник.
— Вот видите, а такую категорию осужденных мы на химию не отправляем, вернее, не мы, а суд.
Очередное препятствие вновь вывело меня из себя:
— Но об этом ни в одном законе, ни в одном кодексе не сказано! Что за самодеятельность!
Моя настырность не понравилась отряднику, он поморщился, но сдержался. Еще раз просмотрев карточку, выдвинул новый контраргумент:
— А как быть с иском? Он не погашен, а это, как вы понимаете...
— Понимаю,— подхватил я его мысль.— Желательно, чтобы я внес деньги, так администрации лучше. Но что делать?.. Заработки у меня здесь мизерные, жена живет на одну зарплату. Не воровать же ей?.. К тому же, гражданин начальник, я не согласен с приговором, обжаловал его. Так что, надеюсь, судебные издержки не с меня брать будут.
— Это дело будущего. Оправдают — вернут деньги. А пока вы здесь, платить надо.
— Хорошо, я напишу жене. Может быть, возьмет взаймы. Хотя она и так в долгах, как в шелках.
— Это ваши трудности. Далее. Чтобы пройти на комиссию, нужны гарантии, что на свободе вам предоставят жилье и работу. Таков порядок.
— С этим проблем не будет. Я опять-таки напишу жене, и она пришлет необходимые документы.
— "Если так,— чуть заметно улыбнулся отрядник,— то теперь все зависит от вашей жены.
— И от вас, гражданин начальник.
— Так и быть, поговорю в спецчасти. Раз положены льготы — значит, положены.
— Спасибо, гражданин начальник. Я вас никогда не подведу.— В эти минуты старший лейтенант казался мне ангелом-спасителем, и я не замечал его опухших глаз, не ошущал хорошо слышного запаха перегара. Что мне до его личной жизни? Мне бы свою как-нибудь устроить...
Окрыленный успехом, опережая Колчина, побежал в спецчасть. Начальник, хмурый майор, разбирал жалобы и заявления дважды в неделю — во вторник и в четверг. И мне повезло — был как раз приемный день.
— Гражданин начальник,— с предельной вежливостью обратился я к нему, так как был наслышан о его крутом нраве,— дайте, пожалуйста, разъяснение.
— Что у тебя, только покороче,— недовольно буркнул майор.
Его «тыканье» задело меня, но я сразу же подавил протест: в положении просителя снесешь и не такое.
— Я уже давно отбыл треть срока, только что минула половина.
— Короче!
— У меня вопрос: я включен в списки на комиссию?
— Нет, списки составлялись в августе, а ты прибыл к нам в июле. Что же, хочешь прямо с коробля на бал?
— Но ведь по закону...
— Закон я знаю не хуже тебя! Вот пробудешь у нас полгода, заработаешь характеристику положительную, тогда и посмотрим. Может быть, включим в списки на февраль.
— Это же ущемление моих прав!
— Хватит дебатировать!.. Кто там следующий?..
Меня так и подмывало сказать майору пару «ласковых» слов, однако вновь пришлось сдержаться. За дверью столкнулся с Зазулей, недавним знакомым по больничке..
— Чего ты выскочил, будто ошпаренный?
— С майором «поговорил», чтоб ему пусто было. И слушать меня, по сути дела, не захотел.
— Не бери до головы!.. У меня для тебя сюрприз. На больничку письмо для тебя пришло. Из дома. Там и фото есть дочки твоей. Я распечатал, посмотрел. Хорошая девочка.
— Где письмо, с собой?
— Нет, в кубрике... Обожди минутку, мне тоже в спецчасть надо, за какую-то бумагу расписаться...
Неудача у майора если не забылась, то отошла на второй план. Узнать новость из дома, увидеть фотографию дочери — это ли не радость?! И лишь Зазу- ля вышел из кабинета, я подогнал его:
— Пойдем быстрее, не тяни резину!
— Не гони лошадей, никуда от тебя письмо не денется. У меня еще одно дело есть,— и он нырнул в одну из дверей клуба.
Чертыхнувшись, я принялся нервно расхаживать по коридору. «Как был Зазуля деловым, так и остался. Кругом у него крючки... В столовую неизвестно как пролез, теперь еще какие-то шуры-муры разводит. Умеет устраиваться...»
На лице вышедшего Зазули играла довольная улыбка.
— Могу сказать по секрету,— он оглянулся по сторонам.— Только никому.
— Давай, не темни.
— На «повышение» скоро пойду. Место хлебореза освобождается — мужик уходит на УДО. Вот мне и пообещали. Правда, не задаром. Будешь и ты белый хлеб рубать и без сахара не останешься.
Мы быстро шагали к казарме, мне не терпелось забрать у Зазули письмо, но он говорил и говорил о своем:
— Здесь, на зоне, я вроде не плохо пристроился. Но все равно — за колючкой. Вырваться бы отсюда! Жаль, на свободе надежного ходока нет.
— Помоги мне — помогу тебе...
— Ходок на воле — это, брат, знаешь, что значит?! — продолжал Зазуля, не слушая меня.— Если он пробивной да еще деньги ему дать...— Он остановился, подбирая нужные слова. Не найдя четкого определения, пожевал толстые губы и сразу сделал мне предложение: — Если ты выскочишь, возьмешься за мое дело?
— Загадками говоришь...
— Я знаю, тебе на комиссию пробиться надо. У меня есть кое-какие концы...
— Ближе к делу!
— Надо будет подогреть кое-кого. Сколько отстегнуть, пока не знаю...
— Голяк у меня сейчас...
— „С этим разберемся. У меня должники есть, напомню. А ты на воле шевелиться будешь, не забудешь про Зазулю?
Эти разговоры вокруг да около начали мне надоедать, и я резко, без обиняков, спросил:
— Что тебе надо?
Шедший рядом со мной Зазуля снова оглянулся по сторонам, хотя мы были одни и притом не в помещении, а на дорожке между казармами, и вполголоса произнес:
— Письмо из дома получил.
— Отдавай быстрей!
— Я сам получил. Мать написала, что брат домой вернулся. Оправдали.
— Что, у тебя и брат сидел?
— Не то слово! Уже лоб ему зеленкой намазали, к вышаку готовился. А теперь — дома. Понимаешь? От расстрела — до освобождения... Доходит?
— Пока нет.
— Поясню: ходока хорошего нашли. Я тебе об этом уже столько толкую! Кого надо подмазал, кое-кого — припугнул... И брат подчистую на свободе!.. Я даже его в список на свиданку включил как близкого родственника...
— Дорого все это стоило?
— Пока не знаю. Ради свободы денег не жалко, согласен?.. Вот приедет братан, попрошу, чтобы шоферюгу того нашел, из-за которого я здесь...
— А зачем?
— Прикидываешься? Это же и чурке понятно: пусть возьмет свои показания назад. Скажет, что не трогал я его, что сам полез в драку, а я защищался. Совсем другой коленкор будет.
— Никто на себя наговаривать не будет. Что, тому мужику, твоему бывшему подопечному из тюрьмы, самому на зону идти? А судебные издержки? А тебе кто платить за отсидку будет? Знаешь, в какую это копеечку вылетит?
— Это его трудности. Я думаю, что ему жизнь дороже. Можно кинуть пару кусков — и пришьют где- нибудь в темном переулке. Пусть головой думает, если жить хочет.
— Крутой ты мужик, как я посмотрю. А не боишься?
Зазуля остановился, остро глянул на меня:
— Тебя?.. Заложить хочешь?.. Не советую. У меня на зоне кентов много!
Испуга от этой неприкрытой угрозы я не испытал, но все-таки стало неприятно. Мой собеседник раньше работал охранником в СИЗО, нашел, конечно, родственные души и здесь, в колонии. Ворон ворону глаз не выклюет...
— Ни к кому я не побегу,— как можно спокойнее сказал я.— Только не пойму, зачем тебе моя помощь, если брат все берется сделать.
— А мало ли чего?.. Подстраховаться хочу... Так что давай кентовать, лады?
— Ты — мне, я — тебе,— обтекаемо ответил я и напомнил: — Ты письмо поскорее принеси, а то заболтались мы.
— Я мигом.— И грузная фигура Зазули скрылась за дверью барака.
«Хорош тип. В тюрьме, небось, кулаки распускал, поборами занимался. Затем бывшего зэка избил... Посадили, конечно, за дело. И тут успокоиться не может. Человека готов убить, лишь бы от наказания уйти... С кем только на зоне судьба не сведет...»
— Возьми витаминчиков...
От неожиданности я вздрогнул. Рядом стоял неслышно подошедший Фарадей, рабочий столовой.
Не успел я опомниться, как почувствовал, что в кар-, ман телогрейки опустилось что-то продолговатое.
— Это морковка. Зрению помогает и вообще — витамины.
— Спасибо. Я — твой должник.
— О чем базар?.. Напиши еще одну жалобу — и мы в расчете. Идет?
— Долг платежом красен. Найду время — встретимся.
— Это кому ты свиданку назначаешь? — переспросил вышедший из казармы Зазуля.
— Секрет фирмы,— отговорился я.— Письмо принес?
— Держи,— и он протянул распечатанный конверт.
Иннулька, доченька, смотрела на меня с фотографии
широко распахнутыми глазами. Она изо всех своих детских сил старалась быть серьезной, но из уголков приоткрытых губ так и рвалась улыбка. Наверное, фотомастер рассказал какую-то смешную историю, чтобы она расслабилась перед объективом. Затем мама заботливо поправила ей воротничок платья, привела в порядок волосы... Затвор аппарата сработал в тот удачный миг, когда ребенок стал самим собой — озорным, шаловливым, но уже чувствующим ответственность момента. Конечно же, Людмила рассказала дочери, что снимок обязательно отправят мне, папе, и поэтому они обе тщательно выбирали наряд, придумывали прическу... Как мне не хватало этих семейных хлопот и забот, как хотелось погладить дочку по головке, взять ее — уже большуху — на руки, прижаться к щеке, почувствовать, как бьется ее сердечко!..
Несколько раз перечитал письмо, хотя особо важных новостей в нем не было. Радость доставляли уже сами тетрадные листки, понимание, что их касались руки родных людей — жены и дочери. Подробный рассказ о семейных делах, о здоровье родителей, о школьных успехах Иннульки... Скупые строчки о судьбе жалоб и заявлений в высокие инстанции — пока кругом глухая блокада. Пожелания здоровья, вера, несмотря ни на что, в скорую встречу... Вспоминая каждое слово, отработал смену... Уснул с фотографией дочери в руках. И сразу же увидел своих родных будто наяву... Взявшись за руки, мы втроем идем по солнечному Минску. Инночка тараторит о качелях, каруселях, о лошадках пони, о мороженом. Мы с Людмилой обещаем выполнить все ее желания, я вдобавок говорю, что впервые покатаемся на колесе обозрения. Восторг, испуг, радостный смех... Но меня не покидает чувство какой-то опасности, и все время оглядываюсь, мне кажется, что по пятам за нами идет кто-то недобрый. Однако вокруг такие же празднично одетые люди, и все они спешат вместе с нами в детский парк, большие железные ворота которого уже видны невдалеке. Когда до входа уже рукой подать, неожиданно темнеет. Огромная черная туча стремительно нагоняет нас. Подхватив дочь на руки, я бегу к воротам, к парку, над которым по- прежнему ярко сияет солнце. Людмила еле поспевает за нами, я кричу ей, чтобы не отставала... Добежав до спасительных ворот, я легонько подталкиваю вперед дочку, пропускаю вперед жену, а сам остаюсь снаружи. Огромные чугунные створки со скрипом сходятся, гремят запоры... Я и несколько десятков мужчин остаемся под шквальным ветром, под проливным дождем, а там, в парке, звучит смех, играет оркестр, сияет безоблачное небо... Промокшие, продрогшие, жалкие, мы протягиваем руки к своим родным, но стена дождя разделяет нас, голоса наши не слышны в грохоте грозы. По щекам нашим текут ручьи, и у них почему-то привкус слез...
Проснулся, вытер со лба холодный пот, растер левую сторону груди. Во рту пересохло, болела голова. Поднялся, стараясь не разбудить соседей, на цыпочках пошел в умывальник. Прополоснув рот и горло, постоял у входной двери, подышал свежим морозным воздухом.
— Не спится?
Погруженный в тяжелые думы, я и не услышал, как подошел дежурный по отряду.
— Семью вспомнил, дом родной...
— Хорошая, значит, семья...
— Лучше на свете нет...
— И у меня такая же. Четверо детей, понимаешь? Как они там без меня?..
В полумраке коридора мой собеседник — с заросшим черной щетиной лицом, с глубоко сидящими глазами — казался древним стариком. Он, уловив мой сожалеющий взгляд, грустно улыбнулся:
— Думаешь: зачем столько детей под старость завел? Ошибаешься, дорогой. Мне только тридцать пять лет. Это меня три года на зоне таким сделали.
Сильный акцент выдавал в нем южанина, кавказца. Его земляки, за редким исключением, держались особняком, душу перед чужими не раскрывали. А тут ночь, непривычная тишина, мой понурый вид — и он оттаял, доверился.
— Веришь ли: отпустили бы вдруг, босиком до Еревана побежал бы. Что эти тысячи километров, когда дома ждут родители, жена, дети? Пусть дом заберут, все добро из дома, лишь бы семья жива-здорова была и я с ними рядом.
— На голом месте трудно начинать...
— А друзья зачем? А родственники? У нас в беде бросать не принято. Да и у самого руки есть. Открыл бы сапожную мастерскую — такую обудь делал бы!.. Носили бы люди — и радовались!..
— Что же сразу в сапожники не пошел?
— Я такой вопрос сам себе постоянно задаю. Молодой был, глупый. Думал: раз стал милиционером, значит, стал большим человеком. Тебе и почет, и уважение. А оказалось, что не все так просто...
— Работай честно, по правде — и почет будет, и уважение.
— Шутишь, дорогой. Как ты говоришь — никак не получается. За хорошую должность платить надо. А где деньги брать?.. Вот и попался на взятке.
— Плохая статья. Вернешься — все искоса глядеть будут. Из доверия, мол, вышел. Чуть что — опять загреметь можно.
— Да я эти органы за километр обходить буду. Хватит, знаю, что это такое.
— Ты-то их обходить будешь, зато они сами к тебе придут. На контроле держать будут, на заметке.
Мы рассуждали о будущем, как будто нас уже завтра выпускали на волю. А до нее, желанной, было еще очень далеко. Но оба мы, как и все наши подневольные соседи, надеялись — кто на амнистию, кто на пересмотр дела, а кто просто на счастливый случай.
— Закурить не найдется? — спросил дежурный.
— Не курю.
— Жаль. Ладно, иди спать. А то еще какой-нибудь проверяющий припрется, а мы режим нарушаем.
Заснуть до подъема так и не удалось. Восстанавливал в памяти минуты сентябрьского свидания с женой, думал о повзрослевшей дочери, сожалел, что ничем не могу помочь больной маме, искал, находил и отвергал способы, с помощью которых можно попасть на комиссию по условно-досрочному освобождению.
Не пришлось выспаться и в следующую ночь, прав- да, уже по другой причине. Только я, казалось, успел задремать, как кто-то начал тормошить меня за плечо.
— Что, уже подъем? — хрипло проговорил я.
— Для тебя — подъем. Дежурство начинается.— Надо мной стоял Тулбу.
Автоматически натянул одежду, спотыкаясь, добрел до умывальника, ополоснул лицо.
— Через пять минут заступаешь. Шевелись.
Соседу по кубрику и напарнику по работе не терпелось завалиться на шконку. Понять его было можно: в цехе, на участке, он выкладывался до отказа, будто стараясь сжечь нерастраченную энергию; с таким же рвением убирал в казарме, расчищал от снега и грязи дорожки вокруг бараков; ел в столовой, ничего не оставляя в мисках; яростно спорил с противниками, до конца отстаивая выбранную позицию. Он сознательно брал на себя предельные нагрузки, чтобы, перегорев или выгорев, уснуть, не вспоминать о прошлом, о солнечной Молдове, о виноградной лозе, о молодом вине — о прошлой жизни.
Вслед за Тулбу, уже окончательно проснувшись, пошел к столу, за которым в прошлую ночь вел неспешные откровенные разговоры с дежурным-армя- нином.
— Принимай всю эту бухгалтерию.— Тулбу пододвинул ко мне несколько толстых потрепанных журналов.
Первое, что я сделал,— нацепил на рукав красную замызганную повязку с надписью «дежурный». (Так требовала инструкция.) Затем из-за спины Тулбу посмотрел, что он пишет в журнале «Начальнику 2-го отряда гр. Колчину С. А. Рапорт. Довожу до Вашего сведения, что за время моего дежурства с двух до четырех часов нарушений режима содержания не было. Дежурный по отряду Д. Тулбу».
— Вот так и ты нарисовать должен,— поднимаясь с табуретки и потягиваясь, пояснил он.— Если, конечно, никаких ЧП не будет.
— Сплюнь три раза...
— Не бойся, у нас отряд и казарма тихие.
Пройдя шагов десять, он остановился и вернулся
ко мне:
— Чуть не забыл! После тебя должен заступать Жданов, но ты его не буди. Он купил за заварку одного лидера, тот дежурить будет. Пойдем, покажу.
Мы долго пробирались в самый конец межкоечного прохода. На отшибе, не соприкасаясь с другими, стояла колченогая койка, на которой, скорчившись под рваным одеялом, лежал, судя по размерам, тщедушный человек.
— Вот этого в шесть утра поднимешь. Только не базарь громко. Он напуганный. Еще заорет спросонья.
Вернувшись на пост, прочитал записи в журналах. От безделья занялся анализом, когда, в какое время наиболее часто приходят в отряд проверяющие. И скоро пришел к однозначному выводу: администрации колонии — начиная от хозяина, начальника, и заканчивая последним прапорщиком — абсолютно безразлично, чем занимаются ночью их опасные подопечные. Лишь наш отрядник, старший лейтенант Колчин (видимо, с перепоя) иногда заглядывает в казарму с 23.00 до 7.00. Тогда в журнале появляются неровные строки о грязной одежде, запахе табачного дыма, «чифире» и других мелких нарушениях. А так — тишь да Божья благодать.
Ночь тянулась, как многолетний срок. В ящике стола нашел неизвестно как попавший в отряд старый педагогический журнал «Семья и школа». Уже само название вернуло мою память к дому, к вчерашнему письму, к странному сну. Тихонько пробрался к своей койке, нашел на ощупь знакомые странички, фотографию. И будто вернулся в ставший родным Минск, в свою уютную квартиру, к самым близким на свете людям — дочери и жене. Сон пропал, и я, сидя на жесткой табуретке, наизусть повторял простые, но такие нужные мне слова: «Мы ждем тебя... мы любим тебя...»
По одинокому окну пробежали полосы света. Поднялся, уперся горячим лбом в холодное стекло. Сквозь редкие снежинки видны были заборы с многорядной колючкой, за ними — смутные, еле угадывающиеся в ночной темени силуэты труб, над которыми висели пузыри цветного дыма. Вновь, будто прожекторы, прорезали тьму фары машин, донесся слабый автомобильный сигнал. Там, за зоной, за решетками, продолжалась обычная человеческая жизнь. Нелегкая, отравленная чадом и копотью заводов, зачастую полуголодная, с тысячью неурядиц и неприятностей, но — свободная. И мне нестерпимо, до хруста пальцев, захотелось вырвать решетки, разломать все эти лопатки, заборы, стальные ворота, расшвырять охрану и злобных собак... Там, радуясь, страдая и плача, работали, любили и ссорились свободные люди. А здесь, в душном вонючем бараке, томились рабы. И я был одним из многих тысяч этих обездоленных. Среди нас были и закоренелые преступники, и случайно оступившиеся, и совершенно безвинные. Но ко всем отношение было почти одинаковым, все были низведены до состояния тягловой силы. Кормили, чтобы назавтра вышли на работу, а потом — план, план, план... И так изо дня в день, из месяца в месяц, долгие годы. А посчастливится вырваться из заточения — опять полная неизвестность: вернулся изгой, отверженный, клейменный печатью зоны.
Отгоняя наваждение, тряхнул головой и направился в спасительный умывальник. Струя холодной воды остудила горячую голову, вроде бы успокоила расходившиеся нервы. «Не натвори глупостей, Валерий Илларионович,— приказал я сам себе.— Держи себя в руках. Скоро комиссия; пусть не в этом году, так в феврале. Срыва не должно быть. Ради дома, ради семьи!»
И я отправился будить сменщика — «петуха». Он, как мне показалось, и не спал вовсе. Лишь только я подошел к изолированной койке, новый дежурный вскочил, униженно-благодарно забормотал:
— Спасибо, что разбудил. Вообще-то мог и раньше. Мне не трудно, если нужно будет — скажи. Беру недорого — одну только заварку.
Смотреть на его заискивающую физиономию было неприятно, и я быстро пошел к столу. Сменщик засеменил за мной. До подъема оставалось совсем немного...
Заручившись если не поддержкой отрядника, то хотя бы его обещанием не ставить препоны на пути к комиссии, а при случае — и посодействовать, я начал искать подходы к Бровину. В пирамиде лагерной власти он стоял на одной из самых нижних, но очень важных ступеней — был бригадиром. Какую операцию будет выполнять зэк, обеспечат ли его материалами, деталями и инструментом, зачтется ли ему норма, часто ли придется дежурить в казарме — все это зависит от бригадира, бугра. С первых дней в новом отряде у меня, как я полагал, установились с Бровиным нормальные деловые отношения. Он не придирался ко мне, я старался не давать ни малейшего повода для конфликтов. Правда, не было и доверительности: что могло быть общего у бывшего помощника Брежнева с бывшим рядовым работником транспортной прокуратуры из Минска? Слишком большая дистанция нас отделяла в прошлом; если представить пирамиду, то Бровин находился на головокружительной высоте, а я занимал его теперешнее место — где-то внизу, у подножия. Правда, сегодня мы спали на одинаковых нарах, хлебали одну баланду, дышали гарью одного и того же цеха, выполняли команды одного и того же отрядника — в общем, были зэками колонии для бывших сотрудников. Но запанибрата с ним никто не был, он держался особняком, разве что его помощник Гнатюк разрешал себе иногда беззлобно подтрунить над бывшим цековским работником. Однако дальше определенной черты Бровин никого не пускал, твердо пресекая попытки как лагерного начальства, так и осужденных разузнать что-либо о жизни «высшего общества».
Конечно, мы знали из прессы, что привело в Тагил самого Геннадия Даниловича. Говоря официальным языком, «Бровин Г. Д., работая в аппарате ЦК КПСС, используя ответственное должностное положение в корыстных целях, в 1977—81 годах неоднократно получал взятки». Да, и этот скромный на вид, уравновешенный человек не устоял перед соблазном обогащения, а если быть точным — повторил в миниатюре путь своих старших товарищей по партии. Попав волей случая на верхние этажи власти, освоившись в кресле помощника генсека, попробовав деликатесов с барского стола, солдат отдельного полка специального назначения при Управлении кбменданта Московского Кремля, затем рабочий склада, кладовщик, заведующий складом хозяйственного отдела Управления делами ЦК КПСС, студент-вечерник, студент-заочник, получивший диплом лишь в тридцать лет, понял, какую хлебную должность он занимает. Оказалось, что три слова — «помощник Леонида Ильича» — обладают чудодейственной магией. Десятки людей ищут знакомства, просят покровительства; один телефонный звонок заставляет тревожно или радостно трепетать сердца чиновников самого разного ранга. Сияние, исходящее от «дорогого Леонида Ильича», от бесчисленных золотых звезд и орденов, слепит глаза всем подданым; неповторимый голос «верного ленинца», знакомый до последней интонации, ежедневно звучит в каждом доме; по мановению его руки расступается тайга, поворачиваются реки. И ко всему этому причастен он, Геннадий Бровин, крестьянский сын из Свердловской области...
Ворошить прошлое Геннадий Данилович не любил, в душу к себе, повторюсь, никого не пускал. Но однажды все-таки не сдержал эмоций. И косвенной причиной тому оказался я. В библиотеке мне попался на глаза свежий номер ленинградского журнала «Аврора». Перелистывая страницы, наткнулся на фамилию Бровина. Тема публикации оказалась старой: Брежнев и его окружение. Редакция, видимо, желая привлечь подписчиков в новом году, взяла на вооружение проверенный способ — материалы о «скандалах в святом семействе» всегда пользуются популярностью. Я сообщил Бровину о статье.
— Что им неймется? — возмутился бригадир.— Который раз перетряхивают грязное белье. Хотя я понимаю, что моя персона служит лишь фоном, декорацией. Главная фигура — Брежнев. Старый прием: оплевать прежнего хозяина, поднять на щит нового... Кто платит, тот и музыку заказывает...
Таким злым и раздраженным я еще не видел Бровина.
— Понимаете, Валерий, на следствии от меня требовали, чтобы я подтвердил, что сын Брежнева сожительствовал с дочкой Сталина — Светланой Аллилуевой! Принцип известный: большой лжи больше веры...
— Не может быть!
— У нас все может быть. Вспомни: Хрущев все репрессии свалил на Сталина и Берию, хотя сам «отличился» и на Украине, и в Москве, и во время войны. «Врагов народа» надо же было исключить из партии вначале, а кто это делал?.. Никита Сергеевич, партийный секретарь!!. Что, не так?
— В общем-то, вы правы...
— Не в общем-то, а на все сто процентов. Слушай дальше. Кто Хрущеву последние звезды Героя вручал, кто поздравлял-целовал? Мой хозяин — Леонид Ильич... А Горбачева кто из Ставрополя в Москву вытащил?.. То-то же... А теперь Михаил Сергеевич, который рядом с Брежневым в Политбюро заседал, сельским хозяйством страны командовал, называет .то время застойным... Хорошо звучит: «сделал карьеру в застойное время», не правда ли?
— Ждал своего часа, накапливал опыт...
— И разваливал, как сейчас модно говорить, народное хозяйство страны. Вот кто мне скажет, кто ответит: почему это такой умный Горбачев раньше не видел, что страна ежегодно теряет треть урожая, ровно столько, если не больше, сколько мы закупаем за валюту в Канаде, Америке и чуть ли не в Африке? Ведь сам же он в деревне вырос, на комбайне, говорит, работал, сельским краем руководил... Что, не знал, что элеваторы строить надо, зернохранилища, дороги настоящие?..
— Ну а вы-то...— попытался вклиниться я в монолог.
— При чем тут я?! Я — мелкая сошка, кто меня стал бы слушать?.. А если честно говорить, то об этих проблемах тогда и не задумывался. Это теперь поумнел. Времени предостаточно, сам знаешь...
— А вы давно здесь?
— Третий год...
— И что, сразу после смерти Брежнева взяли?
— Сразу виден бывший следователь,— криво усмехнулся Бровин.— Вопрос за вопросом...
— Вы не подумайте ничего такого...
— Ладно, не оправдывайся. Понимаю твое любопытство. Собственно, никакого секрета нет. Пришел на трон Андропов — меня уволили, правда, даже без партийного выговора. Устроился в один научно-исследовательский институт. А тут и Юрия Владимировича не стало. Пригласили к Соломенцеву, на заседание Комитета партийного контроля, и отобрали партбилет. И внизу, у подъезда, арестовали. Подошли «трое в штатском» и предложили сесть в машину...
— Меня в прокуратуру Беларуси вызвали и там арестовали...
— Почерк один. Меня отвезли в Прокуратуру Союза, оттуда — в изолятор КГБ. Следователь сразу вопрос ребром: «Или рассказываете все, что знаете, или — расстрел!»
— За что расстрел?
— На Брежнева компромат собирали... Я, правда, не лыком шит: в архивах КГБ, говорю, покопайтесь. Там все зафиксировано и зарегистрировано. Есть ко мне претензии — выкладывайте, предъявляйте. Тогда и всплыли на свет взятки... Отпираться не было смысла: что было, то было. И, знаешь, что меня поразило? Обо всех этих подношениях, что я принимал, в органах знали давно, чуть ли не в тот самый день... Но молчали, боялись, что не попадут в струю. Там на каждого досье заведено... В любую мийуту на любого человека материал можно найти, если новый начальник прикажет. Все мы под колпаком находимся...
Не верить Бровину не было оснований. Кто-кто, а он, безусловно, знал о тайнах «мадридского двора» не из третьих, а из первых уст. Только вот сам уберечься не смог, понадеявшись, что его патрон — Брежнев — будет жить вечно. Или предположил, что преемники генсека не станут менять команду. Но ветер подул с другой стороны...
— Между прочим,— продолжал Бровин,— все эти шумные процессы понадобились Михаилу Сергеевичу для укрепления личного авторитета. Вот, мол, какой я борец за справедливость! Партия очищается, объявляет борьбу негативным явлениям, приобщается к демократическим процессам. Пыль в глаза — вот как это называется!
И опять я поверил своему бригадиру. На своем собственном опыте, на своей шкуре мне пришлось испытать все «прелести» нового демократического общества, построить которое взялась обновленная партия во главе с Горбачевым. Исключили меня из КПСС и уволили с работы еще до решения суда, не пожелав выслушать ни возражений, ни объяснений. Затем, прикрывшись очередной кампанией по борьбе с нарушениями соцзакон- ности, состряпали нелепое обвинение и осудили, нарушив при этом даже прежние, доперестроечные законы. На все мои жалобы и заявления приходили стереотипные ответы: «Вы осуждены правильно, оснований для пересмотра дела нет». Хотя я был уверен, что никто и не вникал в суть моих писем. «Прокуратура Союза ошибиться не может...» Об этом я и сказал Бровину.
— Обжаловать приговор пытался и я,— безнадежно махнул он рукой.— Кто возьмется пересматривать дело, если вопрос, как говорится, согласован на уровне самого генсека, Михаила Сергеевича.
— Так что же, никакой надежды?..
— Почему? По-моему, Горбачев вынужден будет пойти на амнистию. Не по отношению лично ко мне, конечно, а на широкомасштабную. Международная обстановка заставит. Американский президент Буш заявил, что переговоры с СССР, подписание взаимовыгодных соглашений возможны лишь при демократизации нашего общества, когда люди получат реальные права и свободы. Такие же требования выдвигают Тэтчер, Миттеран, другие президенты и премьеры. ФРГ дает миллиардные займы с оговорками о правах человека...
— Получается, что «загнивающие капиталисты» больше беспокоятся о нашей судьбе, чем «родное» правительство?
— Парадоксально, но факт. И Горбачеву, надававшему столько обещаний, волей-неволей придется их выполнять. Он же претендует на роль мирового лидера, заботится о своей международной репутации больше, чем об авторитете внутри страны. Так что хоть в этом нам повезло... Ради имиджа Горбачев на многое пойдет.
— Вам видней,— осторожно заметил я.— Но коснется ли амнистия нас? Да и насколько массовой она будет? А вдруг очередная дымовая завеса? Там, у вас, умеют пускать пыль в глаза...
— Теперь я уже к этому не причастен, молодой человек,— устало вздохнул Бровин.— Так что вы ошиблись, сказав «у вас». А что касается сути вопроса, то он действительно сложный.— Изучающе посмотрев на меня, будто решая: говорить дальше или нет, он негромко произнес: — Сейчас я вам скажу о том, о чем мало кто знает...
— Государственная тайна?..
— Оставьте иронию для других... Тайна или не тайна, подписки я не давал... Но в печати (я вам гарантирую) об этом вы прочитать не могли и вряд ли когда-нибудь прочтете. Так вот: Госплан до сих пор определяет, дает контрольные цифры, сколько в стране должно быть заключенных...
Увидев, как недоверчиво округлились мои глаза, бывший помощник Брежнева повторил:
— Да-да, молодой человек, именно так обстоят дела. Экономика наша централизованная, плановая, все предприятия, в том числе и то, на котором мы с вами работаем, входят в общегосударственный комплекс. Взаимные обязательства, поставки, платежи, расчеты — все завязано в один узел. И вот представьте, что амнистируют, к примеру, миллион осужденных. Это же экономическая катастрофа! Все планы летят к чертовой матери! Из-за нехватки, скажем, наших вентилей выходят из строя газопроводы; не подается газ — простаивают тепловые электростанции; нет электроэнергии... В общем, картина, по-моему, ясная...
— Утрируете, наверное, Геннадий Данилович...
— Нисколько! Заводам, на которых работают зэки, дают такой же план, как и всем остальным, они включены в общегосударственный механизм. Планирование перспективное, есть всякие контрольные цифры — на пятилетку, к концу десятилетия, к началу следующего века... Что же, из-за амнистии, из-за нас с тобой, ломать всю систему?..
— Сами себе противоречите, Геннадий Данилович: то говорите, что амнистия должна быть, а теперь — что она нереальна...
— В том-то и вся загвоздка! Все дело в том, какой выбор сделает Горбачев.
— А если для отвода глаз выпустят несколько тысяч, пускай даже десятки тысяч, и на этом все кончится?
— Не исключен и такой вариант. Только вряд ли он пройдет: есть комиссия ООН по правам человека, общественные организации. Полумерами уже не обойтись, пожалуй...
— А как же с планом, с Госпланом?
— Вот от этого у них сегодня и больше всего головной боли. Наш, зэковский, труд самый дешевый. Вот тебе установлена норма в шестьсот вентилей. Она явно завышена. Будь ты на воле, получал бы минимум восемьсот рублей в месяц. А тут на карточку перечисляют от силы сто рублей. Чувствуешь разницу?
— Спина, руки, ноги чувствуют...
— Продолжим анализ. На частичное, как нам говорят, возмещение расходов по содержанию ИТУ у нас удерживают половину заработка. Из другой половины забирают за питание и обслуживание, в итоге остается не больше двадцати-тридцати -процентов заработанной суммы. Отминусуй иски, алименты — и ты гол, как сокол.
— Да, у многих на ларек не остается.
— Кого это волнует? Главное, чтобы мы «давали стране угля», а здоровье и прочие мелочи — это дело десятое. Но даже и эта грабительская система деформирована до предела. Какой дурак, скажи, будет здесь стараться перевыполнять норму, если у него автоматически удержат больше денег? А ведь есть выход, между прочим.
— Какой же?
— Простой: установить для каждого региона — Дальнего Востока, Зауралья, той же Колымы, твоей Беларуси, скажем, твердую сумму удержаний, учитывая, конечно, специфику работы. Ты знаешь, к примеру, что ежемесячно обязан отдать государству пятьдесят, шестьдесят, сто рублей... А остальное — твое. Вот тогда и стимул будет... Даже у нас в бригаде есть и филоны, и свои ударники... А все в принципе на одинаковом счету.
— Не совсем на одинаковом...
— Я сказал: в принципе. Ну, не выполнил кто-то норму, что с него взять?.. Не получается, может, у человека. А зачем тому же Тулбу за него вкалывать, здоровье гробить?
— Разрешите не согласиться, Геннадий Данилович. Насколько я знаю, с начала нынешнего, 1988, года более чем в пятидесяти колониях проводится интересный эксперимент...
— Это ты про систему зачетов? Так она применялась еще в пятидесятые годы.
— И дала свои результаты...
— Для экономики страны эта система, безусловно, выгодна. Только вот неувязка с высокой идеей. Ведь нас загнали сюда для чего? Для перевоспитания, правильно? Но вот тебе пример: отбывают срок два человека, два зэка. Один, молодой, получил за тяжкое преступление, предположим, десять лет. Другой, старик, за хозяйственное преступление — пять. Так вот, первый — грабитель, разбойник, насильник, убийца — может выйти на волю раньше, чем второй. Каким образом? А с помощью все тех же зачетов. Двадцати-тридцатилетний бугай с поддержкой уголовных паханов может купить себе более выгодное место, встать за более производительный станок, р конце концов подкупить кого-либо из администрации, что бывает чаще всего. Плюс к этому он сам по себе физически здоров. Набрав (купив) зачетов — три дня за четыре, два за три — он спокойно подает заявление на комиссию по условно-досрочному освобождению. И, как правило, выскакивает на волю. Таких примеров хоть отбавляй. А такой старик, как я, тянет свой срок от звонка до звонка и выходит за проволоку позже отпетого уголовника, хотя срок был меньшим... Арифметика тут простая...
Выкладки Бровина были убедительными. Видимо, кое о чем он знал раньше, а три года в колонии добавили фактических данных. Мне, не скрою, было интересно слушать его доводы, и, чтобы продожить разговор, я возразил:
— Геннадий Данилович, но вот недавно на лекции говорили, что система зачетов себя оправдывает: и дисциплина, мол, повысилась, и производительность труда выросла...
— Все-таки ты еще в самом деле молодой человек, если веришь в сказанное на лекциях. Возможно, зачеты сыграли свою роль в пятидесятых годах, когда массово загребали в лагеря и бывших в оккупации, и вернувшихся из плена, и кулаков из Западной Беларуси и Украины. Надо было восстанавливать разрушенное войной, строить новое — и миллионы дармовых рабочих рук были просто необходимы Сталину. Вот он или его подручные и придумали зачеты, чтобы подстегнуть ни в чем не повинных людей, заставить их работать на износ. Только, как принято у нас, самым наглым образом обманули. Малейшее нарушение или придирка хозяина — и все льготы шли насмарку. Почерк известный...
— А я ведь не зря вспомнил о лекции. Сегодня у нас в клубе очередное мероприятие. А мы с вами заговорились...
— Ив самом деле,— спохватился Бровин.— Надо поторапливаться.
Как мы не спешили, дверь клуба уже оказалась закрытой.
— Ладно, что поделаешь... Ничего нового мы не услышим...
— У нас на Беларуси в таких случаях говорят: «Я больш забылся, чым ён знае»,— поддержал я.
— Как ты сказал?
— Это не я, а наш народный поэт Якуб Колас: «Я больш забылся, чым ён знае».
— Точно сказано. Присылают лекторов, которые двух слов связать не умеют или читают всякую ерунду по бумажке.
— Или прапорщики с лейтенантами, которые якобы воспитывают нас,— подыграл я.
— Все они одного поля ягоды... Но чем мы займемся?
— Есть предложение, Геннадий Данилович. Сегодня банный день. Пойдем мыться.
Бригадир, совершивший одно небольшое нарушение, проигнорировав общественное мероприятие, замялся:
— Мы по графику должны быть в бане в час дня,— и добавил: — У меня, к тому же, нет с собой ни мыла, ни полотенца.
— Попытка — не пытка. Чего время зря терять? А мыло и рушник я с собой захватил. Хотел сразу после лекции помыться.
— Уговорил.
С баней нам повезло. Во-первых, она была открыта, во-вторых, не было никого из обслуги, в-третьих, не была отключена горячая вода. В таких «царских» условиях — без толкотни, без спешки, без мата — я не мылся с самого начала своей зэковской биографии. Облюбовав соседние кабины, мы стали под упругие горячие струи и несколько минут просто блаженствовали.
— Почти как дома,— услышал я сквозь шум падающей воды приглушенный голос Бровина.
«Скромничаешь, Геннадий Данилович,— подумал я,— в Москве, небось, в лучших саунах парился. И пивко после чешское было или баварское. Да и водочка, конечно. Но ладно, замнем для ясности». А вслух прокричал:
— Так вы третий год уже в Тагиле?
— Да. А почему это тебя интересует?
— И у меня третий год в общей сложности: следствие, суд, зона. Вот льготы подошли, но никак не могу их добиться...
— За чем задержка? — выглянул из своей кабины Бровин и попросил: — Дай, пожалуйста, мыло.
Передав ему обмылок, подождал, пока он намылит голову, смоет пену. Затем продолжил:
— Дело в том, что время на комиссию по У ДО подоспело. Теперь все от администрации зависит.
— Заявление подал?
— Разговаривал с отрядником. Он вроде согласился послауь меня на комиссию. Но, говорит, мало пробыл здесь. Характеристику, мол, трудно дать... Начнет интересоваться, кто я да что... А у меня кое с кем натянутые отношения...
— Понятно. У меня к вам претензий нет,— перешел на официальный тон Бровин.— Надо будет — помогу, замолвлю слово.
— Большое спасибо! Я не подведу, не беспокойтесь!
Бровин не ответил. До меня доносилось лишь довольное кряхтение и отфыркивание. Заканчивал мытье и я. Вытирая краем полотенца голову, подумал, что надо постричься: утром начальник отряда сделал замечание, что у меня слишком длинные волосы. У него была обостренная до предела неприязнь к длинным волосам: едва они вырастали у его подчиненных до сантиметра, как следовала команда: «К парикмахеру!» Меня, правда, еще в Минской тюрьме прозвали Лысым (особенно нравилась эта кличка несовершеннолетним): не богатая от природа шевелюра начала катастрофически редеть. Остриженный под нулевку, я был похож на тифозного больного: худой, с запавшими глазами, с заостренными скулами. Краше, как говорится, в гроб кладут. Недаром моя Людмила пролила столько слез в первые минуты свидания. Но что начальнику отряда до моего внешнего вида? Для него инструкция главнее.
Закончив водные процедуры, мы с Бровиным направились к цирюльнику. На сей раз вместо бывшего генерала машинкой и ножницами бойко орудовал новый мастер.
— Бывший полковник милиции,— тихонько шепнул мне всезнающий Бровин.
— А куда делся генерал?
— Говорят, в Москву вызвали, по делу Чурбанова. Впрочем, должен скоро вернуться. Чурбанову дали двенадцать лет.
— За полмиллиона?
— Выходит, суд не нашел доказательств. Так, что ли, юристы говорят?.. Только дело не в этом, а в большой политике, мододой человек.
— И тут политика?
— Она всюду присутствует. Особенно в этой колонии. Ты же понимаешь, что за Чурбанова взялись только потому, что он зять Брежнева. Вот, мол, мы какие: никого не пощадим. А если он тоже молчать не станет? Расскажет про всех и вся?.. Многие этого не хотят, ой, как не хотят! Мало ли о чем говорил с ним Леонид Ильич? А должность первого зама Щелокова, министра внутренних дел?.. Это и оперативная информация, и совершенно секретная. Не он их просить должен, чтобы поменьше говорили, а они его... Вот и отделался легко... Думаю, лет пять посидит и выйдет на волю. Он еще молодой, не пропадет.
— Но все-таки и до него Добрались...
— Не злорадствуй, не надо. Повторю: это не его судили; это на Леониде Ильиче крест ставили, на застойной эпохе... Можно думать, что сегодня что-либо изменилось.
— Кто там ко мне? — раздался голос парикмахера.— Вам какую прическу: польку или полубокс? — спросил бывший полковник, звонко щелкая ножницами вокруг моей головы.
— Под Котовского,— в тон ответил я.— У начальника отряда это любимый герой.
— Ясно, из второго отряда...
Возвращались мы из бани если не друзьями, то, во всяком случае, хорошими знакомыми.
— Хочу дать совет,— поучительно говорил Бровин.— У отрядника и в бараке, и в цехе есть свои люди...
— Глаза и уши?
— Пусть так. Надо быть осторожнее в оценках, особо не откровенничать. Один неверный шаг — и дорога на комиссию закроется.
— Ради дома можно и помолчать, и потерпеть. Тем более, что самое трудное, надеюсь, позади.
— И не забывайте: характеристика зарабатывается ударным трудом. Это я, как бригадир, говорю.
— Понятно, гражданин начальник.
— А вот это уже лишнее,— поморщился Бровин.— Пора становиться серьезнее.
— Извините, Геннадий Данилович.
ЗЕМЛЯЧЕСТВО В ДЕЙСТВИИ
Понемногу я втягивался в работу, заводил знакомых. Правда, особенно откровенничать, выворачиваться наизнанку в отряде не было принято. За свое выживание под угрюмым уральским небом каждый боролся в одиночку; обычным состоянием были осторожность, ежеминутное ожидание подвоха. Мне такая обстановка напоминала общий вагон поезда дальнего следования, в котором собрались случайные пассажиры. Идет разговор о йолитике, о газетных публикациях, рассказываются увлекательные истории о каких-то третьих лицах, но почти никто не решается открыть чужим людям свою душу. И все придерживают собственные чемоданы и мешки: как бы чего не вышло.
Мне же в предверии комиссии по У ДО нужен был собеседник, с которым можно поделиться всем наболевшим без утайки. В колонии такой человек был, но в другом отряде, в шестом,— все тот же Анатолий Кор- жуев. Выкроив свободное время, сорвался в «самоволку». Земляк сидел на койке, обложившись газетами и журналами.
— В библиотекари определелили? — поинтересовался я, пожимая широкую ладонь Анатолия.
— А ты телепатом стал?.. Только одного хлопца попросил, чтобы он заглянул к тебе и сказал, чтобы ты пришел...
— Выходит, есть о чем поговорить... Но о делах успеем. Как здоровье?
Вместо ответа Коржуев осторожно поднял робу, майку и оголил живот. Зрелище было не для слабонервных: длинный, сантиметров двадцать пять, багровый рубец выделялся на бледной коже. В некоторых местах стенки его «дышали». Казалось, маленькое напряжение — и из разреза хлынет кровь. Впрочем, капельки сукровицы еЩе высыхали на тонкой пленке, закрывавшей рану.
— Разделали тебя, будто кабана,— грубовато по- шутил-посочувствовал я.
— Коновалы, а не хирурги. Располосовали в одном месте, развернули внутренности... Потом решили ниже резать, грыжу искать. Как в анатомичке для студентов.— Анатолий заправил одежду, как-то боком присел на койку.— Боюсь, как бы заражения не было.
— Просись на больничку, с этим шутить нельзя.
— Нет, туда меня пока колом не загонишь. По такой погоде в этапках валяться, в вагоне трястись... Лучше я тут перебьюсь. Был в санчасти, дали какие-то таблетки. Говорят, помогают заживлению. А пока на неделю освобождение...
— Вот и поваляйся на койке, отдохни...
— Долго тянуть не приходится... Предлагают идти распредом в ремонтно-механический цех. Как думаешь, соглашаться или нет?
— Тебе виднее. Если на пуп брать не надо — иди. Вообще-то тебе легкий труд в любом случае положен. Так что можно не торопиться.
— Распреда место клевое. И сам в почете, и земляков пристроить можно. Тольку, например, надо из литейки вытащить, чтобы не загнулся.
— Давай Кома подключим. Он рядом с начальством крутится, наверное, тоже кое-какие концы есть...
Анатолий поморщился:
— Не хочу об этом холуе слышать. Нет ему веры. Достаточно, что уже наколол меня один раз. Без сопливых обойдемся...
Я давно знал о конфликте между Коржуевым и Комом, но все-таки решил смягчить углы:
— Нас, белорусов, здесь не так уж и много. Надо держаться в куче... Вот скоро праздники... Давайте соберемся вместе. Помиритесь — и дело с концом.
— Не гоняй попусту ветер, Валера. Я с ним ни мириться не собираюсь, ни ругаться. На кой хрен он мне сдался... Ты лучше скажи, как у тебя дела на новом месте?
— Никакого сравнения с литейкой. Небо и земля. Пахать, конечно, приходится, но у меня пока ученическая норма. Так что жить можно. Во всяком случае, пока можно.
— Ты и так по зеленой улице идешь... Бог тебе в кашу...
— Вообще-то можно еще раз на больничку рвануть. Мочевой пузырь беспокоит...
— Чудик ты, Валера. Вылечат твой пузырь, снимут ограничение. Что, снова на формовку захотел? Не валяй дурака!
— Правду говоря, особенно я туда не рвусь:. Но боюсь, что не вытяну полной нормы. В бригаде мужики по три года на одной операции вкалывают, прямо, как автоматы.
— Терпи, старайся, не на курорт попал... А потом, если устроюсь распредом, что-нибудь придумаем. Братки-белорусы и в огне не горят, и на зоне не пропадают...
Казалось бы, обычный разговор: о болезнях, о лечении, о работе, о ссоре. Но эти недолгие минуты (в чужой казарме рассиживаться не станешь) снимали напряжение, давали веру, что и у черта на куличках, в проклятой колонии, есть люди, которые могут помочь, подбодрить, поддержать. Великое дело — землячество.
Своей компанией решили встретить мы и праздник — 7 ноября. Правда, веры в социалистические идеалы у нас давно не было, она испарилась в первые же дни заключения. «Советская власть — это теща злая; мы у нее в примаках»,— просто и доходчиво сформулировал свое отношение к нынешней системе Коржуев. Но именно он в конце октября собрал «подготовительный комитет».
— Мужики, чем мы, белорусы, хуже других?.. От хохлов слышал, что землячеством отмечать будут, заготовки делают, шевелятся... Казахи с узбеками объединились... Москали, само собой, больше всех бегают — их революция.
— Не их, а евреев,— вставил Осипчук.
— Ну вот, не хватало еще антисемитов...
— А что, все эти Троцкие, Зиновьевы, Каменевы, Свердловы русскими были? А Карл Маркс?..
— Задай эти вопросы на политзанятиях... К тому же, если ты такой любопытный, могу добавить, что Иисус Христос тоже евреем был... Понятно?
— И Ленин по материнской линии,— добавил я.— Ее фамилия Бланк, предки приехали из Европы... Лекарями царскими были...
— Выходит, все праздники — и религиозные, и советские — евреи придумали?
— Какая тебе разница? Вот ты в Бога не веришь, а Пасху все равно отмечаешь, не так, что ли?.. Яйца красишь, водку пьешь?.. Так и к 7 ноября относись. Это повод собраться, посидеть, побазарить... А под каким лозунгом — не один ли черт?
— Ладно, убедили,— сдался Осипчук.— Давайте «ближе к телу»...
— Сразу чувствуется, что у тебя свиданка скоро,— улыбнулся Коржуев.— О теле заговорил.
Юрий зажмурился, сладко потянулся до хруста в суставах, мечтательно проговорил:
— Да, братцы, намилуюсь досыта... Про запас...
— Не увлекайся...
— Лучше переесть, чем недоспать,— лениво отбрех- нулся Осипчук.
Треп на эту «животрепещущую» тему мог продолжаться бесконечно, и я решительно перевел разговор в деловое русло:
— Если будем собираться, давайте прикинем, кто что сможет достать к «праздничному» столу.
— У меня отоварка,— поднял руку Коржуев.
— У меня тоже,— присоединился Лукьян.
— Добавляйте и мой ларек,— сказал Осипчук.— К тому же со свидания можно что-нибудь принести. Только вот как это сделать? У кого есть какие-нибудь концы?.. Предлагайте варианты.
— Придется мне этим заняться,— вздохнул я.— Тем более, что я ничего не могу дать в общий котел. После больнички, сами понимаете, на подсосе, полный голяк.
— Это не беда,— успокоил Коржуев.— Не обеднеем. Но запас беды не чинит; сальце, маслице, чаек никогда не помешают, лишними не будут...
— Когда у тебя свидание? — спросил я у Юрия.
— С 1 по 3 ноября...
— Значит, уже завтра. Тогда надо торопиться, искать мужиков, чтобы пронесли в зону... Побегу,— и я набросил на плечи телогрейку..
— Только смотри, не трепись, кому попало,— предупредил Осипчук.— У меня четырнадцать лет впереди, не хочется начинать с карцера. Попаду с первых дней в штрафники — и пойдет поголоска.
— Фирма гарантирует,— самонадеянно заверил я.— Прокола не будет. Каналы надежные.
— Попей чайку на дорожку, согрейся,— предложил
Коржуев.— Метелица на улице поднялась, сиверок задул.
— Волка ноги кормят.
Запахнув телогрейку, выскочил из барака. Пронизывающий ветер подхватил меня, словно опавший лист, и погнал-понес как раз к казарме, в которой находился Ком. С трудом открыв дверь, протиснулся внутрь. Земляка застал за довольно редким для него занятием — он читал какой-то журнал.
— Буквы знакомые ищешь?
— Хочу тебя догнать, образованным стать,— не обиделся на грубоватый вопрос Николай.— Что бегаешь по холоду?
— Поступило деловое предложение. Даже два. Мы собираемся землячеством встретить праздник, присоединяйся.
— Если будет Коржуев — я пас. Не хочу с ним никаких дел иметь.
— Что это вы не поделили? Завязывайте, мужики. Нас тут, белорусов, раз, два и обчелся, а вы склоку развели.
Ком не стал вдаваться в подробности, но почти слово в слово повторил слова Коржуева о нем самом:
— Подвел он меня. Нет ему веры.
Миротворческая миссия провалилась, но у меня была
и другая задача, главная.
— Юра Осипчук идет на свиданку с женой. Надо пронести на зону продукты и чай. У тебя должны быть концы, я знаю.
— Будешь много знать — долго сидеть придется,:— недовольно проговорил Николай, оглядываясь по сторонам.— Здесь и нары уши имеют, а ты кричишь, как на митинге.
Мы отошли в угол, подальше от любопытных соседей, и Ком вполголоса пообещал:
— Зайди попозже, перед отбоем. Есть один клиент, только он даром рисковать не станет.
— О чем базар?! Пусть назначает цену.
Как и договаривались, вечером я вновь пробрался к земляку.
— Уговорил расконвойника. Он берет за услугу четвертную. Это первое. Половину передачи отдаешь мне.— Тут Ком замялся, но потом поправился: — Ну, не мне, а нам. В общем, не один же я это делаю, кое с кем надо поделиться...
— Грабишь земляков, Микола,— возмутился я.— Побойся Бога. Юрка может не согласиться.
Николай начал растолковывать:
— Тут арифметика простая. Пусть берет побольше чая. Половина нам; значит, у него остается столько же. Продает один килограмм и выручает полета. Минус долг расконвойнику — и навар в четвертной билет. И полпередачи: сало, масло, шоколад, орехи, что жена найдет. Пусть собирает сидор килограммов на десять.
«Хорошо устроился, парень,— подумал я.— Пять килограммов отменной жрачки, чай дармовой... На таких процентах жить можно...»
— Когда и где встреча?
— Я тебе утром все подробно расскажу. Дам полную раскладку,— успокоил Ком.— Надо еще детали операции уточнить, чтобы не было сбоя.
Уходя из чужой казармы, я еще раз спросил земляка:
— Твой канал надежный?.. У Юрки свидание уже завтра, время терять нельзя. Может, мне другие концы искать?
Николай даже обиделся (или сделал обиженный вид):
— За кого ты меня держишь?..
Но утром оказалось, что сомневался я не зря.
— Понимаешь, Валера, не подписался расконвой- ник,— мямлил Ком, пряча глаза.— Базарит, что не знает Осипчука, боится, что залетит...
— Полный завал! Где ж твои гарантии? — возмущенно-растерянно спрашивал я, лихорадочно отыскивая выход из критической ситуации.
— На зоне не все так просто. Каждый за свою шкуру боится... Все, что мог, я сделал...
У меня не было времени выслушивать его оправдания, и я наскоро распрощался. В запасе был еще один вариант. С трудом упросив вахтера, открывавшего лопатку в десятый отряд, зашел к своим бывшим «коллегам».
— Смотрите, кто к нам пришел?.. Прокурор собственной персоной!
— Жаль, что не отметелили на прощание!..
— Соскучился по формовке?..
— Самый лучший прокурор — это мертвый прокурор!..
Под недружелюбные, мягко говоря, реплики добрался до знакомого азербайджанца.
— Дело есть!
— Люблю деловых людей.
Я повторил просьбу. У связника появился только один вопрос:
— Клиент надежный?
Хотя я знал Осипчука довольно поверхностно, пришлось заверить, что парень он «на все сто». Азербайджанец поверил мне на слово и провел свой инструктаж:
— Напротив литейки, за зоной, на воле, стоит двухэтажное кирпичное здание. Рядом экскаватор и бульдозер. Пусть жена твоего друга найдет моего кореша, земляка.— И он назвал фамилию.— Он все сделает. Уже не первый раз, не беспокойся. Пусть упакует все в мешок, зашьет. Можно килограммов сорок — пятьдесят...
— Сколько, сколько?..
— Зачем по мелочам размениваться?.. Играть — так по-крупному. Слушай дальше. Этот мешок она может оставить в двухэтажном доме, а нет — так в камере хранения на вокзале...
— Больно сложно все...
— Просто только детей делать... Теперь слушай, как расплачиваться будет твой друг. Стольник — расконвой- ному, мне — третья часть посылки.
— Ну и цены! Грабеж среди бела дня!..
— Зачем обижаешь? Чаю возьмет больше, здесь продаст, и еще с наваром останется... Что, согласен?
— Лады,— и я протянул руку. Азербайджанец не пожал ее, а хлопнул своей ладонью по моей.
Продолжая операцию, нашел в санчасти Осипчука. По инструкции перед свиданием каждый осужденный должен пройти тщательный медицинский осмотр, особенно на предмет венерических заболеваний, а в последнее время — и на СПИД.
— Что, готов к встрече?
— Как застоявшийся жеребец. Не уронить бы только марку, не разочаровать...
— Жена — свой человек, поймет, если что не так. Все будет нормально,— успокоил я и перешел к главному: — Договорился я о передаче. Вариант железный.
Юрий, видимо, передумал, и поэтому нашел кучу отговорок. Но я, взявшись за дело, решил довести его до конца. Под напором аргументов Осипчук сдался, правда, не очень охотно.
— Как бы чего не вышло?.. Загремлю под фанфары. Только попал на зону и сам лезу в карцер,— снова высказал он опасение.
— Кто не рискует, тот не пьет шампанское,— повторил я старый афоризм.
— Ладно, уговорил...
Спустя три дня, придя со смены, я увидел Юрия. Бледный, с осунувшимся лицом, он сидел на койке и боролся со сном. ,
— Все нормально?
— Насытился на полгода вперед. Ветром шатает...
— Дело молодое...
Осипчук на удивление не горел желанием продолжать разговор. Это было довольно странно — обычно после свидания люди становились общительнее, делились новостями, в общем, испытывали душевный подъем. Сейчас же все происходило наоборот. Подавив любопытство, молчал и я. Отогнав дремоту, Юрий наконец-то вяло проговорил:
— Не верю я ей. Не будет она меня четырнадцать лет ждать. Баба молодая, на кой хрен ей мучаться...
— Брось наговаривать. Вот на свидание приехала за тридевять земель, приласкала...
— Откуда я знаю, с кем она каждый день спит? Телекамеру дома не поставишь...
Чтобы не трогать больную для большинства зэков проблему верности жен, я спросил о деле:
— С передачей все в порядке? Сработала связь?
— Жена отказалась. Нашла каких-то родственников, может, те организуют...
Сообщение было не из приятных. И не потому, что я рассчйтывал на дармовой приварок. Сам того не желая, я не сдержал слово, данное азербайджанцу из десятого отряда, сорвал, в общем-то, операцию, зазря рассекретил бесконвойного.
— Так не делают, Юрка,— возмутился я.— Меня же треплом посчитают, другой раз к ним не сунешься...
— При чем тут я? Прикажу ей, что ли? Сказала, что не хочет — и все тут.
Большего добиться от него я не смог. Оставалось выяснить только, позвонила ли его жена моей.
— Телефон я ей сказал. Не знаю только, запомнила ли... Память у нее дырявая.
— Не понимаю. Что, записать не было чем? Мог хотя бы спичкой...
— Ничего я не знаю. Спать хочется.— И раздраженный земляк отвернулся от меня.
То, что не захотели или не смогли сделать Осипчук и его жена, с лихвой возместила, будто почувствовав на расстоянии мою тревогу, сама Людмила. Я получил от нее долгожданное письмо. И хотя главная новость была неприятной — Верховный суд Латвии отклонил протест, один вид тетрадных листов в клеточку, физическое ощущение, что их держал в руках любимый и родной человек, что рядом, конечно же, была дочь Иннулька, превратил обычный хмурый день в праздничный. Простые ласковые слова, затаенная боль, осторожная надежда на скорую встречу (не сглазить бы!), будничный, если бы я был в недолгой командировке, рассказ о семейных делах, о повседневных заботах. Каждая строка, написанная знакомым, чуть ученическим почерком, говорила, что я по- прежнему свой, близкий человек, что обо мне никогда не перестают думать, что разлука наша временная, что меня ждут не дождутся...
Под впечатлением от письма проработал первую половину смены. Уловив мое настроение, не допекали упреками и не приставали с распросами разговорчивый Битарашвили и злой Белозеров, не терпящий задержек Тулбу и любящий покомандовать Гнатюк. Наверняка и в их несладкой зэковской жизни бывали моменты, когда лучше помолчать, побыть наедине с собой или, как я в эти минуты, мысленно поговорить с родными.
Пронзительный звонок прервал мои размышления.
— Пошевеливайся! На обед! Быстро!
Завхоз выполнял свои несложные, но многосторонние обязанности неукоснительно. Тем более, когда это касалось такого святого для заключенных дела, как прием пищи. Пусть даже это громкое название не совсем соответствовало своей сути: лишь с большой натяжкой, да еще при наличии фантазии, можно было назвать пищей то варево, которым нас «потчевали». Размазанная по миске овсяная каша, жидкие щи из сомнительной квашеной капусты, два ломтика черствого хлеба... О какой-либо калорийности такого обеда говорить бессмысленно, она ниже нижнего предела, но нам на всех собраниях и лекциях твердили, что мы — иждивенцы на шее у государства, что мы объедаем его. И поэтому администрация требовала темпа и еще раз темпа, постоянно ужесточая нормы. А мы постепенно превращались в тени, в «доходяг», мечтающих о лишнем черпаке баланды.
Чувствуя пустоту в желудке, подавляя изжогу, кое- как дотянул до конца смены. По привычке прибрал рабочее место, вслед за другими поплелся в раздевалку.
— Тебе завтра утром убирать казарму,— предупредил Бровин.
— Этого мне только и не хватало,— обреченно произнес я.— И так еле ноги переставляю.
— Таков распорядок. Это всех касается.
— А как же с работой? Я же опоздаю...
— Завхоз предупредит дежурного на лопатке. Так что там проблем не будет... К тому же я останусь с тобой, покажу, что к чему.
— Тогда все в порядке. Где орудия труда?
— Пойдем, покажу...
Утром ожидали меня швабра и помойное ведро. Вместе с еще двумя уборщиками взялись за дело. Куда не доставала швабра, забирался на четвереньках. Пыли и грязи скапливалось предостаточно: мы хотя и переодевались после смены, но куда денешься от всепроникающей копоти, как соблюдешь чистоту, когда двухъярусные койки стоят почти впритык, когда казарма набита, будто бочка с килькой...
Уборка заняла около часа.
— Выношу благодарность за старание,— без тени улыбки сказал Бровин.— Сразу видно, что мужик ты хозяйственный. Не развозил грязь, а убирал, как дома.
— Вы об этом, Геннадий Данилович, отряднику скажите. Пусть он благодарность вынесет.
— Все еще впереди, не торопись. А я при случае слово замолвлю, можешь не сомневаться. Но теперь на работу. Там тоже напряженка.
И в самом деле, не успел я подойти к своему рабочему столу, как появился помощник мастера.
— А мы тебя уже заждались. Начнешь осваивать новую работу. Согласен?
— Смотря какую...
— Не бойся, особых знаний не надо. Не космическую ракету собирать будешь... Соединение вентиля и маховика. Справишься?
— Раз родина требует... Только у меня ограничение, тяжести таскать запрещено.
— У нас не детский сад. Все пашут — и ты не надорвешься.
Спорить с помощником мастера не приходилось, тем более, что он, хоть маленький, но начальник. Что будет написано в характеристике, зависит и от него. А ради этой бумаги, как говорят зэки — ксивы, стоило пролить пот.
Поначалу мне показалось, что с нормой я справлюсь играючи. Работа в самом деле была несложной: надо было прикрутить вентиль к маховику, проверить надежность крепления и отдать упаковщикам. Никакой квалификации операция не требовала, но высокий темп и однообразие работы постепенно брали свое — онемел плечевой сустав правой руки, перед глазами начали плыть разноцветные круги, а упаковщики все покрикивали:
— Давай, давай! Норму не сделаем!
Я недовольно поглядывал в их сторону, удивляясь расторопности и выносливости.
— Завтра на их место станешь,— заметив мои взгляды, сказал Тулбу, один из лучших сборщиков.— Освоишь смежную профессию.
Особой радости эта новость не вызвала. Заколоченный ящик доходил весом до пятидесяти килограммов, а тащить его к лифту приходилось вручную, держа перед собой на весу. Я попробовал было заикнуться об ограничении, о медицинской справке, но Тулбу отрезал:
— Мы на бригадном подряде. Здесь у тебя не получается, задерживаешь всех. А ящики таскать много ума не надо. Справишься.
— Ты, по-моему, пока не мастер и даже не бригадир, а распоряжаешься...
— Не лезь в бутылку. Зашьешься — поможем. Норму на сборке ты не дашь, это ежу понятно. А на упаковке еще туда-сюда...
Не хотелось сдавать уже завоеванные позиции; идти на тяжелую работу — значит, по сути, вновь возвращаться в ту же литейку. А на кой мне это сдалось? Вновь обострять болезни, опять болтаться в санчасти и на больничке? Или влезать в необязательный конфликт с отрядником, с администрацией? С одной стороны Сцил- ла, с другой — Харибда. Там — чудовище, здесь — ШИЗО. И куда податься, как выжить, как не потерять лицо и не превратиться в дерьмо, не стать половой тряпкой, которой недавно выбирал грязь из-под двухэтажных шконок?
Мучался сомнениями я; ворочались неспокойно соседи. Кто-то бредил семьей; откуда-то из угла слышно было причитание «руки мои, руки»; злой голос во сне отстаивал право на кусок хлеба. Зона. Проволока. Бессонный фонарь. Собаки. Автоматы наизготовку... Несвобода. И нет сна, голова раскалывается от неразрешенных проблем, и больше всего бесит собственное бессилие. Обычные правовые каналы для меня, зэка, закрыты. Кому есть дело до какого-то Валерия Сороко? Жене отказывают, меня в счет не принимают, ни одной жалобы никто не читает. В черном замкнутом круге, за которым видны зловещие фигуры Прошкина и его подручных. Обложили, как волка, и кругом красные флажки... Не дай Бог, вырвусь, прорву блокаду, заору...
— Ты с кем сегодня ругался?.. С кем дрался?
Не понимая вопроса, я недоуменно смотрел на небритую физиономию Битарашвили.
— Я спрашиваю, дорогой, кто тебе спать не давал?
Ночное наваждение прошло; я пришел в себя и в тон
Битарашвили ответил:
— А вы, батоно, ночным сторожем работаете? Чужие мысли читаете?
— Не обижай. Я думал, что ты женщину красивую увидел во сне. Завидно стало. Расскажи.
— Послушайте, дорогой.— Я постарался поддержать тон грузина.— На красивую женщину я голос никогда не повышу.
Сквозь густую щетину Битарашвили наконец-то пробилась привычная улыбка.
— Вот теперь я вижу, что ты проснулся. У меня для тебя есть интересная новость. Опять про тебя пишут. В «Литературной газете». Витебское дело не забыто, значит.
Сон прошел.
— Где публикация? У вас есть?
— Из библиотеки распространитель печати приходил. У него газета, если, конечно, кто-нибудь уже не прихватил.
Моей скорости передвижения мог бы позавидовать чемпион мира по спринту. Распространителя я выловил на выходе из казармы.
— «Литературка» есть?
— Выписывают только армянин, Новиков и Калистратов.
— У тебя есть хоть один экземпляр?
— Дефицит. Ничего не осталось.
Армянина (Айропетяна) разыскал в умывальнике.
— Дорогой,— я невольно подстроился к южной манере разговора.— У меня есть просьба.
— На сколько? Меньше миллиона не принимаю.
— У тебя есть «Литгазета»?
— У меня все есть. И газета тоже.
— Кончай хохмы! Нужна одна страница. Там про Витебское дело написано.
— Какие вопросы?! Для доброго человека бумаги не жалко...— Айропетян помолчал и, отведя глаза, спросил: — Заварку поставишь?
— Хоть две!.. Не тяни резину!
И вот я держу в руках все шестнадцать страниц «Литературной газеты». Сразу же нахожу нужную рубрику «Мораль и право» (именно в этом разделе И. Гамаюнов «разоблачал» меня). И вижу ту же фамилию — Игорь Гамаюнов. Пробегаю многострочный материал по диагонали, вижу, что он написан с прежних, но чуть подретушированных позиций. Общие рассуждения, глубокомысленные выводы, желание поучить и научить всех и вся. Поза Верховного судьи. Впрочем, предлагаю статью Гамаюнова:
«Где будут обнародованы законопроекты?
Когда адвоката допустят к.следствию?
Как укрепить гарантии независимости суда?
Почему ведомственная инструкция оказывается «сильнее» Конституции»?
...Голос в трубке нетерпелив: когда же наконец будет правовая реформа?.. (Будто реформа — это самолет, который задерживается по метеоусловиям.) Перезваниваю в юридический отдел Президиума Верховного Совета СССР. Мне объясняют: мы накануне принятия многих новых законов. Идущее сейчас обсуждение двух законопроектов — об изменениях и дополнениях Конституции СССР и о выборах народных депутатов СССР — только начало. Впереди — обсуждение основ уголовного судопроизводства. Идет работа над законами о печати, о собственности, об изобретательстве и многими другими. Будет пересматриваться и уголовно-процессуальное законодательство. Словом, перестройка права началась Она идет, может быть, пока не столь зримо, как хотелось бы, но — идет, и каждый ее значительный шаг будет сделан гласно. Как это и произошло уже с двумя опубликованными законопроектами.
Обо всем этом рассказываю настырному читателю, снова позвонившему мне через день. И слышу в ответ: а не окажутся ли эти проекты лишь «косметическим ремонтом»? Ведь нам нужна радикальная, понимаете, радикальная правовая реформа...
ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
...Я с ним не спорю. Потому что на днях говорил с весьма знающим человеком — знакомым следователем, ведущим «особо важные дела». У него громадный опыт и крепчайшая нервная система — чего только не повидал! Как-то распутывал «слипованное» ради отчетности дело, по которому невиновных битьем заставили оговорить себя: били тем, что попало под руку,— томиком Уголовно-процессуального кодекса. Но это лишь штрих. А вот сам эпизод.
Рассказывает: заканчивал расследование по одному из «витебских дел» (о них я писал в очерке «Метастазы» // Лит. газ. 1988. 2 марта) ; следователей-фальсификаторов отправил на скамью подсудимых; невинно осужденные были оправданы. И тут приходит к нему старуха, лет ей за семьдесят. Сына у нее, единственного, вот так, «по ошибке», осудили — к исключительной мере. Не в те страшные, далекие уже, тридцатые годы, а сейчас, несколько лет назад. Приговор приведен в исполнение. Просит: отдайте его косточки. Хочет перезахоронить на городском кладбище. Но отдавать-то нечего — пепел с землей смешан... Не смог мой друг-следователь сказать старухе правду. Куда-то звонил при ней, обещал выяснить, сообщить («письменно!»), а старуха кивала с благодарностью: «Спасибо, сынок, не надо письменно, я сама зайду»., И — заходила. Каждое утро. На крыльце прокуратуры ждала московского следователя, постелив газетку на ступеньку. Поднималась навстречу, смотрела доверчиво... Этот взгляд ее — пытка, по словам моего друга: ничего страшнее и безвыходнее в его работе не было.
«Частный случай» — скажут, конечно, оппоненты «ЛГ». Но если бы частный! География судебно-следственных «ошибок», к сожалению, не ограничивается Беларусью. Подобное «случалось» и в Краснодаре, и в Свердловске, и в Москве... Причем дело отнюдь не только в «выбивании признаний». Вот несколько сюжетов из наших недавних публикаций.
Руководитель Одесского ОБХСС Малышев, отказавшийся участвовать в «липовом правосудии», оказывается за решеткой... (Щекочи- хин Ю. Шторм после шторма // Лит. газ. 1987. 2 дек.).
Несговорчивый судья Поляков из Волоколамска (недавно реабилитированный Верховным судом СССР) за свою строптивость был в неволе шесть лет... (Борин А. За что судили судью? // Лит. газ. 1988. 3 февр.).
А очерки А. Ваксберга о двух прокурорах — Найденове и Мамедове, об их профессиональной честности, стоившей в конечном итоге одному жизни, другому служебной карьеры? (Судьба прокурора // Лит. газ. 1987. 28 окт.; Бурные аплодисменты // Лит. газ. 1988. 21 сент.)?
А статьи О. Чайковской о двух следователях республиканской прокуратуры — Реве и Мысловском, попытавшихся на искалеченных ими же судьбах людей «выстроить» громкие судебные дела, которые затем рассыпались в пыль (Тайны следствия // Лит. газ. 1987. 15 июля; Да, я обобщаю // Лит. газ. 1988. 13 июля).
Перечитываю в «ЛГ» интервью с руководителями правоохранительных органов, выступления юристов, читательские письма. Многоголосье мнений! Мозаика наших бед, ошибок, проблем. Да о каких частных случаях речь, если из этой мозаики (полистайте подшивки других газет) явно проступает механизм, то и дело дающий сбои.
Создавая видимость защиты закона, механизм этот творит беззаконие. Выяснилось: в недрах своих плодит он не просто плохо знающих свое дело «невежд с дипломами юристов» (так их однажды назвал А. Ваксберг, вызвав бурю ведомственного негодования) — нет, не просто невежд, а мастеров фальсификации, людей без чести и совести, карьеристов, для которых искалеченная судьба и загубленная жизнь другого человека всего лишь способ шагнуть на очередную служебную ступеньку.
Гласность для таких «юристов» гибельна. Повторюсь: для ТАКИХ, потому что вовсе не хочу и не могу всех подряд считать псевдоюристами. В правоохранительных органах работают и самоотверженные, честные люди, о них тоже пишет «ЛГ» (пример — те же очерки А. Ваксберга о Найденове и Мамедове, очерк Н. Попкова «Тихая работа» о следователе Громове)... А гибельной гласность оказалась именно для псевдоюристов. Они, стремясь защититься, бросились писать «в инстанции». И сейчас еще в редакционной почте нет-нет, да мелькнет письмо обиженного юриста, в амбициозной слепоте своей не сумевшего даже как следует прочесть резолюцию партконференции о правовой реформе. Не понимающего, что слова резолюции — «Обеспечить верховенство закона во всех сферах жизни общества» — обязывают обеспечить законность в первую очередь в правовой сфере. Чтобы томик Уголовно-процессуального кодекса, подвернувшийся под руку, был не «орудием действия», а руководством к действию. К законному действию.
Я УБИЛ...
Помню первое впечатление от разговора с человеком, оговорившим себя. Его уже освободили, уже настоящий насильник и убийца был изобличен и ждал наказания, уже шел суд над следователями- фальсификаторами, а моего собеседника бросало в дрожь, только от попытки вспомнить, как это происходило. Как допрашивали. Как советовали признаться. Нет, не били. Молодой следователь самоуверенно улыбался, не сомневаясь ни секунды — подследственный «расколется». Чувство тупика и бессилия, будто из тебя извлекли кости и ты превратился в студенистую массу. Посоветоваться не с кем. Разве что только с ним, с этим палачом, убивающим тебя насмешливым взглядом. Повинишься — сохраним жизнь, объясняет он. И у тебя на глазах превращается в Благодетеля, управляющего твоей волей. Гремят металлические двери. Тяжелый запах из отхожего угла камеры. Небритые лица. Вязкие разговоры. Другой мир, действующий на впечатлительного человека сильнее любого битья. Царство* кривых зеркал, в котором вдруг видишь себя другим — нелепым, жалким, мерзким, где однажды оглушает сумасшедшая мысль: а может быть, это я надругался над женщиной? Может, я убил?
Сколько подобных драм можно было предотвратить!.. «О необходимости участия адвоката на первой стадии следствия у нас, в юридической печати, так много говорилось...— цитирую доктора юридических наук А. Яковлева,— что отсутствие сдвигов в этой проблеме просто лишает меня энтузиазма говорить еще раз...»
Это опубликовано в «ЛГ» два года назад. Не было, наверное, с тех пор ни одной публикации уже в неюридической печати, в которой бы не упоминалась эта проблема. Уже сказано и в резолюции партконференции о том же. Никто, казалось бы, не спорит с очевидной теперь необходимостью. Да и о чем спорить, когда опыт других стран доказал: такая мера укрепляет гарантии правосудия. Ведь с первой же стадии следствия начинает действовать принцип состязательности обвинения и защиты. И вот позади два года — сколько новых указов утвердил Верховный Совет за это время! Но что помешало разработать указ о допуске адвокатов, не дожидаясь проекта нового законодательства?
Да5, разумеется, проблема не простая, адвокатов крайне мало (сравните: у нас — 25 тысяч, а в США — 420 тысяч!). Потолок их заработной платы до недавнего времени был ограничен — это крепенькая узда на деловой активности... Когда наконец преодолеем мы (об этом дважды писал доктор юридических наук И. Петрухин в «ЛГ» (1987. 17 июня, 18 нояб.) наследие сталинщины — пренебрежение к адвокатуре, к принципу состязательности, который стал крупнейшим достижением мирового права? Да и как практически с таким количеством адвокатов (один адвокат на 13 тысяч человек!) осуществить отмеченную в резолюции партконференции «правовую защиту личности»?
«Право есть самоограничение государственной власти» (цитата из выступления профессора А. Яковлева // Лит. газ. 1988. 8 июня) и потому гражданин может и должен обратиться в суд с иском к государству, если оно ущемило его права. Разумеется, для этого необходим независимый суд. Необходима развитая система конституционного надзора. Необходимо разделение властей. Необходима, наконец, громадная эволюция массового сознания.
Долгий, трудный процесс. Его катализатором может и должна стать адвокатура. Потребность в адвокатской помощи столь велика, что, по свидетельству доктора юридических наук И. Карпеца (Лит. газ. 1988. 8 июня), появились кооперативы «юридической помощи», причем, к сожалению, помощи не всегда квалифицированной.
«Нужно снять ограничения с адвокатуры,— утверждает И. Кар- пец,— вернуть ей статус самоуправляющейся организации (сейчас это самоуправление — чаще фикция). И пусть адвокатура развивается за счет клиентов, вступая с ними в договорные отношения. Добавлю: необходимо, как не раз уже предлагали читатели «ЛГ», создать союз советских адвокатов и научно-исследовательский институт проблем адвокатуры.
Что же о допуске адвокатов на предварительное следствие (вот она, самая важная, юридическая помощь, равная, может быть, вызову скорой медицинской помощи), то мне приходилось слышать и другие мнения...
ЧУЖАЯ ВИНА
Скептики говорили: адвокат на первой стадии следствия? Да разве одним этим проблему решишь? Мрачновато предрекали: скорее усугубишь... Почему? Перегружены у нас следователи, плохо оснащены технически, да и многие профессионально слабы. Соперничество с адвокатом доконает их! Любопытная логика. Неужели возможности нашего следствия столь убоги? Да разве можно совершенствоваться, например, в спортивной борьбе с резиновой куклой, учиться езде на велосипеде без велосипеда?
А вот еще мнение: адвокат на первой стадии даже помогает следствию. Как? Контрдоводами обнажает слабые места обвинения. Становится как бы дополнением к контролю за законностью. Но основной контроль — прокурорский надзор! — конечно, не заменит.
Надзор же этот, пожалуй, пока самое слабое звено. Ведь прокуратура до недавнего времени, чем дальше, тем больше, становилась придатком командно-бюрократической системы управления,— объясняет Генеральный прокурор СССР А. Сухарев (Лит. газ. 1988. 31 авг.), недавно возглавивший это перегруженное нерешенными проблемами ведомство... Чем только не заставляли прокуратуру заниматься!.. Лесозаготовками. Подачей порожняка на железной дороге. Выбиванием фондов. Прокуратурой пугали: «Опять план не тянешь? Придется к тебе прокурора прислать — выяснить, почему...» Главная функция прокуратуры — надзор за законностью, защита прав человека — переставала быть главной, а то и — в некоторых регионах — отмирала «за ненадобностью». И в самом деле, зачем нужен был независимый прокурорский надзор Рашидову и его мафиозному окружению в Узбекистане?..
Как вернуть прокуратуре ее исконные функции? Обеспечить ее независимостью на местах? «В законности нет и не может быть двух стандартов: какие-то эшелоны власти подлежат прокурорскому надзору, а какие-то нет»,— считает Генеральный прокурор СССР А. Сухарев, видя решение проблемы в реформе политической системы, в совмещении должности секретаря обкома партии с выборной, а потому подотчетной избирателям должностью председателя Совета народных депутатов. «Это уже должность государственная, установлены, четко определены его юридические полномочия... И прокурорский надзор за его деятельностью станет, понятно, более действенным, всеобъемлющим, правовым,— убежден А. Сухарев.— Тут уже партийным постом не прикроешься».
Но, видимо, не легок, не прост будет процесс восстановления ленинских принципов прокурорского надзора. Да легко ли иному партийному функционеру отказаться от привычного уже «телефонного права»? От соблазна вызвать «на ковер» стоящего у него на партучете прокурора?.. «Необходимо и правовое регулирование места партии в государственном управлении»,— таково мнение доктора юридических наук А. Яковлева, прозвучавшее за «круглым столом» (Лит. газ. 1988. 8 июня). Видимо, сейчас, изучая законопроект об изменениях и дополнениях Конституции СССР, следовало бы обсудить и этот важнейший в реформе нашей политической системы вопрос. За тем же «столом» начальник отдела Верховного суда СССР, доктор юридических наук О. Темушкин так развил тему: «...Каждый государственный орган должен заниматься своим делом. Я говорю об идее разделения власти...» До недавнего времени не всегда юристы принимали эту идею. Но как иначе обеспечить в правовом государстве верховенство закона, не разделив власть на законодательную, исполнительную и судебную? Как без конституционного надзора остановить лавину ведомственного «законотворчества», размывающего тысячами подзаконных актов коренные положения Конституции?
Но вернемся к прокурорскому надзору за следствием. Сколько раз «ЛГ» писала: этому надзору мешает совмещение в одном ведомстве двух функций: ведение следствия и надзор за законностью его ведения. Сколько было ранено прокурорских самолюбий, сколько написано полемических писем!
Теперь и это утверждение перестает быть спорным. Планируется сосредоточить следственную работу в Министерстве внутренних дел, выделив следствие в самостоятельную структуру. Генеральный прокурор СССР подтвердил: да, верх брали корпоративные интересы. Отсюда обвинительный уклон. Поэтому надзор за следствием терял свою объективность.
Да уж, добавлю: о какой объективности речь, когда, например, в тех же «витебских делах» надзиравшие прокуроры подмахивали обвинительные заключения, лишь бы скорей отрапортовать наверх: преступление раскрыто. А истинный преступник продолжал свою страшную охоту, а следователи множили число психически сломленных, взявших на себя чужую вину людей... Правда, все они надеялись: суд разберется. Но суды, несмотря на их заявления о самооговоре, несмотря на противоречия в обвинении, проштамповывали следственную «липу».д
— Здорово закручено! — непроизвольно проговорил я, окончив читать опус Гамаюнова.— Методы железные: аппеляция к общественному мнению, ссылки на мудрость партии и... давление на суд. Крепко он с Прошкиным повязан.
— Ну, ты даешь, земляк! — Я даже вздрогнул, увидев рядом не соседей по казарме, а Николая Кома.— Сам с собой говоришь, чуть не матом ругаешься... О чем задумался, детина?
— Прошкин меня не забывает...
— Плюнь и забудь! Ты скоро домой пойдешь, на хвост соли он тебе не насыплет.
Собеседник был мне кстати. И я под впечатлением прочитанного завелся:
— Где же совесть или профессиональная честь у этого Гамаюнова? Он, не скрывая, пишет, что Прошкин его друг. И уже который раз защищает, рекламирует того. Что, это его собственная газета?.. И вообще, не попахивает ли это сговором?.. Статья же есть за это...
Ком был настроен более рассудительно:
— Сговора тут, скорее всего, нет. Ну, знакомые, ну, друзья. Один дает материал, другой публикует... Обычная история.
— Но ведь до приговора меня заклеймили как преступника! Это что — законно? Этика где?.. Закон на- рушен!
— Не кипятись! Фамилия твоя не названа!, придраться не к чему. Он вообще пишет, теоретически...
— Ничего себе теория! Дурак — и тот поймет, что к чему... Кстати, я Гамаюнова прижал однажды. Уже после его первых статей. Он утверждал, что мы довели Адамова до самоубийства. А суд отбросил это обвинение. Так что у меня против этого щелкопера есть свои козыри. И я их при случае использую. Дай только время.
— Лоб разобьешь. Кто ты?.. Зэк, правильно... А он?.. Корреспондент центральной газеты. Ты внизу, на зоне, в дерьме. Твой же Гамаюнов в Москве, в чистом кабинете. С твоим же Прошкиным чаи распивает. И сколько ты не бейся — ни хрена не сделаешь. Их ничем не достанешь. Лучше сопеть в две дырочки...
— Не по мне это! Черное — оно всегда черное. И Прошкину с Гамаюновым не отмыться.
— Как хочешь,— сдался под моим напором Ком.— Мужик ты не глупый.- Но (мой совет) не зарывайся... А лучше пойдем чайку хватанем. У меня свежая заварка появилась... Грузинская.
— Спасибо. Но... другим разом. Надо обдумать все. Да и сердце пошаливает.
Как ни обидно было, но особых деликатесов к празднику нам раздобыть не удалось. Зато удивила неожиданная щедрость администрации — нерабочими были объявлены аж три дня — 6, 7 и 8 ноября. Обычно, как рассказывали старожилы, под предлогом производственной необходимости праздники сокращали, обещая предоставить в будущем отгулы, оплатить неурочный выход на работу вдвойне, поощрить и т. д. Потом обещания эти забывались, а тех, кто пытался добиться справедливости, зачисляли в подстрекатели, искали и находили возможность наказать за малейшую провинность. А сейчас, в 1988 году, на нас свалилось целых три дня отдыха — невиданная роскошь.
— Что-то здесь не чисто,— заметил Белозеров.— Надо ждать подвоха.
— Играют в демократию,— поддержал Жданов.
— Они свое наверстают,— присоединился Битара- швили.
По этим коротким репликам, по первой реакции можно было определить, что настроение даже в нашем «особом» отряде было далеко не праздничным. Если уж бывшие партийные, советские работники, прокуроры, судьи, следователи и милиционеры, еще недавно с гордостью носившие партийные билеты, считавшие Октябрьскую революцию главным событием века, переполнены скептицизмом, то чего было ожидать от так называемых бытовиков, которым «родная» власть всегда являлась лишь в образе нелюбимой тещи...
И все-таки три свободных дня, несомненно, воспринимались как подарок судьбы. У каждого накопилось немало неотложных дел, выполнить которые в обычной лагерной круговерти просто не было времени и сил. Мне, к примеру, не давала покоя грязная одежда, полученная еще перед литейкой. На фоне своих нынешних соседей по отряду я выглядел, мягко говоря, далеко не лучшим образом. Телогрейка моя насквозь пропиталась йылью и мазутом, куртка и штаны напоминали наряд трубочиста или кочегара паровоза. Без преувеличения могу сказать, что моя спецодежда стояла на полу без всяких подпорок, и я мог влезать в нее, как в средневековые доспехи. И вот 6 ноября еще до подъема я поспешил в,прачечную, надеясь быть первым. (Дежурный по казарме лишь предупредил, чтобы я не опоздал на поверку.) Почему-то работала только одна моечная машина, так что пришлось ожидать, пока она выплюнет из своей пасти одежду пришедших еще раньше меня... Когда огромный агрегат проглотил мои телагу и робу, я рысцой бросился в баню. - Наскоро постирав нижнее белье и ополоснувшись под душем, в темпе вернулся в прачечную. Из распахнутого зева машины как раз вывалилась дымящаяся паром куча одежды. Отыскав свою, пробился к сушилке. Центрифуга, натужно гудя, набрала обороты. И вот я уже держу груду своей относительно чистой одежды. Она еще наполовину влажная, но это не беда — досохнет на улице: до выхода на работу целых три дня. Все также бегом спешу к казарме, развешиваю свои «наряды» на проволоке, протянутой между голыми деревьями, и к своей радости укладываюсь в заданный самому себе норматив — к перекличке я в строю. День начался вполне удачно, и это доставляет мне, хоть маленькое, но удовольствие. Поднимая себе настроение, достал еще ни разу не одеванную, «парадную», серую робу. Еле удерживая загрубевшими пальцами иголку с ниткой, пришил новую бирку со своей фамилией и номером отряда (оформид мой «паспорт» Николай Назаров, с которым я познакомился в больнице, а теперь встретился во втором отряде). Переодевшись в новый костюм, критически оглядел себя. Роба была свободной, висела, будто на колу, но ощущение, что она чистая, без запаха копоти и пота, с лихвой компенсировало внешнюю неприглядность. «Ладно, штроксовые тройки будем носить дома»,— утешил я себя.
Наверное, я произнес эту фразу вслух, потому что Битарашвили переспросил:
— Что ты, кацо, о доме сказал?
— Подумал, что на завтрак дадут? Может, праздничное меню сегодня будет?
— Сыт будешь культурной программой,— язвительно заметил Богов.— Там «меню» на любой вкус.— И он показал на разграфленный лист бумаги, вывешенный у выхода из спального помещения.
— Это называется: накормить соловья баснями,— прокомментировал я, пробегая глазами убористый текст.— Просмотр художественного фильма, литературная викторина, просмотр телепередач, шахматно-шашечный турнир, читательская конференция, концерт...
— Ты думаешь, что-нибудь из этой «простыни» будет организовано?.. Очередная показуха, как всюду. Врубят телик и кино весь день крутить будут... Зато галочку в отчете поставят и заместитель хозяина по воспитательной работе Клейменов, и наш отрядник Колчин... А мы будем лапу сосать.
Так оно и оказалось: кормежка абсолютно ничем не отличалась от обычной, в ленинской комнате гудел телевизор, в клубе весь день показывали «Лимузин цвета белой ночи».
Завтрак прошел нервозно. По столовой, будто молнии, летали злые реплики:
— Зажались, коммуняки! Даже на обычный салат не раскошелились!
— Сами, небось, спецпайки жрут...
— Халяву хочешь сорвать?.. Им самим мало...
— Какую еще халяву?.. У нас же выдирают за жрачку.
— Отбивную захотел с винцом кисленьким? Живешь в помойной яме, вот и хавай объедки...
— Правильно! Перевоспитывайся, становись на путь истинный... Помни, что ты за колючкой.
— Да, загнали нас Советы, законопатили в гроб. Семьдесят лет — и все время в тюрьме!
— Зато без всяких забот. И думают за тебя, и работу дают... И кормят...
— Баландой, гнильем...
— Я не про нас. Про страну всю, ту, что за зоной... Государство рабов.
— Поговори еще. Пяток лет добавят — и вообще отсюда не выйдешь.
— Выйдешь — не выйдешь... Какая разница? Я вот восемь лет оттрубил, думаешь, мне на воле легче будет?.. Загнусь сразу!
— Это точно! Вон из третьего отряда мужик десятку оттянул. Вышел за забор, на остановку поперся, на вокзал ехать. А тут и трамвай. Он, бедолага, забыл, что линии трамвайные в обе стороны идут. Вот и сунулся под встречный... Насмерть!
— Я, когда жена приехала, не знал, с какой стороны к ней подступиться...
— Меня попросил бы...
— Эксперимент на живых людях ставят. На выживание.
— Этому эксперименту уже семьдесят лет. Только что-то никто его повторять не хочет...
—г А Варшавский Договор?
— Против танков не попрешь...
— Но там же народная демократия...
— Брось ты! Любая революция — это насилие. О какой свободе, о какой демократии может идти речь!
— Поздно ты об этом вспомнил... Железный петух клюнул — вот и поумнел.
— Все мы тут одинаковые. Отверженные.
— Ладно, мужики, кончай сопли размазывать. Хотя праздник и коммуняки придумали, а все-таки повод выпить есть. Нам, татарам...
— Воды из-под крана!..
— Вернемся в казарму, поскребем по сусекам. Авось, что-нибудь да найдется. Голь на выдумки хитра.
— Пригласи меня!
— Неси сало — и подваливай!
— С салом я и сам с усам!
Завтрак закончен! — раздался голос дежурного по столовой...
Спасибо партии родной, что я голодный, но... живой! — подражая крикунам с трибуны мавзолея, закончил предпраздничную утреннюю трапезу какой-то остряк.
Голод мы заглушили вечером. У запасливого Кор- жуева нашелся маргарин, у меня — банка повидла, у Осипчука, немного отошедшего после неудачного свидания,— сало и чай; внес свой небольшой пай и Лукьяненко. Стол белорусского землячества выглядел, конечно, победнее кавказского, но мы особенно не унывали: главное, что собрались, поделились последним. А «прысма- ю» — дело второстепенное.
— Давайте договоримся, земляки,— раздобрев в своей компании, философствовал Коржуев.— Вырвемся отсюда все праздники будем встречать вместе. И без всяких там жен.
Почему это без жен? — запротестовал я, но тут же осекся, вспомнив, что у Осипчука семейные нелады, а с Лукьяненко на эту тему вообще не следует заводить разговоры. Чтобы замять неловкость, попробовал исправить положение: — Женщины украшают мужское общество. И приготовить умеют, и подать на стол.
Ладно, не выкручивайся. Знаем, что ты без своей благоверной ни на шаг...
Замнем для ясности,— прекратил тяжелую для него тему Лукьяненко.— Вот лучше посоветуйте, как мне из литейки вырваться. Концы скоро отдам.
— Это ты у Валеры спроси,— ответил Коржуев.— Он быстро эту проблему решил.
Хворобу тебе надо придумать, а потом получить ограничение на тяжелый труд.
— Легко сказать... Где эту хворобу я возьму? И кто мне поверит?
— Иди по моим следам. Жалуйся на почки. Симптомы я тебе распишу, как в медицинской энциклопедии. А с анализами надо похимичить... В санчасти шнырь знакомый завелся, должен помочь.
— А если залет?.. Сгноят по карцерам.
— Кто не рискует, тот не пьет шампанское,— повторил я свою любимую пословицу. И добавил: — Прорвемся, Толя, держи хвост пистолетом.
— Тебе легко говорить. И комиссия скоро, и вообще половинка срока позади. В любом случае — скоро дома.
— Не сглазь,— я постучал по табуретке.— Пути Господни неисповедимы, тем более здесь, на зоне.
— Везунчик ты,— подключился молчавший Осип- чук.— За полгода в люди выбился.
— Кончайте вы, мужики! — суеверно сплюнул я через плечо.— Накаркаете еще что-нибудь. Тут никак на комиссию не попаду, а вы завидовать начали. Еще пахать и пахать, как медному котелку.
— Мы ж не только про тебя думаем, про себя тоже. Выскочишь ты — нам поможешь.
— О чем речь?! Все наши договоры в силе, я друзей в беде не брошу!
— Вот за это и выпьем! — И Коржуев поднял кружку с густым чаем.— Са святам, дарапя сябры!
Глухой стук четырех «бокалов» скрепил наше братство.
...Три выходных промелькнули незаметно. И вот опять ранний подъем по звонку, недовольное ворчание соседей, обязательная, несмотря на мороз, физзарядка, не лезущий в горло завтрак, построение перед разводом на работу. Колючий сивер сбивает замерзших людей в кучи, и завхоз с нарядчиком никак не могут нас сосчитать, разбить побригадно. Как обычно, находится опоздавший, и на него обрушивается шквал проклятий. Начальство записывает виноватого в кондуит — жди наказания. Наконец-то серая масса движется к своим цехам.
— Может, заготовок нет? — загадывает Белозеров.— Не хочется сразу в хомут.
— Ты лишнего на пуп не возьмешь,— зло бросает ему кто-то из соседей.
— Что ты хочешь сказать? — заводится Белозеров.
— Перестаньте,— одергивает бригадир Бровин.—
Еще к работе не приступили, а уже грызетесь. Поберегите эмоции.
Эмоции и физическая сила действительно пригодились нам в эту первую послепраздничную смену. Глаза не хотели смотреть на опостылевшие детали, руки отказывались крутить гайки, раньше обычного начала ныть поясница. А мастер и особенно отрядник, явно страдавший после перепоя, все подгоняли:
— Пошевеливайтесь, мужики! План горит!
Норму, даже втянувшись в работу, не каждому под
силу выполнить, так как она намного завышена. Мы как-то прикинули, что на нашем добитом оборудовании ставим чуть ли не рекорды производительности — на воле всем следовало бы присвоить звание ударников коммунистического труда. Но в награду лишь слышали:
— Что сидишь, как сонная муха?! Давай-давай!..
И мы, стиснув зубы, давали план, проклиная судьбу и порядки, царящие в колонии. К концу смены весь запас энергии, накопленный за три выходных дня, был исчерпан до конца. У меня еле хватило сил убрать рабочее место, подмести пол. Даже Тулбу, обычно работавший без напряжения, выглядел крайне уставшим. А тут еще как назло задержка со съемом. Отрядник никак не мог сосчитать нас, путался, сортируя по бригадам. Эта канитель продолжалась больше часа, мы околели на продуваемой всеми ветрами площадке. Я, например, совсем не чувствовал ног — тонкие носки с портянками не хотели держать тепла в разношенных сапогах.
— Что, одубел?
— Твист разучиваю,— ответил я Осипчуку, продолжая приплясывать на месте.
— У меня носки теплые есть. Могу уступить.
— Махнем на перчатки?
— Годится. Подваливай к казарме.
Обмен не заладился: обещанные носки оказались старыми, выношенными до дыр и грязными. Тогда из загашника появились другие — новые, но не шерстяные.
— Пойдут?
Выбора не было — ноги дороже.
На этом неудачи дня не закончились. Не успел я пройти и нескольких метров, как чья-то рука грубо схватила меня за телогрейку.
— Тебе чего? — не понял я.
— Ты еще спрашиваешь, сучара?.. Сейчас я тебе объясню!..— И незнакомый зэк стал в угрожающую позу.
Рефлекс самозащиты сработал автоматически: захватив руки противника, я дернул его на себя и легонько двинул коленкой в промежность. Лицо его перекосилось от боли, он скрипнул зубами.
— Теперь остынь и объясни, что ты от меня хочешь,— стараясь сдержаться, как можно спокойнее проговорил я.
— Мотай отсюда, прокурорская рожа! — прохрипел он.
В глазах помутилось. Правая рука отпустила рукав чужой робы, пальцы сами сжались в кулак. Но тут же выстрелила мысль: «Скоро комиссия! Залечу — и оставь надежду».
— Ладно, живи, пока я добрый,— выдохнул я и быстро пошел по проходу между койками.
— Не появляйся здесь, кости переломаем,— раздалось еще несколько злобных голосов.
Не обращая внимания на оскорбления, завернул к себе в отсек. Лишь усевшись на койке, понял, что мне грозило. Не столь страшен был чей-нибудь удар — на него всегда можно ответить. Но как спрячешь от начальства возможный фингал, как объяснишь его происхождение? А если это провокация, вдруг у меня появились враги, кому-то я перешел дорогу, занял чужое место?.. И постоянный сигнал в мозгу: «Комиссия, комиссия, комиссия...» Ночь была не из приятных, я никак не мог понять, из-за чего возникла стычка.
Ситуация прояснилась назавтра. Утром в коридоре меня остановил вчерашний «агрессор».
— Есть базар, прокурор!
— Что надо? Добавить?..
— Не лезь в бутылку,— сбавил он тон.— Лучше скажи, ты к Витебским делам имеешь отношение?
— А тебе-то что? Допрос снимаешь?
— Не финти! Ты невинных мужиков за решетку загонял?
— Отчитываться не собираюсь!
— Значит, правду базарят. Запомни: те мужики не могут тебе отомстить, мы за них рассчитаемся.
— , Многое на себя берешь! Еще раз сунешься, по- другому говорить буду. У меня нервы не железные.
— Значит, ты так... Ладно, я к тебе на работе подойду, потолкуем,— закончил он с угрозой.
— Я не такой дурак, чтобы махать кулаками. Но предупреждаю: если кто полезет, отоварю на все сто! А вообще-то набирайся ума, не мальчик уже.— И я размеренным шагом пошел в столовую.
Возбуждение, которое я старался скрыть, видимо, не улеглось до конца, и Николай Ком, встретив меня по пути, спросил:
— Чего пыхтишь, как самовар?
— Мелочи зэковской жизни,— небрежно ответил я, не желая, чтобы о конфликте знали другие, даже земляк, тем более приближенный к администрации. «Береженого Бог бережет»,— эта мудрость в колонии была совсем не лишней. И перевел разговор в другое русло: — Ты мне скажи лучше: подавать заявление на комиссию теперь или подождать?
Ком помедлил, набивая себе цену, потом неопределенно произнес:
— Даже не знаю, что тебе посоветовать... Может, подождешь, пока твоя жена какие-нибудь концы найдет? Действовать надо наверняка.
— Я для гарантии решил в активисты податься. Правильный ход?
— Лишь бы на пользу пошло...
— Ты конкретнее!
— Понимаешь, козлов вообще-то не любят... Хотя здесь вся зона козлиная, так что наплюй и забудь.
— Никого я закладывать не собираюсь. Подежурю пару раз — и дело с концом. А чужой рот все равно не заткнешь.
— Да, я согласен. Вырываться отсюда надо любыми способами: через секцию, через больничку, через черта лысого!
— Ия так думаю. Только вот как лучше заяву на комиссию написать, чтобы солидно было, аргументированно, со ссылками на УК и УПК?
— Пиши попроще. Один черт, все в руках администрации. Как захочет хозяин, так и будет. А он неохотно людей отпускает. План ему никто не срезает, а народу мало. Каждые рабочие руки на учете. Так что комиссия — это рулетка: может повезти, а могут и прокинуть. Вот, к примеру, у тебя ограничение, а с ним, насколько я знаю, на поселуху и на химию редко отпускают. Там, мол, пахать надо, а ты справки всякие брать будешь...
— Логики никакой. Тут, значит, я вкалывать могу и должен, а за колючкой — нет...
— Повторяю: твою судьбу решает не какая-то логика, а хозяин, даже его настроение. Здесь зо-на, понял?
— Тогда, может, снять ограничение? Поеду на больничку, скажу, что здоров.
Земляк поморщился:
— Не паникуй, не бросайся из стороны в сторону. Я уже говорил о тебе с начальником ОТК, чтобы контролером взяли. А теперь что — отбой давать? Так не делают. И меня подведешь, и сам не солидно выглядеть будешь. Потерпи!
В рассуждениях Кома был смысл, но моя нетерпеливая натура требовала действия. В душе соглашаясь с ним, я все-таки продолжал гнуть свою линию:
— Заявление я напишу. Подскажи, как найти Дудинского, знаешь такого?
— Он-то тебе зачем? — насторожился Ком.
— Мы с ним в больничке лежали. Я знаю, что у него есть и Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Надо несколько абзацев в заявление вставить для убедительности.
— Для твоего же добра от Дудинского надо подальше держаться. Он на плохом счету здесь,— отрезвил меня Ком.
— А что случилось?
— В ШИЗО он сейчас. Отдыхает.
Я не поверил, переспросил:
— Как в ШИЗО? Мужик он серьезный, солидный. Не может быть!
— Не солидный он, а скандальный. Лезет не в свое дело, для каждой дырки затычка. Вот и загремел под фанфары.
— Конкретнее не можешь?
— Привезли в ларек сало, сметану... А Дудинский накатал жалобу, что продукты некачественные. Сами зэки его чуть не прибили! Первый раз такая отоварка свалилась с неба, а ему, видите ли, не понравилась. Не свежие, мол. Вот хозяин с помощью зэков и организовал ему пятнадцать суток камерной житухи. Чтобы не выступал, не выкаблучивался. Оттуда телегу не отправишь.
— Может, он прав?
— Запомни: тут, на зоне, всегда прав хозяин!
Наставления осторожного Кома не ложились мне на
душу, и вечером, после ужина, я отправился в самоволку — к Коржуеву. Его шестой отряд работал во вторую смену, а он, все еще числясь больным, коротал время за перелистыванием газет и журналов.
— Завидую! Хотя бы на два дня с тобой поменяться.
— Скоро я тебе завидовать буду. Вырвешься на волю.— Он не уставал повторять эту фразу при всех наших встречах, убеждая меня, что мое освобождение не за горами. Мне хотелось в это верить, но внутри постоянно жила тревога, что в последний момент передо мной опустится шлагбаум, и я навеки останусь за колючкой.
— Твоими устами да мед пить.
— Чай могу предложить. Хочешь?
— Успеем. Я к тебе с тем же вопросом: писать мне заяву на комиссию?
Коржуев ответил без запинки:
— Обязательно! Хуже не будет, а под лежачий камень и вода не течет, сам знаешь.
— Маловато я здесь пробыл, как бы не завернули,— высказал я старые опасения.
— Все равно просись на комиссию. Сам же говорил, что нарушений у тебя нет, срок подошел. По-моему, все складывается в твою пользу... А там, глядишь, и мне поможешь. Надо кое-что пронюхать, прозондировать почву.
— Что именно? Ты все ходы и выходы лучше меня знаешь.
Анатолий по привычке оглянулся, понизил голос:
— Расценки надо узнать.
Увидев в моих глазах вопрос, пояснил:
— Раньше существовала твердая такса: по одной тысяче за год... Что, опять не понимаешь? Салага... Ну, скажем, остается тебе сидеть два года. Ты отстегиваешь хозяину две тысячи, и тебя пропускают на комиссию.
— Ну и что? Суд ведь все решает.
— Суд — это формальность. Все точки над «Ь> расставляются в колонии, и ни один судья не пойдет против. Тут и придраться нельзя: администрация, тебя лучше знает, ты у нее постоянно на глазах.
— Фантазируешь, Толя! Чтобы здесь, на зоне, да еще на такой, как наша, давали взятки, освобождали за них досрочно?.. Быть не может!
— Наивный ты парень, Валера! Именно здесь, где собраны взяточники со всего Союза, на деньгах все и держится. У наших с тобой «коллег» запасы на всю жизнь остались, с конфискацией их осудили или без. Вот продолжают свои темные делишки. Никто до звонка не сидит.
— Ладно, согласен, их не переучишь, не переделаешь. Но чтобы администрация на это пошла?..
— Чудак-человек! А они, что из другого теста сделаны? Одна система, одни порядки. Думаешь, все эти отрядники, мастера, воспитатели, оперы из-за высокой идеи здесь лямку тянут?.. Они же всю жизнь на зоне проводят, даже больше нас!.. Надо же компенсировать неудобства.
— Пожалуй, ты прав...
— И не сомневайся! Сам уже знаешь, что должности, рабочие места продаются. Мелкая рыбешка — щукам, те — акулам... Так и подкармливаются: кто зачерпывает гущу, кто пожиже. Вот только мы нищие: ни дать не можем, ни взять,— закончил он анализ ситуации, сложившейся в колонии.
— Что-то плохое у тебя сегодня настроение,— осторожно заметил я.— Случилось что-нибудь?
— Где коротко, там и рвется,— еще больше помрачнел Анатолий.— Жена прислала на больничку перевод, а меня уже выписали. Деньги ушли назад, из спецчасти сейчас сообщили. Как будто сюда нельзя было переадресовать...
— Позже деньги тоже не помешают...
— Это полбеды. Со свиданием что-то у нее не получается. Неделя осталась, а я ничего толком не знаю. Кругом завал!
Вспомнив, что и у меня были недавно похожие неприятности, я спросил:
— Кто-нибудь из знакомых идет на свидание в эти дни?
— Есть один мужик, завтра у него встреча.
— Попроси, чтобы его жена дала телеграмму твоей.
— Вариант стоящий,— посветлел лицом Коржуев.— Только вот времени мало.
— Успеет,— заверил я и поинтересовался: — Жена с детьми приедет?
Земляк тяжело вздохнул, нехотя ответил:
— Если приедет, то одна. Младшая в школу ходит, у старшей — свои заботы.
— Никаких если,— перебил я.— Все будет в норме.
— В норме уже никогда не будет. Разбитое трудно склеить. Да и не от меня это зависит, я тебе говорил.
Чтобы отвлечь Анатолия от тяжелых мыслей, я попробовал переключить внимание на проблемы других наших земляков.
— Лукьян просит помощи.
— Знаю. Анализы какие-то надо сдать. Но без подогрева в санчасть и соваться нечего. А Толя, насколько я знаю, на голяке. Так что может не выгореть.
— Попытка’ — не пытка. Надо же его из литейки вытащить.
— Смотри, чтобы не пролетели. Там публика закормленная, за красивые глаза и пальцем не шевельнет. Знаю я их...
— Быть не может, чтобы не прорвались. Я санитару зубы заговаривать буду (знаю там одного старика, потрепаться любит), а Лукьян в это время делом займется.
— Дело ваше. Только осторожнее. Храни вас Бог,— неожиданно прозвучало на прощание.
Мало надеясь на удачу, мы с Лукьяненко все же отправились наутро в санчасть. У Анатолия уже была припасена бутылочка с мочой, куда он добавил несколько капель крови — он шел по моим следам. Старик-санитар понимающе посмотрел на нас и выделил Лукьяну пустую бутылочку. Тот немедля отправился в туалет, а я остался с нашим доброжелателем.
— Парень надежный? — тихонько спросил он.
— Земляк!
— Они всякие бывают...
— Железный мужик!
'— Мое дело — сторона. Анализы не я провожу, есть лаборантка, есть врач... Так что от меня мало зависит...
Возвращаясь из санчасти, Лукьяненко волновался:
— А вдруг прокол? Что меня ждет?
— Сдашь повторно. Если будет расхождение, придется еще раз... Но, скорее всего, обойдется. Почки здесь болят у многих, особенно после литейки. Должны поверить.
Анатолий немного успокоился, но затем вспомнил:
— Ты хоть симптомы какие-нибудь подскажи. А то занесет меня не в ту степь.
Пришлось познакомить его с анатомией.
— Почки находятся вот здесь,— легонько стукнул я его ребром ладони чуть выше поясницы: — Если врач сделает так же, кричи, что боль невыносимая, гримасничай. Острые приступы бывают, когда таскаешь тяжести или нагибаешься с грузом. Часто просыпаешься ночью от резкой боли, боишься пошевелиться, а если встанешь, сделаешь шаг, то боишься упасть, будто парализованный.
— И откуда у меня эта хвороба взялась?
— Скажи, что чуть ли ни с детства. Полежал когда-то на сырой земле, застудил. А затем тюрьма добавила, пересылки, литейка. В общем, у тебя хроническая болезнь почек, понял? Из урологии, когда был на воле, не вылезал...
— Усек. Запомнить только все надо, чтобы не перепутать.
— Если не хочешь опять вернуться в литейку, придется.
— Наизусть выучу, ночь буду зубрить!
— Утром проверю.
Отряды у нас были разные, смены разные, мы и так нарушали режим, самовольно, по сути дела, встретившись в санчасти. Поэтому и разошлись побыстрее, чтобы не попасть на глаза начальству.
В монотонный привычно-приглушенный гул казармы резко ворвались два пронзительных звонка.
— Кому не спится в ночь глухую?..
— Ни сна, ни отдыха измученной душе...
— Дергают, как марионеток...
— Отрядник со своей шмарой поругался...
— Я только робу думал зашить...
— Что там зашивать?.. Дыра на дыре.
— Подари новую.
— Гони чирик...
— Сейчас нарисую...
Ворчали, матерились, но все-таки натягивали ватники, зимние шапки — знали: сигнал во внеурочное время означает, что администрация придумала какое-то очередное мероприятие.
— Если на хозработы, двор мести, не пойду!..
— Политзанятия...
— Кино с голыми бабами привезли...
— Выходи строиться! — послышался голос завхоза.— Отрядник собрание проводит. Идем в ПТУ.
— Новый СКО выбирать будем,— сделал вид, что догадался, общественник Белозеров.
— А чем старые козлы не подходят?..
— Хрен редьки не слаще!..
— Дурят голову, отдохнуть не дают...
— Показуха!
— Тут у вас, ментов, и выборы проводить не надо,— подал голос затесавшийся бытовик.— Вам красная повязка — не западло.
— Полегче на поворотах. Что-то осмелел ты...
— Не пугай! Мы уже пуганые...
— Кончай базар! — подгонял завхоз.— Люди уже на улице мерзнут, а вы копаетесь, как сонные мухи. Закрою лопатку и возьму на карандаш опоздавших.
— Возьми лучше на...
— Поговори у меня!
Наконец толпа вывалила наружу. Ежась под пронизывающим ветром и снежными зарядами, пробирающими до костей, разбирались по четыре в ряд. Завхоз обходил серый прямоугольник, пересчитывал «головы».
— Не тяни резину, бугор! Скоро дуба дадим!
— Ты не дуба дашь, а гигнешься...
— Ноги протянешь...
— Окочуришься...
— Загнешься...
— Пошли! — донесся крик завхоза.
Втянув головы в плечи, прячась друг за друга, но все-таки соблюдая видимость какого-то строя, торопливо зашагали к училищу.
— Запевай! — раздался дурашливый голос.
— Сегодня мы не на параде, мы к коммунизму на пути,— тут же отозвался звонкий тенор.
— Рано пташечка запела,— прохрипел у меня за спиной простуженный бас.
Учебный класс, куда нас привели, через минуту стал напоминать приемный покой больницы в дни эпидемии гриппа. Кто громко сморкался, кто натужливо кашлял, кто вытирал обильный пот... Было тесно и душно; одни примостились по двое на табуретки, другие подпирали стены.
— Пора начинать...
— Где начальство?!
Появился и отрядник. Как ни старался он придать своему лицу солидность, как ни хмурил брови, как ни топорщил редкие смешные усы, на роль воспитателя взрослых людей, да еще таких, что собрались в нашем отряде, он явно не тянул. Не будь на нем формы внутренних войск и погонов старшего лейтенанта, отрядник вполне сошел бы за парикмахера или, в лучшем случае, за недоучившегося студента областного вуза. Пройдя к столу, он еще больше напыжился и, перекрывая шум, крикнул дискантом:
— Я же приказал взять табуретки,— тут его голос от натуги сорвался и он сипло закончил,— в соседнем классе.
— Петуха пустил...
— Не промочил горло...
— Эй, шестерки, водички гражданину начальнику...
— Пивка...
Краска залила лицо начальника отряда, но он сдержался и через паузу уже спокойнее продолжал:
— Если кто-то рассчитывает, что собрание быстро закончится, то глубоко ошибается. Так что можете стоять, дело ваше.
— Чего резину тянуть?..
— Каждый год одно и то же...
— Из пустого в порожнее...
— Кто там недоволен? — Старший лейтенант взял в руки карандаш и бумагу.— Здесь командую парадом я.
— Время теряем, гражданин начальник. Нам отдыхать надо...
— Ничего, ночь длинная, выспитесь...
— Чем недовольны? — послышался голос от двери, и к столу начал пробираться еще один старший лейтенант, такой же молодой, как и отрядник, даже напоминающий того внешне.
— Заместитель замполита...
— Шишка на ровном месте...
— Щенок, а корчит из себя...
Наш «духовный наставник», годящийся большинству если не в сыновья, то в младшие братья, не обращая внимания на злые реплики, занял место рядом с начальником отряда. Тот, видимо, помня о недавнем конфузе, вначале прокашлялся и громко, но без форсажа, объявил:
— Проведем сверку... Арутюнян?
— Есть!
— Арзамасцев?
,— Есть!
— Бегельман?
— Болен...
— Как болен?
— В санчасть ушел...
— Кто отпускал?! Выяснить! — последовал короткий приказ завхозу.
— Будет сделано...
Проверка закончилась. Пригрозив наказать отсутствующих, начальник отряда еще раз легонько опробовал голосбвые связки и объявил повестку дня собрания:
— Значит, так. Мы должны заслушать отчет старого совета коллектива отряда и избрать новый. Это, значит, первый вопрос. Второй — о подписке на газеты и журналы.
По первому вопросу я должен сказать, что совет коллектива отряда работал плохо. В отряде имеются факты нарушения режима содержания среди некоторых осужденных, выражающиеся в драках, в несоблюдении распорядка дня... Койки, значит, часто плохо заправлены, в подсобных помещениях бардак, отношения между осужденными не всегда правильные, нередко, значит, можно услышать мат-перемат. Имеются даже факты воровства казенного имущества и продуктов...
Косноязычие молодого офицера, сорное слово «значит», так и прущее из каждой фразы, напоминали о многочисленных собраниях, где приходилось бывать в прежней, свободной жизни. Та же серость, те же штампы, тот же, ниже нижнего предела уровень культуры. Если что и осталось в памяти из всего сказанного отряд- ником, то емкое понятие «бардак». В этом случае старший лейтенант оказался, сам того, пожалуй, не сознавая, довольно самокритичным...
— А теперь слово предоставляется председателю совета коллектива.
— Его вызвали в спецчасть...
Начальник отряда вновь растерялся, но тут ему на помощь пришел заместитель замполита:
— Тогда пусть кто-либо из председателей секций...
Желающих не оказалось. Активисты прятались за
спины соседей, понимая, что их вытаскивают на всеобщее посмешище. Собрание выходило из заданного русла. Отрядник решил поднажать:
— Председатель СПП, к столу!
— Я и с места могу,— неохотно поднялся с табуретки немолодой хмурый зэк с обветренным лицом.— Хотя, собственно, и говорить особенно не о чем. Ну, организовывали дежурства на промке, в жилзонах, в клубе, на лопатке. Ни одного не сорвали.
— Что-то у вас каждый день одни и те же лица на дежурствах? — показал свою осведомленность заместитель замполита, выйдя из состояния полудремы.
— А вы, гражданин начальник, попробуйте заманить людей в секцию! — обозлился «содокладчик».— Дежу- рим-то мы в свое личное время, часы эти от сна отрываем. Навкалываешься, после намерзнешься, недоспишь... Ходишь, как- пьяный...
— Откуда тебе знать, как пьяный ходит?.. Ты уже ведь пятый год сидишь? — послышалась ехидная реплика.
— Он краски нанюхается, зачем ему водяра,— подхватил другой хохмач.
— Кому-то в ШИЗО захотелось? — повысил голос отрядник.— Это я могу обеспечить. Там и поговорите про выпивку...— И кивнул председателю секции: — Продолжайте.
— Продолжай не продолжай, какая разница?! Не хотят люди в эту секцию идти. Тут невозможно сачкануть...
— Разъяснительную работу проводить надо, персонально с каждым,— нравоучительно заметил заместитель замполита.
— Вот вы и проводите, это ваша работа, а я такой же зэк, как и остальные. Скажу больше: я был лишь капитаном, а в отряде есть полковники, генералы, партийные и советские работники. И это их я должен агитировать, заинтересовать? Абсурд!
— Не забывайте, с кем вы говорите! — оборвал отрядник.— Перед вами представитель руководства колонии.
— Каков привет, таков и ответ!
— Прекратите!
— Ничего,— неожиданно миролюбиво сказал заместитель замполита.— Для пользы дела можно и поспорить. Только скажите мне, почему в таком высокосознательном отряде столько нарушений, почему нет порядка? Где корни зла?
— Вот это я точно знаю. Во всем виновата система, в частности, система содержания в ИТУ. Пашем, как проклятые: ни автоматизации, ни механизации. На заводах Демидова лучше было. А нормы как выросли? А где техника безопасности?
— Это не по теме...
— Как это не по теме?.. Вы же спрашиваете о причинах нарушений, не так ли?.. Так вот, приволакиваешься в казарму, отдохнуть надо, а разве это возможно? Человек на человеке сидит и человеком погоняет... Отсюда и конфликты, и скандалы...
— Бросьте заниматься демагогией!
— Нет уж, извините, какая же это демагогия?! Чем нас кормят в столовой? Кто хоть когда-нибудь встречал в бачке мясо? — повернулся он к аудитории. Публика молчала.— Вот видите — никто. А разве можно назвать рыбой ту тухлятину, какую нам подсовывают?.. И разве можно в наших робах работать?!
— Правильно! — загудел зал.— За скотов нас принимают... Дураками считают...
— Садитесь! — Начальник отряда потерял над собравшимися контроль и не знал, что предпринять. У заместителя замполита нервы оказались покрепче.
— Нормы выработки, расценки, нормы питания устанавливаем не мы со старшим лейтенантом. И даже не начальник колонии. Вы это знаете не хуже меня, так что реплики не по адресу. Сегодня надо оценить работу совета коллектива отряда. Вот об этом и давайте говорить...
Ответом были лишь то хмурые взгляды, то язвительные ухмылки, то демонстративно повернутые спину... Это была своего рода забастовка молчания, она с каждой минутой принимала все более вызывающую форму, и тогда отрядник пошел испытанным путем. Заглянув в список, он назвал первую попавшуюся на глаза фамилию:
— Айропетян!
— Слушаю вас! — незамедлительно поднялся коренастый армянин.
— Вас нет в списках общественников...
— Так точно!
— В чем причина? Участие в общественной жизни колонии — это свидетельство вашего желания исправиться...
. — Гражданин начальник! За сорок лет моей жизни
я кое-чему научился. Однажды сказал правду — получил десять лет...
— Если бы ты сказал правду, получил бы вышку,— проговорил кто-то позади него.
— Не перебивай. Тебя приглашали — ты не выступал... Так вот, однажды я высунулся и сейчас сижу на этом собрании. Лучше я буду просто выполнять то, что от меня требуется, и не больше. Распорядок я не нарушаю, работаю честно...
— Значит, моя хата с краю? — начальник пытался хоть как-то расшевелить аудиторию. Но он плохо знал Айропетяна и поэтому уже скоро раскаивался, что остановил свой выбор именно на этом говорливом зэке.
— Зачем с краю? Почему с краю? Вот послушайте... Еду я как-то по Москве. Смотрю: многоэтажный дом вместе с жильцами под землю ушел. Провалился, как в пещеру... ЧП да и только... Приезжаю к своему шефу, генералу, докладываю: «Беда в Москве, дом с людьми провалился!» А генерал внимательно посмотрел на меня и спрашивает: «Подполковник Айропетян, вы в какой службе работаете?» «В ОБХСС»,— отвечаю. «Теперь второй вопрос: вы что, в этом доме расхитителей искать будете?» В общем, намекнул мой начальник, чтобы я не брал на себя больше, чем положено... И я его совет выполняю, мне больше других не надо...
По учебному классу волнами прокатывались смешки, улыбки становились все более откровенными.
— Вы демагог! — уже резче повторил понравившееся слово заместитель замполита.
— Почему? Я нормальный советский человек, который должен знать свое место...
— Оставим дебаты... Вы можете оценить работу совета отряда?
— Конечно, могу. Я бы назвал ее удовлетворительной.
Веселье в классе грозило вылится в хохот. Оба офицера наконец-то поняли его. И приняли единственно правильное решение — улыбнулись сами. Начальник отряда бесшабашно махнул рукой, переждав шум, подытожил дискуссию:
— Значит, прения прекращаем. Приступаем к выборам нового состава СКО. У кого есть предложения?
Попросив разрешения, встал старший дневальный и, заглядывая в заранее приготовленную бумажку, скороговоркой прочитал несколько фамилий. Отрядник решил не упускать инициативу:
— Есть предложения голосовать списком... Согласны?
— Согласны... Конечно... Пора закругляться...
— А у меня самоотвод,— попытался возразить чей-то возмущенный голос.
— Сиди ты, не рыпайся! — зашикали на него со всех сторон.— Все равно знаем, что ты козел.
— Я протестую!
— Сразу видно, в прокуратуре служил, протесты подает.. Здесь, тебе не суд, молчи в тряпочку...
Проголосовали списком — всем хотелось скорее закончить эту тягомотину.
— А теперь из этого списка следует избрать председателя СКО,— вел собрание по наезженной дороге начальник отряда.— Мы предлагаем избрать осужденного Коробейникова.
— Подождите! Как можно? Я в отряде недавно, никого не знаю,— испуганно, глотая от волнения слова, заговорил-заторопился кандидат.— И меня никто не знает.
— Ничего, пару раз по физиономии схлопочешь, сразу познакомишься...
— Так дело не пойдет!.. Это насилие, принуждение!
— Не пойдет — так поедет...
— Я отказываюсь категорически. В совет отряда — еще куда ни шло, можно, но председателем — ни в коем случае.
— Коробейников! — повысил голос отрядник.— Вы, как мне кажется, забыли, кого представляют на комиссию по условно-досрочному освобождению...
Гражданин начальник! Поймите, я не против общественной работы. Но не хочу быть между двух огней. На председателя все шишки валятся. Вам не угодишь — взыскание, соседей обидишь — тоже неприятности.
и — Мне угождать не надо! — вскинулся старший лейтенант.— Ладно, ваше делю... Смотрите, чтобы не жалели потом...— Пометив что-то в лежавшем перед ним кондуите, обратился к отряду; — Значит, граждане осужденные, кого все-таки выберем?
— Рыжкова! — прозвучало от двери.— Деловой мужик, опытный...
Бывший полковник МВД Украины встал с места с неожиданной для его возраста прытью.
— Перестаньте ломать комедию!.. Гражданин начальник, вы же понимаете, что мою фамилию назвали, лишь бы побыстрее закончить собрание. Председателем надо избрать человека энергичного, помоложе, чем я. К тому же, у меня подходит время льгот. Я, надеюсь, их заслужил. Так что же — потом нового председателя избирать? — Говорил он аргументированно, тщательно подбирая слова, не заискивая ни перед начальством, ни перед коллегами по несчастью. Старожилы отряда рассказывали, что осудили Рыжкова якобы за взятку, а на самом деле он чем-то не угодил высшему руководству Украины, чуть ли не самому Щербицкому. И эта версия показалась мне достоверной.
— Я думаю,— продолжал Рыжков,— что наиболее подходящей будет кандидатура Белозерова. Он в прошлом партийный работник, так что организационную сторону дела знает хорошо. Да и вообще, как мне кажется, он мужик солидный...
— Это точно! Воду на нем возить можно,— послышалась дополнительная характеристика.
— Отказываюсь! — энергично запротестовал Белозеров.— Получается, что без меня меня женили. Нет моего согласия!
— Потянешь, ничего с тобой не сделается. Знаем, как ты в общественники рвался...
— Каждый сам за себя отвечает,— не сдавался новый кандидат.— Нечего силой в ярмо загонять.
Выборы превращались в нелепый фарс. Заместитель замполита решил прекратить затянувшееся представление.
— Главная задача решена — есть новый совет. А председателя можно выбрать на заседании совета. Так что прекращаем ненужный базар.
— Давно бы так, а то гоняем ветер...
— Нам, татарам...
— Без разницы, какой козел закладывать будет...
— Все! — постучал по столу карандашом политработник.— Теперь разберемся с подпиской. В этом вопросе у меня к вам особых претензий нет. Другим отрядам в пример поставить можно... Если бы не одно «но»... Крайне низок уровень подписки на нашу газету «Трудовое знамя», хотя она самая дешевая и доступная.
— На кой хрен нам эта сплетница?..
— Там читать нечего: все тишь, гладь да Божья благодать...
— С ней только на толчок пойти можно...
— Прекратить балаган! Я еще раз говорю; всем надо подписаться на нашу газету,— старший лейтенант повысил голос.
— Пусть правду пишет...
— На зонах беспредел, а в газете об этом ни слова...
— Мерзнем, дохнем с голоду, вкалываем, как негры... Кто об этом написал?!
— Тише! — опять чуть не сорвал голос отрядник.— Значит, разъясню; отказ от подписки на «Трудовое знамя» будет означать, что вы не стали на путь исправления. В аттестации я так и укажу.
Все ясно. Старый принцип; добровольно-принудительная подписка. Нас уже из партии исключили, не испугаешь...
— Я не пугаю, я предупреждаю,— начальник явно не знал, как совладать с отрядом. И снова ему на выручку пришел заместитель замполита.
— Подписка, конечно, дело добровольное. Но вы должны поддержать издание, которое рассказывает о вашей жизни, о ваших проблемах. Можете стать нештатными авторами газеты...
— О каких проблемах вы говорите, гражданин начальник? — раздался голос из первого ряда.— Кто- нибудь из редакции побывал у нас в цехе, в казарме? Нашу баланду пробовал?..
— Встать! Вы что, не знаете инструкции? — от- рядник потерял над собой контроль.
— Осужденный Кирчук,— поднялся с табуретки рослый зэк.— Вы все-таки ответьте на мой вопрос, гражданин начальник.
— Вопрос не по существу. Но я с вами поговорю индивидуально,— в голосе старшего лейтенанта появились угрожающие нотки.— Садитесь.
Молодые начальники уже не рады были, что завели разговор о подписке. Они перешептывались, растерянно поглядывали на вздыбившуюся аудиторию.
— Прошу слова! — поднял руку еще один оратор и доложил: — Осужденный Зайцев.
— Что у вас? Только давайте по теме. А то развели анархию... Кричите, человеческий облик потеряли...
— Вот вы, гражданин начальник, агитируете за вашу газету,— Зайцев сделал ударение на слове «вашу»,— говорите, что в ней много интересного. Но мы хотим читать и другие издания, на которые, как вы заметили, мы подписались довольно активно.
— Давайте, Зайцев, покороче.
— Можно и покороче. Дело в том, что мы регулярно недополучаем и газеты, и журналы. Правильно я говорю, мужики?
— Правильно!.. У меня несколько номеров «Огонька» пропало...
— У меня «Смены»...
— «Юность» не приносят...
— Только «Правду» и «Коммунист» без задержки дают...
— Этот вопрос не в нашей компетенции,— политработник почувствовал себя совсем неуютно. Он расстегнул пуговицы шинели, снял шарф, нервно дернул шеей.— Почта нам не подчиняется, она находится в ведении Министерства связи.
— Мы это знаем. Но подписку проводите вы...
— Отеделение связи очень загружено, не успевает обрабатывать корреспонденцию...
— А причему здесь мы? Денежки-то отданы, уплачены; кто-то премии за перевыполнение плана получил, благодарности.
— Зайцев, думайте, о чем вы говорите!
— Согласен, почта вам не подчиняется. А телевизор исправить кто должен?.. Почти не пашет. Что, на темный экран смотреть?..
— Ив библиотеку не попасть... Работает, когда вздумается... Казарма на замке, не сходишь за книгой.
— Звери в зоопарке лучше живут. Их хоть там мясом кормят и на работу не гоняют...
— Семьдесят лет при советской власти живем, называется. Вкалываем стадом, жрем стадом, спим стадом... Каменный век!
— Вы советскую власть не трогайте! — взвизгнул отрядник и повторно сорвал голос.— Она вам дала все: образование, работу, положение в обществе.
— И место в зоне,— пробасил кто-то из дальнего угла.
— Да, и место в колонии, потому что вы замахнулись на основы советского общества.
— Ну, прямо-таки Вышинский...
— ...И здесь государство кормит вас, хотя вы опорочили не только себя, но весь наш советский строй...
— Его опорочить нельзя... Сам себя...
— Прекратить!.. Чуть что — проситесь в больницу, льготы требуете...
— И выходим отсюда калеками...
Багровый от натуги отрядник попробовал произнести еще несколько набивших оскомину стереотипных заклинаний, но голосовые связки отказали совсем.
— Собрание окончено,— произнес заместитель замполита. Мальчишеское лицо стало жестким, глаза цепко и настороженно глядели на разгоряченных зэков. Противников среди них у него было много. И он, видимо, сознавал, что они сильнее его.
А отряд, выплеснув эмоции, кое-как построился и под снежнрй шрапнелью потопал в опостылевшую казарму. Дописывать неоконченные письма, читать старые журналы, штопать дыры на носках, латать робы... Продолжать быть зэками.
Утром на перекличке завхоз предупредил:
— Сороко, тебя вызывают в спецчасть. Будь к 17.00 в клубе.
Вялость и сонливость как рукой сняло. Мозг стал лихорадочно просчитывать версии: «Рассмотрен протест прокуратуры на приговор?.. Может быть два исхода. Нет, три!.. А почему не четыре?.. Так, спокойно, Валера. Лучший вариант, конечно,— это отмена приговора. Но шансов мало — Прокуратура Союза и Прошкин не допустят этого. Кому охота расписываться в собственной вине, в подлоге?.. Тогда — уменьшение срока? Дай-то Бог!.. Хотя бы год скостили... В-третьих, дело отправлено на новое рассмотрение... Тоже неплохо... А добавить не могут?.. Нет, по закону не имеют права... Значит, хуже не станет, это факт. А вот легче... Будем надеяться, будем надеяться, Валерий Илларионович!..»
В приподнято-возбужденном состоянии провел всю смену. Механически упаковывал вентили, заколачивал ящики, таскал их, не замечая тяжести, к лифту. И после съема, предупредив дневального, сразу побежал в клуб. В маленькой комнатке, где разместилась миловидная девушка из спецчасти, уже толпилось около десяти человек. «Ничего, это не очередь,— успокоил я себя.— Минут двадцать-тридцать — и на моей улице праздник. Ждал дольше...»
— Привет несчастным узникам! — громко раздалось от двери.
Все повернулись к вошедшему, и я узнал земляка Тарасова.
— Земеле персонально! — пожал он мне руку и начал бесцеремонно проталкиваться к столу.
— Куда ты поперед батьки? — затормозил его продвижение нарядчик, дежуривший в спецчасти и отмечавший, кому какая бумага пришла, кого с ней следует ознакомить.
— Ты что, Тарасова не знаешь? Да я уже тут прописался... И ответ заранее знаю...
— Чего ж тогда бумагу переводишь?
— Это мое дело. Не тебе пишу, не ты мне отвечаешь.
— Вот это вам.— Работница спецчасти протянула отпечатанный на фирменном бланке ответ.
— Можно и не смотреть,— наигранно-безразлично сказал Тарасов, но внимательно прочитал коротенький текст.— Так я и знал,— возмутился он.— Какой-то старый хрыч даже и не смотрел мое дело. Очередная отписка. Ничего, я их допеку.
— Три года допекаешь. Сотни жалоб отправил, а толку никакого,— уколол нарядчик.
— Надо будет — тысячи телег накатаю. Я им спокойно жить не дам. Никуда не денутся, реабилитируют.
— Вся спецчасть только на тебя и работает, завалил их бумагами,— не унимался нарядчик.
— А чего ты за них переживаешь? Такой у них хлеб. Вот девушка не жалуется, правда? — переключил Тарасов внимание на работницу спецчасти.
— Лучше скажите, Тарасов,— перебила его та,— вас Жарков, начальник колонии, вызывал?
— Был я на ковре... Хозяин добивался, почему я на отрядника жалуюсь. А что, я незаконный выговор прощать буду? Не на того попал, я это дело так не оставлю.
— Заслужил, значит...
— Не знаешь, так помолчи. Без сопливых обойдемся... Это же надо — влепили выговор за то, что я будто бы спал у станка... Да там мертвый из гроба подымется, а я пока еще живой человек.
— Да, это заметно,— улыбнулась девушка.
— Во всяком случае, здесь помирать не собираюсь. Подключил матушку свою. Она уже в Президиуме Верховного Совета Союза побывала. Теперь в ООН написала, просит убежища от беззакония, требует меня освободить.
— Бумага все стерпит...
— Не скажи. Прокуратура СССР уже затребовала мое дело для изучения. Зашевелились, забегали, крысы. Отменят приговор, я с них не слезу.
— Нереально все это,— перебил Тарасова бывший районный судья, также ожидавший ответа из Москвы.— Представляешь, в Верховный суд приходят тысячи жалоб, писем, прошений. Только вскрыть конверты и то сколько времени надо. А прочитать, изучить, затребовать дополнительные материалы... Кому нужна эта дополнительная нагрузка? Вот и штампуют однотипные ответы...
— Что, сам таким был?
— Не сравнивай район со всем Советским Союзом... Но и у меня всякое бывало, чего греха таить... Могу только добавить: сейчас идет новая волна реабилитации жертв сталинских репрессий. А это миллионы дел... Кто л|е до твоего доберется? Когда очередь придет? Ты подумал?
— А на хрена со старыми делами возиться? Мертвых уже не поднимешь, надо про нас, живых, думать. Пудрят мозги злодействами Сталина, Ежова, Берии, как будто бы что сегодня изменилось. Все знаем, что в СИЗО зэка кормят на тридцать копеек в день, на зоне — на пятьдесят шесть. И рубль, к тому же, обесценивается. Заживо на тот свет загоняют.
— Не мешайте, Тарасов, работать,— оборвала инспектор спецчасти.— Вы свободны.
— Выпишите пропуск на волю, я согласен!
— Идите, идите. И без вас голова трещит.
— Мне бы ваши заботы.— Тарасов хотел продолжить «выступление», но встретил строгий взгляд девушки и осекся. Он понял, что переигрывать нельзя. Обращаясь ко мне, негромко сказал: — Подожду тебя, есть базар.
Мои пальцы чуть подрагивали, когда брал из рук инспектора небольшой листок на бланке Верховного суда СССР. «...Ваша жалоба направлена в Верховный суд Латвийской ССР..»— «Идиотизм. Пишу, молю, убеждаю, доказываю, аргументирую, что латвийский суд «задавлен» Прокуратурой СССР, а меня отправляют на съедение тем, кто меня уже прожевал и выплюнул».
— Динамиту бы пару тонн под все советское правосудие,— не сдержавшись, зло проговорил я.
— Не повторяйте Тарасова,— предупредила работник спецчасти.— Лучше познакомьтесь с еще одним документом. Из Верховного суда Латвии. Определение.
Поспешно листая страницы, добрался до последней. И — будто удар тока: «...приговор оставить в силе». «Все. Уперся в глухую стену. Тупик. Бездонное болото. Трясина. Сеть паука Прошкина». Выждав, пока в висках и затылке утихнет тупая боль, попросил инспектора:
— Разрешите мне взять определение с собой... Мне надо с ним поработать...
— Не могу. Прислали только один экземпляр, он пойдет в ваше личное дело.— Увидев мое неподдельное разочарование, добавила: — Хотя в сопроводительном письме говорится о двух экземплярах.
— Значит, это мой, а для личного дела забыли вложить. Вы сделайте запрос, вам обязательно вышлют. Будьте так добры,— воспользовался я благоприятным моментом.
— Не положено вообще-то.
— Давайте я дам расписку, что определение у меня. Никуда же оно не денется. Пойдите навстречу.
— Что с вами сделаешь, ладно,— уже, наверное, ругая себя за минутную слабость, неохотно согласилась инспектор.
— Век не забуду,— искренне поблагодарил я и вслед
за ожидавшим меня Тарасовым быстро покинул комнату.
Правду говоря, больше всего мне хотелось побыть одному, осмыслить прочитанное в определении, разобраться в своих чувствах, просто отойти от шока. Шумный и настырный земляк был лишним в такой ситуации, делиться с ним своими бедами не хотелось, искать сочувствия — тоже. Но отделаться от него было не так просто.
— Что за талмуд получил? — сразу же спросил он, пытаясь взять у меня бумаги.
— Определение латвийского суда. Рассматривали протест,— неохотно ответил я.
— Скостили что-нибудь?
— Держи карман шире... Хорошо еще, что на доследование не отправили дело. А то бы снова пересылки, изоляторы... Сыт я этим добром по горло — двадцать месяцев по камерам ошивался.
— И мне везде от ворот поворот — необычно тихо, с каким-то надрывом, сказал Тарасов.— Бьюсь, как рыба об лед...
— Но ты же в спецчасти шумел, что нашел концы.
— Это я для понта, чтобы шорох навести. Одна надежда на матушку...
— Она, что на самом деле в ООН написала?
— А что делать, если другого выхода нет? Куда ни сунешься, кругом «от винта». Вот и решили мы, что надо переквалифицироваться в диссиденты.
— Кто вам поверит?..
— Поверят, не поверят — это пятое дело. Главное, чтобы внимание обратили. А то ведь ни одна сволочь (я уверен) мои жалобы и письма не читает. Отпихивают, отфутболивают.
— И у меня такая же история...
— Но я им не поддамся! — Тарасов сжал кулаки.— И ты мне поможешь. Надо обмозговать один вариант... Ты согласен?..
— Давай попозже. Мне со своими делами управиться надо. У тебя же не горит?..
— Пока потерплю, но тянуть резину не будем...
Пора было расставаться с земляком, но я вдруг вспомнил рассказ о ЧП, произошедшем с ним.
— Неужели ты и вправду заснул за станком?
— Если по-честному, то — да. Только хрен кто докажет. А я приспособился так: прихожу на работу, затыкаю ватой уши, натягиваю на голову шапку-ушанку, наверх еще специальные глушители и кимарю потихоньку. Станок грохочет вхолостую, а мне до лампочки... Начальник отряда заловил, а я на него попер: попробуй, базарю, ты тут заснуть... У меня, кричу, голова закружилась от недоедания, вот и прислонился к стене на секунду. Все равно, сука, выговор влепил. Но я его сниму, мне это проще пареной репы. Завалю жалобами — не рад будет, что связался...
Он готов был и дальше рассказывать о своих методах борьбы с администрацией, но я вовремя остановил его:
— Мне пора в отряд... Заходи...
— Обязательно.
Опостылевшая казарма встретила монотонным шумом. Спертый кисловатый воздух заставил закашляться: испарения от сотни немытых тел и промасленной сырой одежды, стойкий запах дешевого табака — все это создавало специфический «букет», свойственный только тюремному и лагерному общежитию. Он проникал в каждую пору, в каждую клетку, оседал в легких, входил, казалось, составной частью в кровь. Недаром практически у каждого заключенного врачи констатировали недостаток гемоглобина — его сжирала удушливая атмосфера как в переносном, так и в прямом смысле этого слова. До предела раздражала невозможность уединиться: собратья по несчастью толклись в ленкомнате, в раздевалке, в умывальнике, постоянно был занят туалет (расстройство желудка — обычное явление). Проходы между койками напоминали общие вагоны переполненного поезда: тебя кто-то толкал, ты цеплялся за чьи-то ноги, кому-то взгромоздили на спину или голову мешок с вещами. И вот в таком бедламе проходило «свободное» время, когда и отдохнуть надо, и сосредоточиться, и написать письмо или жалобу...
Протиснувшись к своей койке, устало опустился на нее. Несколько минут сидел с закрытыми глазами, настраивая себя на рабочий лад — надо было детально изучить определение Верховного суда Латвии. Потом закрыл уши руками и углубился в чтение. И чем меньше оставалось страниц, тем определеннее складывалось мнение: никто дело повторно не изучал. Практически каждый абзац переписан из приговора, даже формулировки не удосужились изменить... Перечитал заключительное «...приговор оставить в силе» и вновь закрыл глаза. Особой злости на судей не было: Прошкин с компанией собирали на меня грязь почти год, полгода шел процесс, накручено аж тридцать томов. Чтобы раскрутить все в обратную сторону, надо оставить все текущие дела и заниматься только мной. Даже если анализировать один том в день, и то целый месяц понадобится... А так соблюли формальность: протест внесен, вроде бы рассмотрен, отклонен. Все, как положено, правила игры не нарушены... А что какой-то Сороко из Белорусской транспортной прокуратуры безвинно гниет на зоне — это уж его трудности. Пусть не дует против ветра, не высовывается. И не таким рога обламывали, как сказал Прошкин...
Фамилия моего врага не выходила из головы, в поисках пути из тупика я то и дело наталкивался на забор, за которым виднелась его сытая самодовольная физиономия. Он, казалось, презрительно ухмылялся и издевательски спрашивал: «Так кто был прав? Я же говорил тебе, что будешь сидеть от звонка до звонка. Против силы не попрешь».
Пришлось признаться самому себе, что этот первый раунд после приговора Прошкин выиграл. Оказалось, что он лучше знает, на какие кнопки или пружины нажать, чтобы черное считалось белым. А точнее — ни на что даже нажимать не надо, просто надо встретиться у одной кормушки, где отоваривается и Прокуратура, и Верховный суд. И после, набив карманы и сытно отрыгнув, вскользь сказать несколько слов... Ворон ворону глаз не выклюет — это уж точно.
Про существование такой аксиомы, составляющей суть совесткого правосудия, мне не раз говорили более опытные коллеги, да и сам я был далеко не зеленым юнцом. Однако где-то в глубине души жила надежда, наивная вера в «старого, справедливого болыневика- партийца», верного самым высоким идеалам. Я даже видел во сне, как он открывает конверт с моей жалобой, достает из нагрудного кармана очки на железных дужках, аккуратно протирает их стекла носовым платком, водружает на орлиный нос, распрямляет первую страницу и начинает вдумчиво читать... Уже через полчаса в его кабинете приоткрывается дверь, и, согнувшись в трц погибели, уменьшившись в росте, к столу приближается Прошкин. Следом за ним, потеряв внешний лоск, на полусогнутых входит Кабанов... «Мы виноваты. Простите нас»,— лепечут они. А он, неподкупный ленинец, даже не смотрит в их сторону... Еще через день в Тагил приходит телеграмма, и сам начальник колонии Жарков приносит мне извинения за причиненные неудобства. И вот я уже дома, в Минске, обнимаю жену и дочку, здороваюсь с друзьями, восстанавливаюсь на работе... Прошкин, разжалованный и справедливо наказанный, идет по этапу.
Действительность оказалась жестче и по-советски прозаичнее. В цене не честь человека, а честь служебного мундира; соблюдение закона не столь важно, как умение обойти его; отчаянные призывы к справедливости подобны гласу вопиющего в пустыне... Мои гонители прямо-таки подталкивали меня идти в обход, учили пользоваться неправедными методами. И в ту бессонную ноябрьскую ночь я решил изменить тактику борьбы... Никаких официальных жалоб, никаких запросов, никаких письменных просьб. Осталась надежда на жену, на друзей и знакомых. Надо просить Людмилу, чтобы добивалась личного приема у первых лиц государства и республики, надо использовать все доступные (на свободе разберусь и рассчитаюсь) средства, чтобы разорвать порочный круг. Цель оправдывает средства!
С появлением определенности (даже с отрицательным знаком) существование мое в колонии для БС упорядочилось. Вернее, я сам перестал бросаться из крайности в крайность: надо было, даже помимо воли, как-то примирить в себе полное неприятие зоны как таковой с элементарной необходимостью физически выжить. Притирался к старожилам отряда, потихоньку уходило недоверие и ко мне. Зона настороженно принимает каждого новичка — вдруг подсадка, шестерка, козел — и быстро выносит свой приговор. Меня, хотя и не сразу, признали за своего. Возможно, потому, что народ в отряде был куда как больше опытный: почти все постарше возрастом и, главное, не раз просеивавшие сквозь партийно-советское сито сотни и тысячи людей. При всей их зацикленности на ложной идее они были неплохими психологами и довольно точно вычисляли сущность людей. Насколько я понял в Тагиле и понимаю сейчас, бывшие сов- и партбонзы, высшие милицейские чины определили меня как «простого парня, нечаянно попавшего под горячую руку начальства». Оспаривать такую характеристику не было резона: репутация невинно пострадавшего была близка к истине. К тому же это «общественное» мнение через активистов колонии непременно достигало ушей администрации, где-то фиксировалось, регистрировалось. Так что система в данном случае работала на меня. Я не признавал себя виновным на следствии, не согласился с обвинительным приговором, неоднократно обжаловал решение суда, «стрелочником» считают меня и сотоварищи по отряду и казарме. Логическая цепочка вполне убедительна: на протяжении трех лет нигде нет разрыва, ни одно показание не противоречит другому, в приватных разговорах также не всплывает никаких доказательств приписанной мне вины. «А вдруг и действительно оказался крайним, по злому умыслу или случаю попал под очередную кампанию и теперь отвечает за чужие грехи?» — могли подумать вершители моей судьбы. Даже такое мимолетное сомнение значило многое; я продолжал, как ни странно, верить, что есть «грозный судья», что он «неподкупен звону злата», что все махинации Прошкина, так очевидные мне, выплывут наружу, и он, наворочавший кучи дерьма, пошедший сознательно на преступление ради карьеры, наконец-то ответит перед высоким правосудием.
Это не сегодняшние, послесобытайные размышления и рассуждения. Именно так я думал тогда в Тагиле. Судьбе было угодно, чтобы мой путь пересекся с кривой дорожкой Прошкина. Эта кривая вывела наверх следователя по особо важным делам Прокуратуры СССР, а мне, зональному прокурору Белорусской транспортной прокуратуры, была уготована доля зэка. Так что наше противостояние продолжалось; смириться с поражением, с беззаконием означало потерять себя как человека. А именно этого я не мог позволить себе. Ради покойного отца-фронтовика, ради матери, давшей мне жизнь и учившей меня правде, ради продолжавших верить в мою правоту и честность жены и дочери.
В колонии каждый человек на виду; зона будто действующий постоянно аппарат рентгена, причем невидимые лучи-взгляды просвечивают тебя под разными углами, с самых невероятных точек, ты предстаешь в самых неожиданных ракурсах. После такого пристального объемного исследования «консилиум» старожилов определяет «диагноз», и изменить его, внести даже незначительные поправки практически невозможно на всем протяжении лагерной жизни. «...Приговор окончательный и обжалованию не подлежит!» Находясь под двойным колпаком — административным и зэковским (какой из них надежнее, сказать не решусь), волей-неволей начинаешь жить по законам этой замкнутой среды. И зачастую трудно определить, какую инструкцию выполняешь: то ли 'утвержденную МВД, то ли принятую на тайном сходняке. Разница лишь в том, что неписанные законы не изменяются в угоду конъюнктуре, а официальное правосудие нередко с готовностью выполняет роль флюгера. Неизвестные широкой публике подзаконные акты, поправки, дополнения, уточнения, разъяснения настолько перелицовывают основополагающий документ, что он начинает противоречить сам себе. Впрочем, так живут по обе стороны колючей проволоки. «Закон что дышло...»
Зацепило это дышло и меня. Неоднократно и внимательно изучив кодекс, я знал, был твердо уверен, что имею право рассчитывать на условно-досрочное освобождение после отбытия половины назначенного мне срока. Поэтому и стремился попасть на комиссию, определявшую, заслуживаю ли я этой льготы. Заявление было написано, нарушений режима за мной не числилось, время поджимало, но никто никуда меня не вызывал. «Стучащему да отворят»,— вспомнил я древнюю мудрость и отправился к начальнику отряда.
Старший лейтенант страдал после перепоя. Мутные глаза с красными прожилками, потные руки, которые он то и дело вытирал скомканным носовым платком, расстегнутый китель — все это резко контрастировало с обычно аккуратным, даже щеголеватым внешним видом молодого офицера. Лечился отрядник крепким чаем. Когда он подносил горячий стакан к губам, рука чуть подрагивала; отхлебнув маленький глоток, начальник морщился, будто от уксусной кислоты... Все эти детали были видны сразу, и старший лейтенант прочел в моих глазах если не сочувствие, то понимание.
— Устаю очень,— чуть ли не оправдываясь, скороговоркой произнес он и отставил стакан в сторону. От горячего чая ему стало жарко, он снял китель, повесил его на спинку стула. На форменной рубашке под мышками отчетливо проявились полукружья пота. Облизнув пересохшие губы, спросил: — Значит, что у вас?
— Я по поводу комиссии, гражданин начальник.
— Комиссия, комиссия...— отрядник, собираясь с мыслями, привычно выщелкнул из пачки сигарету, зажег спичку о плоскость какого-то полудрагоценного камня, закурил.— Значит, комиссия.— Он потихоньку возвращался к служебным обязанностям.
— Да, комиссия по условно-досрочному освобождению. Я подал заявление.
— У нас уже, по-моему, был разговор...
— Так точно, был. Я хочу доложить, что уже пришел денежный перевод от жены, так что задолженность по иску погашу хоть сегодня, я торопился выложить все свои аргументы.— Пришли гарантия на мое трудоустройство и ходатайство одного из коллективов Белорусской железной дороги о моем досрочном освобождении. Меня берут на поруки. Со дня на день придет справка о согласии на прописку... Так что все Документы в порядке. Нужна только ваша помощь.
Вот вы говорите, что все документы в порядке,— потер лоб отрядник,— А вот самый главный документ — кодекс — против вас.
— Как это? Я отбыл половину срока. Арестовали меня 28 октября 1986 года. Как раз два года позади.
— У вас льготы наступают не после половины, а после двух третей или трех четвертей...
— Не может быть!
— Осужденный Сороко, вы живете по хрущевским законам, а сегодня другие времена. Есть Указ Президиума Верховного Совета СССР «О внесении изменений и дополнений в основы уголовного и исправительно-трудового законодательства», подписанный Михаилом Сергеевичем Горбачевым... Значит, этим Указом наступление льгот отодвинуто...
— Какая же это гуманизация и демократизация? — возмутился я.— И это социализм с человеческим лицом?!
— Давайте не будем обобщать...
— Я могу посмотреть этот Указ?
— Попробую найти.— Отрядник долго копался в канцелярском шкафу, листая толстые папки. Наконец протянул мне несколько потрепанных листков.
Через минуту я воочию убедился, что наше законодательство движется в сторону ужесточения наказания. Рассчитывать на льготы я мог лишь после двух третей срока...
— Ну, как, убедились? — старший лейтенант, пока я читал, допил остывший чай, выкурил сигарету. Лицо его немного рззглэдилось, глэзэ стебли смотреть осмысленнее.
— Да, гайки закручиваются...
— Мы же договорились не обобщать,— поморщился отрядник.— Значит, вы арестованы в октябре 1986-го?.. Сейчас подсчитаем...— На листке бумаги он произвел несложные расчеты и объявил: — Мы можем представить вас на УДО 28 июня 1989 года. Значит, через полгода с небольшим. Ждите, честно работайте, а там посмотрим...
— Гражданин начальник, но есть же другие варианты: стройки народного хозяйства, поселение,— не сдавался я.— На это я давно имею право.
— Разве? Я что-то не помню...
— Это я знаю точно! Мне «химия» уже давно положена!
— Что ж, я не против... Где-то весной, в марте, представим на комиссию.— Отряднику явно хотелось побыстрее отделаться от настырного просителя, меня же далекий март никак не устраивал.
— А разве раньше комиссии не будет?
— На ту, которая раньше, списки давно поданы. Вас, насколько я знаю, в них нет. Очередь, значит...
— Мне «химия» положена уже скоро год!..
— Сороко, вы у нас новичок... Как я могу дать вам положительную характеристику? Откуда я знаю, встали вы на путь исправления или нет? — Начальник начал раздражаться и перешел на сугубо официальный тон. Я же хотел получить хоть какие-либо гарантии, выжать из визита к отряднику все, что в моих силах.
— Гражданин начальник, ведь мою судьбу будете решать не вы, а комиссия. Личное дело у меня в порядке.
— У кого оно в порядке, к нам не попадают,— осадил он меня.— Это во-первых. А во-вторых, значит, не забывайте, что характеристику пишу именно я. Так что помните, осужденный, с кем вы разговариваете.
— Виноват, гражданин начальник. Но у меня в самом деле давно подошло время льгот...
— Не только у вас.— Старший лейтенант хлопнул ладонью по стопке личных дел, лежавших на столе.— Чем вы лучше других?.. В самом деле, вы у нас без году неделя...
— Четыре месяца!..
— Всего четыре. Так что придется подождать.
— Абяцаша-цацанкц а дурню радасць,— вырвалось у меня по-белорусски.— Так и до конца срока можно ожидать.
— Кто это у вас дурак? — вскинулся отрядник.
— Это у нас, белорусов,пословица такая народная. Примерно то же, что «обещанного три года ждут»...
— Вам меньше осталось...
— Тут день годом кажется. Помогите, гражданин начальник,— с надрывом в голосе вновь попросил я.— Одна надежда на вас.— И пошел ва-банк: — Может, и я вам когда-нибудь пригожусь, не век же мне здесь сидеть.
Прозрачно намекая на пока абстрактную услугу, я вступал на лезвие ножа: отрядник мог просто выгнать меня из кабинета, мог написать в рапорте администрации колонии, что я предлагал ему взятку. Но старожилы неоднократно говорили мне, что здесь, на зоне, все покупается и продается, в том числе и очередь на комиссию. К тому же я знал, что наш отрядник не в чести у хозяина, начальника колонии, из-за пьянок, что он находится, как говорят, в подвешенном состоянии — вот-вот его могут уволить. Вот я и решил, не задумываясь о последствиях, использовать ситуацию.
Старший лейтенант внимательно посмотрел на меня:
— Что вы имеете в виду?
— Пока у меня, сами понимаете, возможности ограничены, но на воле связи остались. И довольно надежные.
— Мне-то что с них?
— Пути Господни неисповедимы,— осмелел я.— Вот, скажем, зачем вам гробить здоровье в Нижнем Тагиле? Пыль, грязь, копоть, дым... Все кислоты и яды в воздухе. Наша Беларусь — рай по сравнению с этими местами.
— Особенно после Чернобыля,— поддел отрядник.
— Чернобыль, конечно, беда, трагедия. Но это юг Беларуси, две области. Впрочем, здесь, в Тагиле, наверное, и без взрыва такое же положение... А так в нашей республике жизнь нормальная. Многие хотят туда попасть.
— Не так все просто, Сороко. Нужна работа, жилье... У меня семья...
— Связи есть, я повторяю. Можете в милицию пойти, можете — в ИТУ. И с квартирой все уладится. Только помогите из клетки вырваться, я слово умею держать,— боясь порвать тонкую ниточку взаимопонимания, сыпал я словами.
— Прекратим этот разговор,— досадливо махнул рукой, видимо, ругая себя за излишнюю откровенность, расслабившийся было начальник.— Придет март, тогда и будет видно, что к чему. Только имейте в виду: никаких нарушений!
— Да разве я не понимаю?! Нервы вот только на пределе, трудно сдерживаться,. И дома плохо: мать болеет, тесть в реанимации был, жена превратилась в медсестру. Ей ведь и на работу надо, и дочь воспитывать, и мне помогать. А я только числюсь главой семейства...
— У меня своих забот достаточно! — встал из-за стола начальник отряда, давая понять, что аудиенция окончена. Он надел китель, поправил галстук... Я топтался у двери, дожидаясь еще хотя бы какого-нибудь намека, что мое дело сдвинулось с мертвой точки. Старший лейтенант приподнял брови, удивляясь, что я еще в кабинете, а затем вскользь обронил: — Значит, вот еще что. Напишите заявление на мое имя, что вы просите перевести деньги, присланные женой, на счет колонии... Чтобы погасить иск...
— Пожалуйста, я готов хоть сейчас.
— Мне нужно идти. Дела.
Направляясь в казарму, я перебирал в памяти все детали беседы, и настроение мое потихоньку падало. Всю картину смазало последнее замечание отрядника о деньгах. Зрело убеждение, что он палец о палец не ударит, чтобы помочь мне, все пустит на самотек. А вот погашение иска запишет в свой актив, при случае отрапортует хозяину, что вот, мол, провел воспитательную и разъяснительную работу и осужденный Сороко внес деньги. Рисковать же и так подмоченной репутацией он не будет, что ему до моих бед и невзгод?.. Самому бы уцелеть, удержаться на шатающемся служебном кресле... Обещание же послать на комиссию в марте будущего года ни к чему не обязывает отрядника — это и так положено мне по закону, притом гораздо раньше. Опять я остался при своем пиковом интересе...
Хотя я все больше понимал, что рассчитывать приходится только на самого себя и жену (если вдруг не поможет счастливый случай), все-таки хотелось поделиться с кем-нибудь наболевшим, услышать доброе участливое слово. Решил, если удастся, навестить земляка — Николая Кома. Выйти без осложнений из казармы удалось легко: в санчасть отправлялась группа заключенных, и я вместе с ними выскользнул на улицу. В казарму девятого отряда, где обитал Николай, вообще проник без труда: дверь там не закрывалась на ключ, и войти в помещение мог каждый. Правда, это не означало, что можно было разгуливать, как на бульваре,— не дай Бог попасть на глаза начальству. Увидев чужака, любой из администрации, да и принципиальный общественник, сразу написал бы рапорт. Мне же только этого и не хватало... Оглядываясь, пробрался к Кому, Земляк лежал на койке с закрытыми глазами.
— Что, усваиваешь каллории? Накапливаешь жирок? — тронул я его за руку.
— О чем ты говоришь, Валера? Похудел на несколько килограммов, жить не хочется...
Приглядевшись внимательнее, я действительно увидел, что земляк сильно сдал: ввалились щеки, нездорово блестят глаза.
— Заболел?
— Черт его знает! — Николай безразлично махнул рукой.— Жизнь идет наперекосяк. Куда ни кинь — всюду клин.
«Вот те на! — пронеслось в голове.— Пришел за сочувствием, хотел найти поддержку, а тут самому в пору лекарем становиться. Раскис что-то земляк...» Вслух спросил:
— Залетел на работе?.. Выговор влепили?
— Плевать я хотел на работу и на все взыскания, вместе взятые. Дело хуже.
— Морду кому-нибудь набил? В ШИЗО загремел?
— И это мура... Жена, понимаешь ли, не хочет приезжать. Телеграмму прислала, что, мол, неожиданно заболела.
— Ну, ты даешь, земляк! Что, женщина заболеть не может, тем более осенью?
— Ничем она не болеет, очередная отговорка. Крест на мне поставила... Вот посмотри, недавно письмо я получил, правда, анонимное.— Николай показал мне написанные корявым почерком странички. Пробежав их глазами, осторожно положил руку на плечо Николаю: — Не бери до головы. Анонимка она и есть анонимка.
— Правда тут написана,— забрал он у меня измятые листки.— Я давно чувствовал, что гуляет она с мужиками. Теперь вот подтверждение. Документальное.
— Таким документам, знаешь, какая цена?..
— Не успокаивай меня, Валера. Кто-то же узнал мой здешний адрес, кому-то надо меня предупредить. Это не на воле: позвонил, сказал, что жена — шкура, и положил трубку.
— По почерку, я так думаю, писал старый человек. И буквы неровные, и грамотешки немного. Может, мать?
— Нет. Она мне соль на раны сыпать не будет. И не сестра — в этом я уверен. Собственно, сестре и писать об этом не надо. Когда она приезжала на свидание, рассказывала о том же. Пошла вразнос моя драгоценная, сама к мужикам лезет.
— Да не может быть... Дети все-таки... У вас же двое?
— Да, два парня. Одному — четырнадцать, другому — восемь. Их больше всего жалко. Сестра рассказывала, что моя мать хотела их проведать, специально приехала, так эта шкура ее на порог не пустила. Не хочу, мол, и знать такую родню... Кончилась моя семейная жизнь. И уже давно. Представляешь, я за четыре года только пять писем получил. А в этом и вообще ни одного.
— А сыновья пишут?
— Где там! — Николай тяжело вздохнул.— Настроила против меня: отец, мол, и такой, и сякой. Долго ли детям головы задурить?
— Алименты платишь?
— Конечно. Она заявление подала, но я и сам встречное написал. Хоть какие-то копейки пацанам перепадут, если, конечно, она на своих хахалей не потратит... От нее всего ждать можно...
Земляк сел на краю койки, опустил между колен руки, сгорбился. В эти минуты еще совсем не старый мужик выглядел дряхлым дедом. Измена близкого человека всегда переносится тяжело, не каждому дано пересилить эту беду, а тут, в зоне, она наваливается двойной тяжестью. И я не стал лезть с утешениями, молча сидел рядом с поникшим Николаем.
— Разводиться надо,— как о решенном деле проговорил Ком.— И нечего тянуть резину. Разбитое не склеишь, да и на кой хрен мне это надо. Правильно я говорю, Валера? — поднял он на меня измученные глаза.
— Извини, но тут я тебе не советчик. Решение должен принять только ты сам. Может, не все так и страшно.
— Развожусь,— уже увереннее сказал земляк.— Вернусь, заберу старшего сына. Он меня больше помнит. А баб... Баб я сотню найду. Даст Бог, здоровым выйду, не калекой. Погуляю в свое удовольствие, а там и женюсь. Еще не вечер, как ты думаешь, земляк?
— Правильно говоришь! — Я был рад, что Николай вышел из депрессии и, пусть с наигранной бравадой, но подумал о будущем.— Помирать нам рановато!
— Вот за что ты мне нравишься, Валера, так это за оптимизм. Поговоришь с тобой — и отляжет от сердца.
— Тоже мне, нашел исповедника. Мне самому хоть в петлю лезь...
Ком хлопнул себя ладонью по лбу:
— Вот я дурак, зациклился на своей проститутке, а про твой поход к отряднику и не спросил. Что нового?
— Пусто-пусто. И бумаги все готовы, и иск погашен. А на комиссию не попал, не включили в список... Отряд- ник не мычит, не телится...— И я подробно рассказал о недавнем разговоре с начальником.
— Не торопись с выводами,— рассудительно произнес после паузы Николай.— Возможно, отрядник и прав. Сунешься теперь на комиссию без очереди, публика возмутится, начальство насторожится: за какие это заслуги новичку привилегия? Бортанут на всякий случай и отговорятся, что мало тебя знают, не изучили, мол. Тут надо все наверняка делать, стопроцентно. Не гони лошадей, мой тебе совет... Пролетишь в первый раз, затем еще труднее будет.
Рассуждал земляк вроде здраво, но мне не хотелось принимать его доводы, соглашаться с ним.
— Ликбез я давно прошел, не ребенок. Только вижу, что одни напрямую прут на комиссию, а другие годами здесь гниют, хотя и льготы у них есть. Первые выскакивают за проволоку, а кто сидит и дожидается, когда позовут, может до самого звонка дотянуть...
— Говоришь, что грамотный, а выходит, что не совсем. Ты посмотри, кто на досрочку уходит: у кого ло- патник толстый — это раз; кто на хозяина работает — это два; у кого на свободе рука мохнатая — это три; родня всяких бугров — это четыре. Если кто и пробивается из таких, как мы с тобой, то это редкость. Для отвода глаз, для понта выпустят парочку мелких рыбешек, а дальше косяком, прут жирные караси. На зоне, как и на воле, одинаковые правила игры...
— Хватит, наигрался я по этим правилам. Осточертело!
— Всем надоело. И мне. Но не зарывайся. И отряд- ника не зли, не дергай. Накатает на тебя телегу, долго отмываться будешь. Найдет, к чему придраться, и тогда прощай досрочка... Раз он — начальник, значит, ты — дурак.
— Не в моей это натуре. Если отрядник бочки покатит, замучаю жалобами. У него самого рыльце в пушку. Не полезет на рожон...
— Послушай опытного человека, Валера. Здесь горлом и нахрапом никого не возьмешь, не то место и не те люди. Тут главное — мани-мани, усек? Будут шуршики в кармане — будешь человеком. Даже оправдать могут,
судимость снять. Другой вопрос — сколько это стоит?..
— И сколько же? — автоматически поинтересовался я.
— Расценки меняются,— осторожно заметил земляк.— Скажем, говорят, чтобы скостить год срока надо заплатить кусок, тысячу. Как минимум...
— Говорят, что кур доят,— прекратил я беспредметный по тому времени разговор.— Денег у меня нет и пока не предвидятся. Вот вырвусь отсюда, начну зарабатывать. А пока надо использовать другие каналы. Комиссия — вот цель номер один.
— Есть у меня предчувствие, что ты прорвешься,— убежденно сказал на прощание Николай.— Не забудь тогда про меня. Поможешь — за мной не заржавеет.
— Мне бы со своей бедой справиться.
— Ты двужильный, Валера... Справишься.
«Легко ему говорить. Сам устроился контролером, даже бригадиром контролеров... Целый день дурака валяет, газетки почитывает, чифирек потягивает. Блат завел с начальством, дружков всовывает на теплые места. И еще просит меня о помощи». Пожалуй, я судил Николая Кома слишком строго, был в чем-то несправедлив к нему. Но во мне накопилось раздражение на весь белый свет, и даже чье-то призрачное благополучие вызывало внутренний протест: «А чем я хуже? Почему я должен вкалывать как безропотный мул, а кто-то, пусть даже тот же земляк, бездельничать да еще получать приварок?» Особенно задело последнее замечание Николая о двужильности. Вроде бы и комплимент сказал, позавидовав моей стойкости и выносливости. Но он-то хорошо знал, какой кровью дается это спокойствие, как трудно сдерживать себя, не позволять вырваться наружу злости и отчаянию. Тем более, что неприятные сюрпризы поджидали на каждом шагу.
УДАРНИКИ ПОДНЕВОЛЬНОГО ТРУДА
Очередной сюрприз подготовил начальник цеха. Правда, не мне лично, а всей нашей бригаде сборщиков и упаковщиков.
— Шабаш! — зычно прокричал, перекрывая грохот и шум, сменный мастер.
— На собрание! — дублируя приказ, уточнял бригадир, подходя к каждому рабочему месту.
Группками и поодиночке осужденные медленно потянулись в дальний угол цеха, где на свободном пятачке разместился двухтумбовый стол.
— Премии выдавать будут,— мрачно пошутил кто- то из присланных к нам бытовиков.
— Предложат стать на ударную вахту...
— Не предложат, а прикажут...
— Не кием, так палкой...
— Прошли времена, когда приказывали...
— Зеленый ты. Наивняк.
— Поторапливайтесь,— подгонял мастер.— Не на танцы идете.
— А мы и так целый день танцуем. От стола фокстротом к лифту, назад легким вальсом...
— Кончай базар! Время дорого.
Начальник цеха уже ожидал нас, стоя за столом. Каждый, кто видел его впервые, невольно останавливался: рыжая густая шевелюра, цвета красной меди, будто у индейца, лицо. С такой внешностью ему, наверное, было легко выполнять свои служебные обязанности. Стоило ему появиться в производственном корпусе, как от станка к станку, от одного рабочего места к другому неслась эстафета... И темп возрастал. Этот коренастый старший лейтенант неплохо знал производство, быстро устанавливал, в чем причина брака, сразу определял, кто честно упирается, а кто только делает вид, что работает. Он и открыл собрание.
— Граждане осужденные! На производстве сложилась крайне сложная ситуация. План по сборке вентилей на грани срыва. Октябрьская программа завалена, мы задолжали двадцать тысяч вентилей. Еще хуже идут дела сейчас. Так что, если будем работать такими темпами, сорвем и годовой план. Допустить этого нельзя.
— Ясно,— пробормотал стоявший рядом со мной Жданов.— Будем пахать сверхурочно...
— Зэк — не машина, все выдержит,— в тон ему, но уже громче добавил Тулбу.
— Вам слово не давали! Дайте говорить! — оказался рядом мастер.
— ...Так вот, граждане осужденные,— напряг голос начальник цеха,— администрация просит вас до конца месяца поработать в две смены. Мы должны ежедневно выдавать по три — три с половиной тысячи вентилей. Тогда и план вытянем, и задел создадим на будущее.
— А на кой черт мне эти план и задел? Пахать задарма на государство дураков нет,— раздалась громкая реплика из задних рядов, где стояли присланные в наш цех бытовики.
— Ты помолчи, с тобой разговор особый,— оборвал его отрядник, который стоял у торца стола и пристально следил за реакцией своих подопечных. Судя по внешнему виду, ему опять хотелось опохмелиться, и все эти внеурочные и внеплановые собрания были ему, как кость в горле.
— Мне эти разговоры до лампочки,— спокойно парировал бытовик. Он «звонковал», то есть должен был сидеть до конца срока, и поэтому никакие льготы и поощрения его не волновали.
— Заткнись! — толкнул его в бок все тот же мастер, младший лейтенант внутренних войск, следивший за порядком.
— ...Граждане осужденные! — продолжал начальник цеха.— Если вы будете работать по двенадцать часов, то, согласно КЗОТу, вам выплатят сверхурочные в двойном размере.
— Вопрос можно, гражданин начальник?.. А из этих денег пятьдесят процентов хозяин забирать будет?
— Конечно. Закон есть закон.
— Тогда на кой хрен мне это надо? Посчитайте сами: заработую какую-то тридцатку, половину хозяину, подоходный налог... Что, за дохлый червонец упираться две недели по двенадцать часов? Нема дурных...
— Повторяю: законы писаны не мной и не начальником колонии... Претензии не по адресу.
— Гражданин начальник,— вступил в спор Богов, бывший районный прокурор,— вот вы ссылаетесь на КЗОТ. А ведь этот Кодекс о труде запрещает сверхурочно работать более четырех часов в неделю. А у нас получается аж двадцать четыре, а то и все двадцать восемь, если воскресенье прихватим. Как же тут с соблюдением КЗОТа?
— Давайте не устраивать базар. Я понимаю, что законы вы знаете не хуже меня... Займемся делом. Вы слышали мою просьбу... Решайте. Дело это сугубо добровольное, неволить никого не будем.
— Хоть чем-нибудь заинтересуйте... Отоваркой на лишнюю пятерку...
— Вот это конкретный разговор... Поговорю с начальником колонии.
— При чем тут отоварка? Я вообще в ларек дороги не знаю. У меня иск невыплаченный, алименты... Вот бы премии рублей по десять-пятнадцать подкинули, тогда другое дело...
— У колонии нет денег...
— Как нет? Мы такую прибыль даем, а тут вшивой десятки не найдется?.. Не надо темнить, гражданин начальник.
— Хорошо, я поинтересуюсь у главного бухгалтера... Какие еще предложения?
— Мне, скажем, ни ларек, ни премия не нужны. А вот дополнительное свидание — это стимул. Три дня законных плюс три дня поощрительных... Целая неделя... А то не успеешь жену обнять, как в казарму идти надо.
— По-моему, это невозможно. Выходит, надо давать три дня отгулов... А у нас и так нехватка рабочих рук...
— Загляните в Исправительно-трудовой кодекс, гражданин начальник. Он предусматривает поощрение в виде дополнительного свидания. И как раз трое суток...
— Что же мне, цех остановить? План не выполняете, а я всех к женам отпущу?
— Зачем всех? Кто заслужит, кому надо... И можно график установить... А подменить двух-трех человек не проблема.
— Правильно!.. Все равно простаиваем часто... По полдня сидим без работы... За свиданку согласные*.,.
— Этого я не могу,— пристукнул кулаком ПО СТОЛУ начальник цеха.— Многого хотите.
— Как это многого? Свое требуем. Соки из нас выжимать — так это нормально, а как по-человечески рассчитаться за сверхурочные часы — уже «отвали, подруга»?
— Прекратите базар! — вдруг резко выкрикнул начальник отряда, до сих пор почти не принимавший участия в бурной дискуссии.— Развели бардак. ИМОЙТС в виду, что характеристики на вас писать буду я.'И ВСЯ сегодняшние выступления будут учитываться...
— Ого, как заговорил...
— А вам, Никитин, вообще лучше помолчать. Я Проверял сегодня казарму. В тумбочках грязь, КОЙКИ Ht $Я- правлены... Распустились, волю почувствовали.— Старший лейтенант распалялся все больше, было похоже, что он теряет над собой контроль.— Я наведу порядок! Прав у меня хватит! На голову мне хотите сесть?.. Не выйдет!
Мы удивленно притихли: отрядник явно не уловил настроения собравшихся. Большинство, хотя и с оговорками, но соглашались на сверхурочную работу, ЛИШЬ выторговывая себе минимальные льготы. А тут — грубая брань, окрик, угрозы наказать, прижать, проучить. И реакция последовала немедленно:
— Вы как с нами разговариваете? — возмутился экспансивный Айропетян.— Вы многим в сыновья годитесь, посмотрите, сколько здесь седых людей. Вы же все- таки офицер, чему вас учили?
— Так дело не пойдет, гражданин начальник! Мы что — быдло? Стадо баранов?.. Не забывайте, что И ВЫ не застрахованы от тюрьмы... Да, да — и вы тоже... Вот здесь, среди нас, Баулин и Саркисян... Они, как и вы, отрядниками были... Так что задумайтесь...
— Вы что, угрожаете мне? — отрядник то нервно крутил пуговицу на шинели, то поправлял воротник.
— Не угрожаем, а предупреждаем. Не забывайте,
мы здесь не вечно... Все может перемениться... Наглость к добру не приводит. .*
При слове «наглость» лицо и шея старшего лейтенанта налились кровью, казалось, что он выскочит ИЭ-ЭЯ стола и набросится на первого попавшегося. Начальник цеха мгновенно оценил обстановку и взял инициативу в свои руки:
— Не надо кипятиться, мужики. Все мы делаем ОДНО
общее дело — трудимся на благо любимой Отчизны.
— Мы-то трудимся, а он чего базарит?.. Мальчишка еще, а пыжится, будто генерал.
Эта реплика самого молодого зэка, которому не было, пожалуй, и двадцати, разрядила обстановку. Все дружно расхохотались, лишь отрядник со злостью сломал не- прикуренную сигарету. А начальник цеха вел свою линию:
— Мужики, я считаю, что мы договорились. Что будет зависеть от меня — сделаю...
— Наши условия вы знаете: дополнительная отовар- ка, премия, допонительное свидание, отгулы,— напомнил Богов.
— Лады. Пусть бригадир составит список и укажет, кто какое поощрение выбрал. А я подойду к заведующему производством. Думаю, найдем общий язык... А теперь, как говорил Никита Сергеевич, за работу...
— Он добавлял: «товарищи»,— напомнил кто-то из бывших аппаратчиков.
— Главное, вы поняли суть дела... Работать по двенадцать часов начинаем прямо сегодня,— сразу поменял тон начальник цеха. Теперь он говорил четко, жестко, не пытаясь заигрывать с бригадой.— Но прежде каждый должен написать заявление, что изъявляет желание трудиться сверхурочно. Не буду скрывать — это нужно для прокурора по надзору...
На столе уже были приготовлены чистые листы бумаги и несколько шариковых ручек. Первыми начали проталкиваться к столу, конечно же, активисты-общественники. Кое-кто раздумывал, а трое — все бытовики — и вовсе отказались участвовать в аврале. Эта потеря не удручила начальника цеха, он и так был доволен, что без особых хлопот смог провернуть такое нелегкое дело.
— Поднажмем, мужики. Три — три с половиной тысячи вентилей нам нужны позарез,— он для убедительности резко проводил ребром ладони поперек горла.— Тогда мы на коне.
— Мы — вам, вы — нам,— напоминали ему со всех сторон.
— План, мужики, давайте план,— он уже жил другими заботами. И не было сомнения, что главнейшая из них была — отрапортовать хозяину, что сборщики и упаковщики согласились работать по двенадцать часов. А что касается обещаний — их ведь, как говорят, к делу не подошьешь.
— Останемся мы в дураках, как пить дать...
— На них где сядешь, там и слезешь...
— Тысячу отговорок найдут...
— Кто перед нами оправдываться станет?..
— Будем пахать задарма...
— Без паники, мужики, прорвемся. Не последний аврал... Перед Новым годом опять просить будут. Обдурят сегодня — откажемся в другой раз. Рабсилы-то нет...
— Один хрен — на ...т.
Так и не придя к общему знаменателю, но написав заявления, разошлись по рабочим местам. Меня сразу взяли в оборот бригадир Бровин и его верный помощник Г натюк.
— Валерий, придется тебе перейти на упаковку. Больше некому.
— У меня ограничение. Тяжести таскать нельзя,— сразу же отклонил я приказ-просьбу.
— Ограничения у всех. У Баулина ноги больные, Белозеров явно не потянет...
— Они дольше нас проживут.
— Только недели две,— настаивал Бровин.— Будет трудно, сборщики помогут, Годелико и Битарашвили.
— Свежо предание,— мне не хотелось соглашаться, но тут всплыла мысль: «Мне нужна будет характеристика для комиссии. Бровин в контакте с начальством. Так что ради будущего можно потерпеть».
— Будь по-вашему,— нехотя сказал я и тут же напомнил: — Не забудьте о помощи. Ящики все-таки по полцентнера. За смену ухайдохаешься...
— О чем речь. Конечно, поможем.
И я начцл осваивать новую профессию — упаковщика. Собственно, все было до примитивного просто: собранные Битарашвили и Годелико вентили надо было уложить в ящик, заколотить его гвоздями, написать и наклеить сопроводительный трафарет и отнести пятидесятикилограммовый ящик к лифту. Вот эта заключительная операция и доставляла мне наибольшие муки. Потеряв за время следствия и суда больше трети веса, я превратился в собственную тень. А если добавить постоянное головокружение, боли в желудке и в почках, то станет ясно, какой из меня был работник, тем более — для переноски грузов. Но я утешал себя хотя бы гем, что вырвался из литейки, о которой вспоминал с ужасом. Там-то был настоящий ад...
Первый десяток ящиков давался относительно легко, но потом усталость нарастала. Начинали донимать боли в животе — казалось, что кто-то режет желудок по живому, без наркоза. Немела поясница, пальцы рук не хотели разгибаться, суставы будто застывали в форме крюков- захватов. Перед самым лифтом, в конце пути, ноги дрожали, грозя подломиться... И так всю смену и еще четыре часа сверхурочных. Если в начале работы иногда подсобляли Бровин или Гнатюк, то на исходе изнурительного дня я оставался с опостылевшими ящиками один на один. Обещанной подмоги от Годелико и Битарашвили дождаться не удавалось. Они однообразными движениями закручивали гайки, будто прилипнув задницами к грязным скамейкам. Конечно, и им было нелегко в провонявшем машинным маслом, краской, гарью и копотью цехе, но на пуп им все-таки брать не приходилось. Однако высказывать им претензии я не решался. Оба они были людьми южными, вспыльчивыми. Г оделико из Молдавии, даже, по-моему, цыган, Битарашвили — экспансивный грузин. Неосторожное слово могло разжечь конфликт, а именно этого я и опасался. Все мои планы были связаны лишь с комиссией по У ДО, и ради их осуществления я готов был переносить любые тяготы.
Но без мелких стычек все-таки не обошлось, причем инициатором их стал Г оделико. Когда заканчивалась первая «ударная» шестидневка, я в конце смены расслабленно сказал:
— Отоспимся, отлежимся завтра...
— Объявили, что завтра рабочий день,— огорошил Битарашвили.—Так что отдых придется перенести на более лучшие времена.
— Тут же подохнуть можно,— я с отчаянием пнул
упакованный ящик.— С каждой минутой здоровье тает. В скелет уже превратился.
— Тебе это на пользу, прокурор,— с неприкрытой злобой посмотрел на меня Годелико.— Наверное, многих сюда загнал. Так что таскай ящики, замаливай грехи...
— Кто был виноват, того и загнал... А что касается ящиков... В любой момент могу отказаться. У меня ограничение.
— Не откажешься. Знаешь, что ШИЗО грозит, а то и камера. Перед комиссией в штаны наложишь.^
— Мне бояться нечего,— как можно спокойнее ответил я.— Закон на моей стороне. Врачи установили, что мне тяжести поднимать нельзя. Так что я делаю все добровольно... Но, между прочим, когда я согласился здесь работать с вами, мне сказали, что вы помогать обязаны.
— Что?.. Тебе помогать? Много хочешь, да мало получишь! Ни черта с тобой не сделается, жив будешь. Бери ящик и вперед! А то...
— Уж больно ты грозен...
— Заткнись, прокурорская рожа! Сейчас схлопочешь! Я за себя не ручаюсь...
— Вот это и плохо. Взрослый человек, а управлять собой не можешь.
— С тобой зато управлюсь! Я бы вас всех, прокуро
ров, перевешал. Всю жизнь мне испоганили...— Годелико завелся: белки глаз налились кровью, рот скривился сжатые кулаки подрагивали. '
— Кончайте, мужики,— остановил нас Битарашвили. Надо норму гнать, а вы базар развели.
— Успеем еще, два часа в запасе,— отмахнулся Годелико. Я этому прокурору спокойно жить не дам. И всем его дружкам.
— Смотри, силенок не хватит, подорвешься...
— Ты еще огрызаешься?.. Ну ладно, узнаешь, кто такой Годелико!
— Да перестаньте вы,— уже прикрикнул Битарашвили.— Хуже баб. Давайте работать.
— Работать, работать! — раздраженно повторил Годелико и швырнул на пол бракованный маховик.— Литейка гонит дерьмо, а тут упирайся. Где бригадир?..
Он вскочил с места и заорал на весь цех:
— Бригадир! Бровин! Мать твою...
Бригадира не было видно, зато откуда-то появился контролер Карпов. Мы его узнали издали по характерной подпрыгивающей походке.
— Чего орешь? спокойно спросил он Г оделико.
— Когда ты перестанешь штаны протирать?.. Почему не смотришь, что литейка брак гонит?!
— Это не мое дело. Я проверяю качество вашей работы.
— Да не проверяешь ты, а онанизмом занимаешься...
— У тебя все? — вывести Карпова из себя было трудно.
— Не будет исправных маховиков — я отказываюсь работать.
— Хорошо. Поменяйся местами с Сороко. Он сядет на сборку, ты таскай ящики.
— Не твое собачье дело,— разъярился Годелико.— Будешь еще мне указывать. Сейчас перекрещу вот этой железякой! замахнулся он куском арматуры.
— Я пошел,— невозмутимо сказал Карпов и запрыгал к своему столу.
— Развелось тунеядцев, чтоб они подохли. И на воле их навалом, и тут хоть отбавляй. И все одни и те же. Ничего, мы им еще покажем,— потряс кулаком вслед Карпову Годелико.
— Это ты сейчас смелый, а чуть что — подожмешь хвост и в кусты,— съязвил я.
— Что ты сказал? Когда я в кусты прятался? Ты отвечаешь за свои слова?! — Молдаванин надвинулся на меня.
— Вспомни: кто первым побежал подписывать заявление на сверхурочную работу?.. Молчишь?..
— Я никому задницу не лизал и лизать не буду, как некоторые,— не сдавался соперник.
— Кого ты имеешь в виду?! — теперь и меня уже захлестнула злость, и я готов был заехать Годелико по физиономии.— Говори да не заговаривайся!
— Это я вообще,— отступил молдаванин.— Но все равно, прокурор, не нравишься ты мне. Пересекутся когда-нибудь наши дороги, попомнишь мои слова,— и он подбросил на ладони кусок арматуры.
— Успокойся и не прыгай. Сидеть тебе еще долго, а нервишки никудышные. Побереги их, а то хлебнешь горя.
— Побазарили и хватит,— недовольно проговорил Битарашвили.— Нашли время и место разборки устраивать. Пахать надо.
Вот в этом грузин был прав. Своди счеты — не своди, проклинай судьбу — не проклинай, а план висел над каждым из нас дамокловым мечом. Суетились, подгоняя нас, бригадиры, контролеры, мастер, только вот начальник цеха старался показываться в корпусе пореже. Если его все же удавалось случайно встретить, на все вопросы о льготах отделывался туманными фразами типа: «Вопрос пока не решен», «Я прилагаю все усилия».
— Темнит он, это ясно! — решительно заявил Жданов после мимолетного разговора с начальником цеха.— Ни хрена мы не получим. Упирались, как идиоты, а нам — фигу под нос.
Недовольство нарастало. Усталые донельзя, мы едва добирались до коек и сразу проваливались в тяжелый кошмарный сон. Но по инструкции спать до отбоя не положено, и наш въедливый отрядник начал устраивать облавы на нарушителей, раздавая налево и направо выговоры. Ему, как говорится, попала вожжа ПОД ХВОрТ. А тут еще завхоз настаивал на утренних физзарядках. Людей, еле волочащих ноги, заставляли прыгать, приев- дать, будто воспитанников детского сада. И бригада взбунтовалась: один за одним посыпались отказы ОТ сверхурочной работы.
Получив нагоняй от хозяина, отрядник пошел на попятную. На экстренном собрании он и начальник цеха принялись уговаривать отказников, сулить послабления. Физзарядку отменили, лежать на койках позволили, даже отоварку на лишних пять рублей разрешили. Сладкий пряник сыграл свою роль — сверхурочная вахта продол- жалась... Платили мы за перевыполнение плана черной мокротой, отхаркиваемой из забитых пылью легких, эа« стуженными почками, хроническим радикулитом, тупой головной болью. Мы превращались в роботов...
Временами самые памятливые и наивные начинали мечтать, как будут пировать, получив обещанные льготы. Увы, их обманули и на сей раз. Никто не получил премии, никому не добавили трех дней к свиданию, из всех желающих только бывшие партийные работники ТУлбу и Белозеров сумели буквально вырвать отгулы. Правда, С Белозеровым тут же «разобрался» отрядник: его вывели из совета коллектива, поместили под дополнительный колпак — каждый его шаг, каждое слово фиксировались. Права качать на зоне не положено. Можно только вполголоса роптать.
Кляня начальство и свою уступчивость, мы продолжали «давать стране угля». В редкие минуты передышек нет-нет да и вспоминали про обещанные щедроты.
— Мне хотя бы какую-нибудь вшивую благодарность объявили. Согласен даже, чтобы на этом бланке,— рассуждал я, пришлепывая к очередному ящику трафарет.— Перед комиссией любая бумажка на вес золота.
— На толчок с этой бумажкой сходи,— вновь начал задираться Г оделико.— Вам, прокурорам, сидеть от звонка до звонка. Попили нашей крови, теперь не рыпайтесь.
— Не лезь в бутылку,— довольно миролюбиво ответил я.— Ты, как я понимаю, сам далеко не ангел. Взятки чем брал?.. Борзыми щенками?
— Какими щенками?.. У тебя что, крыша поехала?
— Классику читать надо. Гоголя, Николая Васильевича...
— Ты из себя умного не корчи. Сейчас шарахну этим вентилем, сразу проще станешь.
— Собака лает — ветер носит,— небрежно заметил я. Мне надоели угрозы напарника. Я к тому же давно понял, что мелкий взяточник из Кишинева, бывший участковый инспектор, по натуре элементарный трус. Стоило взять более жесткий тон, как он поджимал хвост.
Годелико злобно блеснул на меня выпуклыми глазами, но продолжать перебранку не стал.
— Давно бы так... А то прыгаете, как молодые барашки,— подвел черту под стычкой Битарашвили.— Надо поднажать, чтобы пораньше с работой управиться. Сегодня отоварка, вы что, забыли?
— Все равно нам последними уходить. Дадут испытатели партию, упакуем, тогда и пошабашим. До съема за лопатку не выскочишь.
— Шевелиться надо. Чтобы смена не ждала, а то мужики кипиш поднимут. Отоварка — дело святое.
— Кстати, Павлович,— обратился я к Битарашвили и подал ему квитанцию о зарплате,— расшифруй ты мне этот кроссворд; Цифр много, а что к чему?
— Сейчас, кацо.— Он вытер руки, взял бумажку и быстро пробежал глазами по строчкам и графам.— Тебе положили на счет шестнадцать рублей...
— Быть не может! Сколько я здесь, а первый раз такая сумма.
— Накинули за сверхурочные червонец. Вот и разбогател... Весь ларек закупишь, по два ящика после таскать будешь.
— С вашей помощью...
— Ничего, выдержишь,— оставил за собой последнее слово Годелико, но я пропустил эту реплику без внимания: горбатого могила исправит...
Едва дождавшись, когда после съема откроют лопатку, мы рысью бросились к магазину — небольшому одноэтажному зданию. Здесь уже было настоящее вавилонское столпотворение. Две крикливые очереди тянулись к окошкам-амбразурам, где располагались кассиры, еще две выстроились за получением продуктов. Заняв очередь в кассу у самого порога и прикинув, что ждать придется не менее получаса, решил навестить Коржуева. По возможности маскируясь, добрался до казармы шестого отряда. Земляк лежал на койке, безразлично уставившись в потолок.
— Что захандрил, Анатолий?
— Хорошего мало. На следующей неделе уже на работу надо.
— Не рано?.. Ты ж после операции.
— А кого это интересует?.. Не на курорте, говорят. Пахать надо. Производство прежде всего... А шов не заживает, гноится.
— Иди опять к врачу. Пусть на больничку направляет.
— Пошли они!.. Снова резать будут, коновалы. Одного мужика из нашего отряда дважды оперировали, а что толку?.. Подопытные кролики мы для них.
— Смотри, заражение будет.
— Черт меня не возьмет! Были бы кости — мясо нарастет.
— Какие в животе кости?!
— Это я так, для связки слов. Мне бы работу полегче. И есть вариант, только... В общем, в лапу дать надо...
— Сколько?
— Полета, и чем быстрее, тем лучше, а то уплывет место.
— У меня четвертной в заначке есть. Могу дать.
— Валера, век благодарен буду. Вторую половину где-нибудь найду.
Не теряя времени, я направился в свою казарму. Оглядевшись, достал из тумбочки записную книжку, разорвал обложку и вытащил схороненный там НЗ — двадцать пять рублей...
— Чем богат, тем и рад...
Коржуев обрадовался, измученное болезнью и тяжелыми думами лицо даже прояснилось:
— Вот это земляк! Вот это друг!.. Через неделю верну долг. Жена на свидание должна приехать, разбогатею.
— Может, и взятку через неделю можно дать? — спросил я.
— Дорог каждый день. Желающих на это место хоть отбавляй. Тут зевать нельзя.
— А что за место?
Анатолий понизил голос почти до шепота:
— Распред цеха.
— Ого! Большим начальником будешь.
Коржуев по инерции продолжал вполголоса:
— На хрена мне это начальство. Главное — характеристики хорошие. Через год у меня льготы подходят.
— Во даешь! Да за это время все перемениться может. И администрация тоже.
— Ничего, запас беды не чинит. Притрусь и буду потихоньку пахать.
— Потихоньку не выйдет, Толя. Между двух огней попадаешь. Хозяин давить будет, а наш брат, зэк, коситься. Всем угодить никак не получится, должность собачья.
— Я потихоньку, помаленьку. Заедаться ни с кем не буду. В общем, ты же знаешь пословицу: «Хочешь жить — умей крутиться...» Это, кстати, и на воле пригодится. Вот организуем с тобой кооператив, а там нос по ветру держать надо. Что, не так?
— Рано загадываешь, земеля. До свободы еще дожить надо. Вот меня отрядник в этом году с комиссией прокинул, обещает только на март будущего... Да и то ему веры нет. Нажать не мешало бы, а как?..
— Есть вариант. Моя жена вернется со свиданки в Оршу, позвонит твоей. А та нажмет на все рычаги. Ты же говорил, что неплохие концы есть... Давай телефон!
— Пожалуй, ты прав. Я отсюда давить буду, а Людмила снаружи. Быть не может, чтобы ничего не получилось. Должен я прорваться, как ты думаешь, Толя?
— Прорвемся.
— На этом и порешили,— согласился я.— Чуть попозже еще поговорим. Я сбегаю отоварюсь, а ты затем приходи ко мне. Перекусим, чем ларек богат. На сытый желудок думается легче.
И я, опять-таки закоулками, чтобы не встретить никого из лагерного начальства, поспешил в магазин. У самого входа меня остановил незнакомый зэк:
— Продай три бона! Даю два червонца.
— Сам на подсосе, первая отоварка,— отказался я от сделки (он хотел купить у меня трехрублевую отоварку за двадцать рублей).
Протолкнувшись к окошку кассира (очередь уже подошла), я назвал номер своего счета — 10100.
— У вас шестнадцать рублей,— найдя мою карточку и сверив фотографию на ней с оригиналом, хриплым прокуренным голосом сказала молодая женщина.— Могу отоварить на семь рублей.
— Но уже конец месяца, я ни разу не отоваривался. У меня есть процентовка...
— Тогда на все.
— Оставьте три рубля.
— Вам видней.
Клочок бумаги, где была написана моя фамилия и цифра 13, лег в стопку подобных себе. Я начал проби- наться к окошку продавцов, но меня грубо одернули:
— Чего прешь, как на буфет?! Назовут фамилию — получишь.
Выбравшись из очереди, устроился на довольно широком подоконнике. Магазин напоминал послевоенную толкучку: истощенные люди с голодными глазами ссорились до остервенения; кто-то, прижав обеими руками покупку к груди, старался вырваться из круговорота; другие прорывались к заветной кормушке; третьи — это были осужденные из чужих отрядов (отоваривали только наш, десятый) — пытались что-то выменять у счастливчиков или у продавцов. Неожиданно вспомнился один из прежних магазинщиков, носивший странную фамилию Галета. Может быть, именно поэтому он и остался в моей памяти. Здоровый мужик, как говорится, кровь с молоком, властвовал над суетливой публикой. Кого обвешивал, кого обсчитывал, кому напоминал о старых долгах — и никто ему не перечил. Все знали, что он человек хозяина, начальника зоны. Ходили довольно достоверные слухи, сколько и кому он отстегивал, чтобы оставаться на хлебном месте. Но... власть переменилась, пришел новый хозяин, и Галета загремел в преисподнюю колонии — в литейку. Самоуверенность слезла с него, как старая кожа со змеи. Он боязливо поглядывал на тех, жалкие копейки которых безнаказанно присваивал, пользуясь высоким покровительством. И не избежать бы Галете темной, если бы не звериная сила, затаившаяся в массивной фигуре. Такой, если рассвирепеет, и убить может. Жил он волком-одиночкой, опасаясь расплаты, и все писал жалобы на несправедливый приговор.
Теперь его место занимал москвич с седым ежиком волос. Я случайно познакомился с ним, когда заходил в казарму к Николаю Кому. «Это уже кое-что,— отметил я про себя.— Припрет, можно будет обратиться». Но выкрикнул мою фамилию не москвич, а другой продавец. Что покупать на свои тринадцать рублей, я наметил загодя. Перечень по тюремным меркам был солидным: стержни для авторучки — 2 шт.; общая тетрадь — 1 шт.; зубной порошок — 1 коробка; конфеты — 1 кг; пряники — 1 кг; маргарин — 5 пачек; чеснок — 0,5 кг; повидло — 1 банка; чай — 50 г; сметана — 0,5 кг.
— Пряников и сметаны уже нет,— огорчил продавец.— Что будешь брать взамен?
— Давай три булочки и...— я быстро подсчитал остаток,— и десять пачек сигарет. Только, если можно, я потом обменяю курево на что-нибудь из жрачки, если появится. Ладно?
— Подваливай. Мне не жалко.
В это время в магазин доставили сало, и я купил на радостях килограмм, расщедрившись еще и на три банки кильки в томатном соусе. Затолкав покупки в мешок, направился в казарму, заранее предвкушая, как полакомлюсь давно не пробованными деликатесами. На полдороги встретил земляка — Николая Кома — и пригласил на пир.
Мне не терпелось приступить к трапезе, но более опытный земляк остановил:
— Подожди пару минут. Надо проверить, не надул ли тебя тот оглоед из магазина.
— Я не у москвича получал, у другого.
— Тем более пересчитать надо. Все они хапуги.
И он оказался прав: полтинник, пятьдесят копеек, продавец положил себе в карман.
— Умножь на число зэков. Это сколько получается? — кипел справедливым негодованием Ком.— Вот так и набивают матрасы деньгами. Суки! Пошли назад.
К моему удивлению, продавец безропотно подал мне еще одну банку кильки.
— Задурили голову,— спокойно заметил он.— Вас много, а я один.
По дороге назад земляк разъяснил:
— Знаешь, почему он не возникал? Начни он базар, все пересчитывать станут... И тогда ему хана. А так отдал тебе — и все шито-крыто... Мог бы еще и сверху подкинуть, лишь бы молчал. Знаю я их...
Полученные продукты оставались «под охраной» соседа — моего бригадира Бровина.
— Геннадий Данилович,— обратился я к бывшему помощнику генсека Брежнева,— одолжите нож. Сало порезать надо.
Тот по привычке оглянулся по сторонам, убедился, что чужих глаз нет, нагнулся и достал из-под тумбочки заточенное полотно пилы-ножовки.
— Для хорошего человека куска железа не жалко...
— Спасибо, шеф. Выйдем на свободу — сочтемся...
— Так я тебе и поверил,— полушутя-полусерьезно сказал Бровин.— Встретимся там — отвернешься. Не узнаешь старика-бригадира. Отряхнешь прах со своих ног....
— Зачем вы так, Геннадий Данилович? — не принял я упрека.— Кто здесь вместе баланду хлебал, тот, считай, одной крови...
— Что ты базаришь с этим краснопером?! — влез в разговор неизвестно откуда появившийся зачуханный зэк.— Эта падла всунула меня назавтра уборщиком, а я свое уже отпахал. Думает, что он тут главный...
Чужак явно провоцировал Бровина, но тот сохранил выдержку:
— Остынь, парень. На дежурство назначает завхоз, а не бригадир. Так что ты попал не по адресу. Не трать порох, пригодится.— И Бровин отвернулся. Успев изучить его, я не сомневался, что горлопан, налетевший на знающего себе цену бригадира, скоро почувствует, что сделал это зря. К нему придерется контролер, сделает замечание завхоз, его поведением останется недоволен отрядник... А Бровин будет спокойно улыбаться, и никакой Интерпол не установит, что он приложил руку к гонениям. Школу наш бригадир прошел хорошую — в самом ЦК КПСС, в секретариате дорогого Леонида Ильича.
...Взяв в одну руку пласт сала, а в другую — тоненькое лезвие, я решительно откромсал несколько ладных кусков. Ком остановил меня:
— Сразу видно, что белорус. Не хлеб с салом привык есть, а сало с хлебом... Как дед Талаш. Помнишь, в «Дрыгве»?..
— Слюнки давно текут, Микола...
— Нет, ты послушай. Это я еще в школе вычитал, у Якуба Кол аса, что настоящий белорус отрезает сала в два раза больше, чем хлеба... Но это на воле, а не на зоне.— Произнося эту тираду, Ком не спеша, экономно, аккуратно разрезал большие куски на узенькие полоски, разложил их на чуть большие кусочки хлеба. Моя рука так и потянулась к бутерброду, но земляк остановил: — Успеешь. От еды надо получать удовольствие, а не просто напихивать требух.— Он порылся где-то в глубинах карманов, достал пакетик, свернутый, будто лекарственный порошок. Осторожно развернув, скупо посыпал бутерброды молотым красным перцем.— Вот теперь можно приступать.
— Хорошо тебе привередничать,— проговорил я с набитым ртом.— Подогревают со всех сторон. Вот даже запрещенный на зоне перец есть... Откуда?
— Будешь много знать — скоро состаришься,— меланхолически заметил Ком, разглядывая этикетку на жестяной банке «Кильки в томатном соусе».— Опять не свежак завезли. Обнаглели.
Конечно, я понимал, что Николай переигрывает, изображая из себя гурмана. Но за этой бравадой стояла правда: даже здесь, в Тагиле, в спецколонии, при всевозможных ограничениях он почти не отказывал себе в нормальной еде. Я не единожды по его приглашению «перекусывал» с ним, и эта перекуска была во много раз сытнее дневного лагерного рациона... А числился Ком, кстати говоря, всего лишь распредом контролеров... Однажды я завел с земляком разговор об источниках такого благополучия, но он, чуть смутясь, отделался ничего не значащим и в то же время многозначительным афоризмом:
— Ты мне — я тебе...
...Съев кильки и вымокав хлебом острый, чуть прогоркший соус, я насытился. А Ком завел привычный разговор:
— Вот вырвемся мы с тобой отсюда, настоящим салом объедимся; рыбку свежую, озерную будем употреблять. А уж дорвемся до колбасы домашней, «пальцем пханой»... И будет все это свое, белорусское, без всякой уральской химии... Я твердо решил: освобожусь — поселюсь в деревне. Организую кооператив, буду выращивать овощи, фрукты и продавать. А ты будешь моим компаньоном. Согласен, Валера?.. А хочешь — становись начальником. На твой выбор...
— Це дшо треба розжуваты...— неожиданно для самого себя вспомнил я украинскую поговорку.— А пока давай закусим, земеля.— И я намазал булку густым слоем повидла... Такая щедрая отоварка случается нечасто.
Да, светлые дни выпадали на нашу долю редко. Подавленность, уныние, безысходность — вот постоянные составляющие зэковского настроения, определяющие суть его подневольного житья. Редкие всплески эмоций — и каждодневная отупляющая серость, граничащие с идиотизмом запреты и требования администрации, тяжелый примитивный труд.
— Все, не могу больше.— Мой сосед по казарме обессиленно опустился на край шконки, прислонился головой к вертикальной стойке, подпирающей верхний ярус.— Всего три месяца осталось баланду хлебать, но завтра я на работу не пойду...
Я удивленно посмотрел на молодого казаха Рыска- лиева, до сих пор послушно тянувшего лагерную лямку.
Широкоскулое лицо напоминала чью-то посмертную маску: глаза ввалились, подбородок и немного приплюснутый нос заострились, лоб и щеки были мертвенно бледны. Лишь едва заметные движения губ, творящих то ли молитву, то ли проклинающих кого-то, говорили о том, что человек еще живой.
— Что случилось, батыр?
— Пусто в душе, пусто в сердце. За десять лет все выгорело, пустыня осталась. Кому я такой нужен?
— Матери, семье,— осторожно заметил я.
— Матери, говоришь?.. Не знаю.— Видимо, я задел больную тему, и он отрешенно покачал головой.— Перестала она мне верить. Как объяснить старому неграмотному человеку, почему я так долго не возвращаюсь домой? Сама писать не умеет, соседей просит... В каждом письме спрашивает: «Когда, сынок, приедешь хотя бы в отпуск?»
— Она не знает, где ты находишься?
— Знать-то знает... Но не может поверить, что меня не отпускают проведать больную мать. Тем более, что сосед из нашего аула несколько раз приезжал домой. А он тоже сидит...
— Может, на поселении, на химии... Сам срывается.
— Да нет. У нас в Казахстане с этим проще. Заплатил хозяину, местной милиции — и можешь ехать. Деньги все делают, если они большие...
— Что-то не верится...
— Ты хотя и прокурор, а в этих делах не разбираешься. За богатый калым все можно. Это только здесь, в Тагиле, даже за миллион за колючку не выйдешь. Проклятая зона.
Рыскалиев почти отсидел звонком. Свои десять лет он получил за то, что застрелил в армии сослуживца. Никакйе льготы ему не полагались, под амнистии он не попадал. И вот на исходе срока наступила полная депрессия.
— Мне уже тридцать лет... Зона забрала лучшие годы. Ни профессии нет, ни здоровья. Семья наша бедная... Куда пойду, кому я нужен?
— Не уже тридцать, а только тридцать,— я попытался его поддержать.
— Какая разница. Сейчас, чтобы уважаемым человеком стать, обязательно институт закончить надо. А где взять денег?
— При чем здесь деньги?
— Не прикидывайся, прокурор. Поступаешь учиться — плати, учишься — плати, диплом защищаешь — еще больше плати. У нас в Казахстане так положено.
Такие откровения от выходцев с Кавказа и Средней Азии мне доводилось слышать постоянно, оспаривать их не имело смысла. Но я все-таки поинтересовался:
— Какой же институт ты выберешь, если все сложится нормально?
— На журналистику хочу... Я, между прочим, стихи пишу,— вдруг оживился сосед.— Почитать?
Отказывать пошедшему на откровенность Рыскалиеву было неудобно, и я, покривив душой (страшно хотелось спать), согласился. Стихи были искренними, но примитивными. В памяти осталось четверостишие:
Свобода, свобода, свобода.
Я так долго ждал тебя.
И когда ты меня встретила у входа,
Слезы навернулись на мои глаза.
— Молодец,— похвалил я.— А ты на казахском пробовал писать? — Мне подумалось, что Рыскалиев прочитал вольный перевод с родного языка.
— На русском у меня лучше получается. Язык красивый — как звон падающего золота,— неожиданно по- восточному цветисто и образно сказал он.
— Что же, дерзай. И выбрось из головы дурные мысли. Три месяца осталось, а ты раскис. У тебя еще все впереди.
— Не знаю, как их прожить, эти девясносто дней,— вернулся к началу разговора сосед.— Думаю, думаю, голова раскалывается.
— Утро вечера мудренее. Давай спать.
Сосед продолжал что-то бормотать, а я, повторив про себя строчку «свобода, свобода, свобода», забылся тяжелым сном...
Прибирая утром постели, мы сталкивались с Рыска- лиевым в узком проходе между шконками. Обычно это вызывало раздражение, но на сей раз он был настроен мирно. Видимо, прочитав стихи, он снял с души груз, а моя похвала стала, пусть маленьким, но подспорьем в его трудной жизни.
Один на один со своею бедой остался в прошедшую ночь другой несчастный, недавний солдат- афганец. Его нашли висящим на балке под крышей литейки.
ООП
— Мы с ним вчера чай пили,— растерянно говорил сосед по казарме.— Побазарили, как обычно... Никогда бы не подумал, что он на такое решится.
— А за что он сидел?
— У него сто восьмая была, вторая часть... Тяжкие телесные... Восемь лет.
— Двадцать три года всего, жалко. Что он видел?..
— Много! А в Афгане сам стрелял и в него стреляли. Ранение было...
— Искалечили парню психику... За что воевал, ради чего убивал?.. Вернулся домой — драка... Потом сюда, на зону... А здесь не лучше, чем в Афгане...
— Помню я его, симпатичный такой паренек... На соседнем пролете работал...
— Может, наркотики?..
— Не исключено. Там они все эту отраву пробовали.
— Экспертиза покажет...
— Да, скоро прокурор приедет, ждут его.
— Что, до сих пор не вынули из петли?
— Нельзя. Вдруг его внизу прикончили и только потом подвесили?
— Абсурд. Как ты труп под самую крышу заволочешь? Сам он расплевался с этой поганой жизнью.
— Слабак!
— Побежденным смертью нет стыда. Стыдно тем, кто сдался ей без воли...
— Брось ты эти афоризмы. Откуда ты знаешь, что погнало его в петлю?..
— В чужую душу не заглянешь. Может, захотел парень освободиться от всей этой скверны и...
— Все это ваши интеллигентские домыслы. Смотрите на вещи проще: мужик подломался в Афганистане, а впереди — восемь лет особняка. Кем он выйдет отсюда?.. Правильно — калекой... А кому он после нужен?! Зона любого доведет...
— Самоубийств и на воле достаточно. Недавно какой-то журнал впервые дал статистику по Союзу. Самый черный год — 1984-й. Более восьмидесяти одной тысячи добровольно покончили с собой. Представляете? Целого города не стало... Кошмар.
— Все равно, если брать в процентном соотношении, в тюрьмах и лагерях самоубийств больше. Может, только армия конкуренцию составит.
— Потому что и тут, и там, в войске, человек подневольный.
— Да весь наш Союз — зона особого режима. Куда ни сунешься, всюду рогатки, как на медведя. А те, что наверху, охотники, сидят да посмеиваются. Захотят — в зоопарк посадят, моча в голову ударит — на войну пошлют. А в основном принудительно пахать заставляют. В человеке человека душат — вот что самое страшное.
— Зато распинаться на весь белый свет любят: наше общество, мол, самое гуманное и справедливое; у нас нет социальных причин для самоубийств... А теперь, между прочим, все больше подростков и стариков добровольно на тот свет отправляются. Почему?.. Пацаны не видят никакой перспективы, пенсионеры — за чертой бедности. Зато песня есть хорошая: «Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет...» Что ни слово, то наглая ложь! Семьдесят лет лапшу на уши вешают, и все сходит. Страна дураков!..
Так от трагического случая перешли к излюбленной теме — духовной гнилости высшего руководства, к бесправному положению рядового человека. Дискуссия могла продолжаться бесконечно, но вот уже по цеху замелькала фигура младшего лейтенанта — сменного мастера, засуетились бригадиры и контролеры.
— План, мужики, план. За работу,— покрикивал мастер.— Труд облагораживает человека...
— Превращает его в обезьяну,— мрачно бросил кто- то из штатных остряков.
— Чтобы быстрее забраться под крышу и повеситься,— дополнил другой.
В эту смену работа валилась из рук. Все казалось, что вверху раскачивается в петле солдат-афганец.
Вечером непривычно тихо было в столовой, подавленно молчали мы и в казарме. Лишь кто-то с верхней койки вспомнил:
— Недавно солдата-охранника током убило. Полез в распредительный щит чай искать, его и долбануло.
— Нашел о ком жалеть... Туда ему и дорога! — резко оборвали его сразу несколько человек.
— А еще пять мужиков тормозной жидкости хватанули. В транспортном цехе,— не унимался летописец несчастий.
— Да заткнись ты, сучий потрох! Кончай базар! — гаркнули на него со всех сторон.
Казарма затихла. Лишь доносился глухой кашель, чье-то невнятное бормотание во сне, сдавленный стон больного, страдающего от приступа язвы.
— Боюсь, что и я не выдержу,— прошептал с соседней койки Рыскалиев.
— Будь мужиком, батыр. Три месяца — не десять лет. Вытерпишь.
— А если невтерпеж, иди на очко,— добавил чей-то грубый бас.— И без твоего нытья голова раскалывается... Дайте покемарить. Завтра снова пахать до упора. Слышали, что мастер кричал?.. План надо давать.
Но назавтра цех явно не справился с планом. Всех взбудоражила новость: опубликован проект нового Исправительно-трудового кодекса. Причем источник информации был самый что ни на есть надежный — сам начальник отряда. Он даже журнал назвал одному из своих приближенных — «Сознание и правопорядок».
— Туфта это все. Нет такого журнала,— возражали скептики.
— Есть, он ведомственный, для работников ИТУ выпускается.
— Все равно не верю. Сначала надо УК и УПК изменить, а потом уже Исправительно-трудовой.
— Отстал ты от жизни, новый Уголовный кодекс вот- вот опубликуют...
— Сказка про белого бычка... Обещали так называемую гуманизацию, а гайки закручивают все туже. Так и теперь. Какой дурак откажется от дармовой рабсилы?
— Ты же сам говорил, что в Москве сидят одни дураки.
— Свое они не упустят. Кто же их кормить будет, весь этот разбухший аппарат? Может, думаете, зоны распустят, колючку разгородят? Скорее рак свистнет...
Пессимист, а им оказался Жданов, продолжал напористо:
— Вот прошло тысячелетие крещения Руси. Патриарх Алексий II обращался и к Горбачеву, и в ЦК КПСС, и в Президиум Верховного Совета, чтобы объявили амнистию. И что? Кукиш с маслом! Кого-нибудь из нашей зоны выпустили?.. Так-то, мужики. На коммунистов надежды никакой нет.
Жданов прижимал к стене фактами, но нам не хотелось расставаться с появившейся надеждой. Многоопытные юристы (а их было немало в колонии) делали благопритяные прогнозы. Если либерализуют статьи Уголовного кодекса, то многим из нас можно надеяться если не на амнистию, то хотя бы на условно-досрочное освобождение. Закон в данном случае был нашим союзником, приобретал обратную силу в сторону смягчения наказания.
— Не могут же наверху не понимать, что время обманов прошло. Раз сказали на XIX партконференции, что «для правового государства главное состоит в том, чтобы на деле обеспечить верховенство закона», значит, надо выполнять собственные установки...
— Бумага все стерпит. Посмотрите, скоро сбудется предсказание Платона о «близкой гибели того государства, где закон не имеет силы и находится под чьей-либо властью». Это точь-в-точь про нас, про нашу страну.
— Можно думать, что вас, горе-теоретиков, кто- нибудь захочет слушать. А наш отрядник тем более. Ему наплевать и на Платона, и на всех нас. Вот кинет каждому по выговору — и будете молчать в тряпочку. Он борзеет с каждым днем, и все сходит с рук. А вы о законе, о правах базарите,— поставил всех на землю Жданов.
И в этом он был, к сожалению, прав. Режим содержания в колонии ужесточился. Отряды наглухо изолировали один от другого: все дыры в заборах тщательно залатали; на дверях и воротах навесили новые цепи и замки; увеличилось количество дежурных из числа активистов колонии... Администрация тайно поощряла доносительство, предоставляя «шестеркам» новые льготы. Дышать — в прямом и переносном смыслах — становилось все труднее.
Не приходилось ожидать ничего хорошего и от собрания, на которое в один из вечеров созвал нас отрядник. В ленкомнату барака сходились со своими табуретками, шумно рассаживались. Вскоре в небольшую комнату набилось около ста человек.
Старший лейтенант дождался тишины и начал традиционно:
— Значит...— В зале заухмылялись. Но отрядник, будто не замечая слова-паразита, повторил: — Значит, так. Опубликована новая доктриальная модель Исправительно-трудового кодекса. Наше правительство, ЦК КПСС стремятся как можно быстрее создать правовое государство и планомерно и целеустремленно проводить в жизнь поэтапные документы... («Реформы!» — раздалось из зала)... поэтапные документы,— настоял отрядник на своем,— с целью дальнейшей гуманизации и демократизации жизни советских граждан. Это УК, УПК и ИТК. В них найдет отражение дальнейшее поступательное развитие наших общественных отношений, закрепятся дарованные Конституцией СССР права и свободы граждан.
— Ничего себе! Уголовный кодекс даст мне права и свободы...
— Зря уши развесили... Очередной треп...
— Какой гуманизм при военном коммунизме?..
— Страна лагерей... В каждом городе или тюрьма, или колония...
— Опутали колючкой!
— Фашистская диктатура!
Отрядник медленно наливался гневом. Одновременно наливалось кровью и его лицо. Остановив взгляд на первом же знакомом лице, выкрикнул:
— Кумадзе! Почему не пострижены?.. Объявляю вам выговор!
— Меня же не на строевой смотр позвали... Обещали демократизацию, а тут — выговор...— дерзко ответил грузин.
— Молчать! Распоряжение начальника не обсуждается... Сейчас вызову наряд и отправлю в ШИЗО!
— Между прочим, в карцер только хозяин имеет право посадить,— послышалась ехидная реплика.
— Был бы рапорт, а место всегда найдется,— ответил ему сосед.
— Прекратите базар. Я трачу на вас время, разъясняю, какие меры принимает правительство, чтобы улучшить жизнь советских граждан...
— Оно уже улучшило, загнало за решетку миллионы людей...
Начальник отряда еще более повысил тон:
— Я читаю важнейший документ советского правительства. Кто нарушит тишину и порядок, будет строго наказан.
л.Как бы ни проклинал я свою работу упаковщика, насколько бы тяжелой и грязной ни была она, но сравнивать ее с формовкой было бы грешно. В литейный цех ссылали всех неугодных (ссылка в заключении!), он был широкоформатной газовой камерой, откуда для многих один выход, одна дорога — на безвестный погост. И вот в этом рукотворном аду второй месяц вкалывал на машинной формовке земляк Анатолий Лукьяненко. Корпуса наших цехов находились рядом, и перед съемом, если совпадали смены, мы частенько встречались у лопатки. Анатолий открыто завидовал мне.
— Счастливчик. Месяца не побыл в литейке и смылся. И как это тебе удалось?
— Хочешь жить — умей вертеться.
— Не темни, Валера. И на больничке уже побыл, и ограничение получил. Что-то у тебя все гладко идет, как по щучьему велению.
— Капля камень точит. Долбил, долбил, вот и пробил брешь. Только ты не думай, что я в рай попал. Ящики в полцентнера далеко не подарок. Руки отрываются, живот лопается. Посмотри, на кого я стал похож?! Скелет, тень прошлого Сороко. А ты еще выглядишь, как огурчик...
— Да, огурчик. Из таких огурчиков нам рассольник варят. Провонял весь копотью, из легких углекислый газ добывать можно. И грыжу скоро наживу... Конец приходит.
— Рано сам себе похоронку выписываешь. Анализы мочи сдавал?
— Дважды... Зря только палец порезал... Не верит врачиха, что у меня почки больные. (Лукьяненко по моему совету добавил в мочу несколько капель крови. Когда-то и меня научили этому способу.)
— Продолжай утверждать, что тебя терзает боль, что теряешь сознание.
— Врачиха назначила сеанс из десяти уколов. Мало, что я на работе всю таблицу Менделеева глотаю, и тут еще какой-то химией пичкают...
— Ничего, уколы безвредные, хуже не станет. Но ты все равно говори, что литейка гробит тебя.
— Пустой номер. Еще запишут в симулянты, сидеть да сидеть... Тогда уж точно никаких льгот не будет.
— Трус не играет в хоккей... Хочешь загнуться в литейке, ну и сиди, как мышь под метлой... А я тебе дело советую. Пиши, жалуйся, барабань во все двери... Даю еще один совет. Слушай меня внимательно. Строчи телегу на имя начальника санчасти Воробьева. Так, мол, и так, «гражданин начальник, я, осужденный Анатолий Лукьяненко, неоднократно обращался к вашим подчиненным с заявлением, что страдаю болезнью почек. Назначенный ими курс лечения совершенно не эффективен, болезнь обостряется, а я продолжаю трудиться в литейном цехе, подрывая свое здоровье. Прошу вас провести комиссионное обследование и выдать ограничение на тяжелый труд или отправить на стационарное лечение в Свердловскую больницу. В противном случае я вынужден
буду обратиться к прокурору по надзору или в вышестоящие органы МВД»... Дерзай, юноша,— закончил я диктовать.
— Звучит, конечно, неплохо,— согласился Лукьяненко.— Только не наживу ли я себе врага, этого самого Воробьева?
— Опять ты за свое! Ну какой ты белорус, если боишься любого начальника, как пуганая ворона?! Хуже литейки быть не может, а ты дрейфишь. Уверен,— добавил я в голос металла и бодрости,— что ты скоро пойдешь этапом в Свердловск, на больничку.
— Попробую,— вяло проговорил Анатолий.— Как бы чего не вышло...
В это время открыли лопатку, и наши отряды нестройными колоннами пошли к своим казармам. Спустя три дня земляк благодарно пожал мне руку:
— Ты настоящий друг, Валера!
— Что, получил освобождение от литейки?
— С этим пока глухо. Другая радость. Я, как ты и советовал, обжаловал иск, который висел на мне из-за пропавшего обмундирования. Помнишь, я рассказывал, что, когда меня арестовали, из дома пропали все мои милицейские шмотки. Суд повесил их на меня, а я про них и знать не знал и не знаю сейчас...
— Надо было еще потребовать, чтобы дело по розыску вещей возбудили...
— Так я все и сделал. Пришла бумага, что иск отозвали, значит, высчитывать не будут. Хоть отовариваться, наконец, смогу. Часть вещей нашли... Вот только про возбуждение дела ни хрена не пишут...
— Я думаю, что поделили твои вещи,— убежденно сказал я.— Что же, им теперь против себя начинать дело?.. Не с руки как-то...
— Это их беда, главное, что я теперь буду богатеньким, как Буратино,— совсем по-мальчишески радовался Анатолий.— Спасибо тебе, земеля. Что бы я без тебя делал?.. Головастый ты мужик!
Он льстил прямо в глаза — искренне или нет, разбираться тогда я не стал. Но еще более важной для меня была положительная реакция на заявление Лукьяненко. Значит, можно прорваться сквозь бюрократический частокол, есть пусть и небольшая, но возможность доказать свою правоту.
— А что я тебе говорил,— не показывая виду, что доволен сам, нарочито безразлично ответил я.— Между прочим, у тебя есть вариант наполовину скостить срок. В приговоре не все гладко в эпизодах с повторным хищением боеприпасов. На соплях подвешено все, нет аргументации, насколько я помню.
— У тебя не голова, а Дом правительства,— уважительно посмотрел на меня Анатолий.— Даже детали помнишь, будто это твое дело, а не чужое.
— Какое же оно чужое, если мы земляки? Помнишь, как в «Маугли»? «Мы с тобой одной крови, ты и я...»
Теперь довольно улыбнулся Лукьяненко: я поставил его на одну доску с собой, признал своим. Но упоминание книги Киплинга его немного смутило:
— Там про зверей, а мы ведь люди...
— Молодой ты еще, Толя. Про самых что ни есть человеков там написано, про нас с тобой. Про верность, про взаимовыручку.
— У меня диплома о высшем образовании нет, не доучился,— попытался замять неловкость земляк.— Вернусь домой, наверстаю.
— Вот и хорошо. Вырвемся отсюда — надо догонять набирающий ход трамвай. Мы и так потеряли много времени.
Анатолий сосредоточенно молчал, обдумывая что-то важное, потом попросил:
— Не бросай меня, Валера. Освобожусь — буду надежным помощником. Я добро хорошо помню.
Признаюсь, я даже немного растерялся. У меня самого множество нерешенных проблем (наипервейшая — досрочно освободиться), а земляк уже просится в компаньоны. Не желая разочаровывать Лукьяненко, помедлив, сказал:
— Дай вначале встать на ноги. А что касается помощи, то она нам обоим нужна в равной мере.
— Ты опытнее, быстрее с людьми сходишься... Тебе проще, а я на перепутье.
— Хочешь, чтобы я поводырем был?..
— Нет, меня за руку водить не надо, кое-чему обучен. Жизнь, сам знаешь, успела «приласкать». Но с тобой мне как-то надежнее...
— Хорошо, Толя. Но чтобы в будущем не было никаких неясностей и недомолвок, давай договоримся: все дурные привычки надо оставить в прошлом...
— Понятно... Ты имеешь в виду вот это? — он щелкнул пальцем по шее.— С этим, с пьянкой, завязано. Я себе зарок дал. Не кому-нибудь, а себе, понимаешь?..
Не хочу быть себе врагом, хватит, что водка меня сюда привела. Сыт по горло!..
— Подумай, ты не на собрании. Публичные клятвы никому не нужны...
Анатолий медленно, почти по слогам, произнес:
— Я никогда больше не возьму в руки стакан с водкой. Память о жене не позволит мне этого.
— На том и порешили,— постарался закончить я трудный разговор.— А начнем работать, появятся другие радости. Мы их, по-моему, заслужили. Не такие уж потерянные мы люди, правда, Толя?
— Вот так бы начальство колонии думало,— не поддержал бодрого тона Лукьяненко.— А то смотрят, как Ленин на буржуазию... Гляди, уже какой-то бугор подозрительно косится, чего это зэки из разных отрядов не могут никак расстаться?.. Пойду я к своим, пожалуй.— И он пристроился к колонне своего отряда.
«Расклеился парень,— сочувственно думал я, глядя на ссутулившуюся фигуру Анатолия.— Ему бы чуть удачи — смотришь, воспрянет духом».
И эта удача пришла. Когда я на следующий день заглянул в литейку, чтобы увидеть земляка, его напарник сообщил, что Анатолия вечером забрали на этап в свердловскую больницу. Я был доволен и за него, и за себя. Все-таки это именно по моему настоятельному совету Лукьяненко писал бесчисленные жалобы и заявления, добивался, чтобы его отправили на стационарное лечение. И достиг своего. Теперь у него появились реальные шансы вырваться из литейки, избавиться от губительной для здоровья формовки. Ну а я на несколько баллов повысил свой авторитет, что также немаловажно в колонистской жизни.
Мою вполне обоснованную на этот раз саморекламу («для внутреннего пользования») прервал голос формовщика:
— Твоя фамилия Сороко?
Получив подтверждение, он негромко, чтобы не услышали соседи, хотя в цехе и стоял невообразимый грохот, произнес:
— Лукьян оставил тебе передачу. Подгреби после смены к лопатке.
«Молодец, Толя. Не забыл мою просьбу. Я обронил как-то, что собираю публикации о кооперативах — их уставах, профилях, льготах, предоставляемых им, о конфликтных ситуациях. В общем, он запомнил, что меня эти проблемы интересуют. И вот по горячим следам подобрал нужное мне. Значит, всерьез думает о будущем».
Вечером я был у лопатки. Нужного мне человека позвали быстро. По многолетней зэковской привычке он оглянулся по сторонам, быстро достал из-под робы небольшой сверток и просунул его сквозь толстые прутья ворот. Также молниеносно я спрятал передачу под ватник. Ощупывая сверток, гадал, что в нем может быть. То, что это не газетные вырезки, определил сразу. Сувенир от Лукьяненко имел форму небольшого куба, но с мягкими гранями. Внутри что-то похрустывало.
— Чай там,— подмигнул мне связник.— Лукьян сказал, что это подарок к твоему дню рождения. Он на больничке будет, сам поздравить не сможет. Так что выпей за свое и его здоровье!.. И меня можешь пригласить,— добавил на прощание.
— Приходи! На Новый год.
Но тот уже торопился к бараку: на улице набирал силу мороз, а доброхот выскочил на встречу в одной робе. Пошел к себе и я. Не скрою, на душе было приятно. Лукьяненко не только не забыл о моем тридцатисемилетии, но и приготовил очень дорогой подарок — пачку чая. Ни одна, даже самая обеспеченная валюта не котируется на зоне так высоко, как чай. Он неприменное действующее лицо во всех сделках, договорах, нередко аферах. Каждый уважающий себя зэк обязан иметь в заначке контейнер (пачку чая), чтобы было чем при случае угостить кореша, кента, земелю. Заварить чифирь (пятьдесят граммов чая на поллитровую кружку) и пустить его по кругу — обязательное условие любого сходняка, собирающегося на зоне. От чифиря садится сердце, чернеют зубы, разрушается печень, но это для гурманов дело десятое. Главное — кайф: прилив сил, чувство всемогущества и вседозволенности, недолгий в своем отчаянии кураж. Мне приходилось несколько раз пробовать черный, будто деготь, напиток, потерявший от чрезмерной концентрации свой аромат. Даже два-три глотка доводили пульс до бешеного темпа, сердце рвалось из грудной клетки наружу, казалось, что на нем остаются синяки от ударов об ребра... Неимоверно трудным был отход после такого чаепития: затылок наливался свинцом, ломило в висках, все время подташнивало. Поистине самоубийственное занятие. Но это — единственная услада для людей, привыкших на свободе к ста граммам водки или дозе наркотика.
Меня Бог миловал и на воле, и в колонии от этого пагубного пристрастия, хотя чай я любил и в добрые старые времена, и здесь, на зоне. И потому подарок Анатолия Лукьяненко пришелся кстати. Действительно, приближался Новый год, а с ним и мой день рождения, третий и, как я надеялся, последний, встречаемый мной за решеткой. И я хотел поднять кружку крепкого душистого напитка (не чифиря!) за мое возвращение домой.
О доме, о ставшем родным Минске, о малой родине — небольшой деревушке на Витебщине, думалось все чаще. Вопреки всем неудачам во мне с каждым днем росла и крепла уверенность, что не за горами минута, когда прозвучит долгожданная фраза: «Сороко! С вещами на выход!» И я, поспешно сдав зэковскую робу, торопливо влезаю в висящий на мне мешком, но цивильный костюм, запахиваю полы ставшего свободным пальто, нахлобучиваю шапку и навсегда покидаю проклятый Нижний Тагил. Двое суток — и я в Беларуси, смотрю из окна на милые сердцу перелески, вслушиваюсь в распевную речь, узнаю знакомые станции. И дышу — не могу надышаться пьянящим, чистым воздухом свободы. Чаще всего это грезилось во сне и утром. И, слыша хриплый кашель соседей, я несколько мгновений не мог понять, где я нахожусь, настолько сильно держали меня в плену ночные видения.
Все иллюзии рассыпались, стоило открыть глаза: вокруг небритые хмурые физиономии, по казарме перекатывается разноголосый многоязычный гул; первый глубокий вздох, и сам начинаешь кашлять — спертый кисловонючий воздух забивает легкие. Не легче и на улице, по дороге на смену. Там наглядно убеждаешься, чем ты дышишь. Полнеба занимает розовое зарево — это коксовые батареи сделали очередной многотонный выброс углекислого газа; будто обгоревший лес, подпирают небо трубы металлургических заводов; с ними соперничает городская котельная, нещадно дымя черными клубами. Ядовитый букет газов ежедневно преподносят жителям Тагила его кормильцы-предприятия. Эпицентр этой душегубки — восточная часть города, и как раз здесь находится спецколония. Выползая после смены из загазованных цехов, обреченные на медленную смерть заключенные жадно хватают ртом морозный воздух, надеясь на облегчение, но взамен кислорода получают новую порцию отравы.
Многослойная удушающая пелена никогда не спадает с Нижнего Тагила. Город, отметивший в 1972 году свое двухсотпятидесятилетие, берет начало с поселений каторжников, которых ссылали в этот дикий суровый край на медные рудники. Царский любимчик Демидов широко развернул здесь горнорудное и металлургическое дело, ему требовались новые сотни и тысячи людей. И они шли сюда этап за этапом, гремя кандалами. Демидовская вотчина превратилась в город, вначале примостившийся, а после разросшийся на отрогах Восточно-Уральских увалов, в долине реки Тагил. Будто сторожа, окружили его горы Высокая, Лисья — остаток древнего вулкана, Белая, Широкая. Продуть природную впадину, провентилировать ее невозможно, и люди задыхаются в этом дьявольском котле. Некогда девственно-чистая тайга, окружавшая город, превратилась в могильник деревьев, величественные горы изрыты карьерами, изуродованы... Человек все-таки покорил гордую природу. Но цена этой победы слишком дорога — сотни, тысячи загубленных жизней и столько же, если не больше, потомков этих «победителей», родившихся с неизлечимыми болезнями. А многим вообще не удалось увидеть белый свет — они умирали в утробе матери... И вот это Богом проклятое место, как и встарь, было выбрано местом заключения бывших сотрудников право- охранения. Перевоспитывать так перевоспитывать...
Однообразные лагерные будни расшатывали психику, как медленнодействующий наркотик. Терялось ощущение реальности, все чаще накатывала апатия, изредка прерываемая бурными, немотивированными взрывами злости. Затем тяжелый отход, самобичевание и вновь погружение в беспросветную мглу. Мы превращались в роботов, хуже того — в манкуртов, получеловеков-полу- животных, забывших о прошлом, о близких людях, послушно выполняющих чью-то злую волю. Выжимала последние жизненные соки изнурительная работа, давило хмурое свинцовое тагильское небо, не отпускали различные болезни и хвори. И неотступно преследовала, тяжело ворочаясь в воспаленном мозгу, одна и та же мысль: «За что?..» За что эти муки, это унижение, кому нужно, выгодно, чтобы я и тысячи мне подобных, далеко не самых глупых людей, могущих принести гораздо больше пользы и себе и другим, прозябали в таких скотских условиях? Прошкины, Сухановы, борисовы, андреевы, кабановы — это лишь мелкие сошки, пусть даже с какими-то регалиями и чинами; они — исполнители, кто поспособнее, кто потупее, но исполнители заказа... И становилось совсем невмоготу, когда приходил к такому однозначному выводу, когда упирался в непробиваемый серый монолит, имя которому — Система. Опускались руки, гасла еле тлеющая надежда, душу охватывала ледяная пустота.
Безысходность сквозила во всех разговорах, редких доверительных беседах, даже яростных спорах, вспыхивающих время от времени в переполненных казармах. Как бы ни отстаивали мои соседи порой диаметрально противоположные точки зрения, какие бы доводы ни выдвигали для аргументации своей точки зрения, сколько и каких бы примеров ни приводили в доказательство своей правоты, а к финишу дискуссии приходили к общему знаменателю: Система требует все новых и новых жертв. Без них она рухнет. Лишь устрашая, принуждая, наказывая, Система держится на плаву. И чем больше невинных людей будет осуждено, тем легче управлять остальными: каждый должен постоянно ощущать свою никчемность, беззащитность, бесправность. Любое слово, не говоря уже о действии, идущее вразрез с «генеральной линией»,— это уже. крамола, «подрыв основ». И место в лагере, за решеткой, обеспечено. Мрачная шутка — был бы человек, а статья найдется — возникла не на голом месте...
— Вот я получил червонец, а за что толком и не знаю,— в откровенную минуту сказал мне как-то хабаровчанин Костин.— И не подумай, что я темню... Дело прошлое: суд прошел, жалобы мой заворачивают, так что никаких иллюзий у меня нет, на отмену приговора не рассчитываю...
— Темнишь — не темнишь... Дело твое. Но в знаменитую банду во главе с Косом ты входил?.. В прессе о вас сколько писали...
— Ты Коса не трожь. Если кто совсем не виноват, так это он. Надо было найти главу приморской мафии — вот и выбрали его. Вернее, жребий на него выпал. Несчастливый.
— Выгораживаешь начальника?..
— Его не надо выгораживать. Его сам обвинитель на суде, прокурор, почти оправдал. Представляешь: исключил аж тридцать эпизодов!.. Хотя я этих прокуроров, честно говоря, самих всех пересажал бы.
— Так уж и всех?!
— А что ты.думаешь? Плюнешь в прокурора — попадешь в преступника. Это факт...
— Круто берешь... Но ты про Коса не досказал...— Меня, не скрою, интересовал этот человек, история, главным героем которой он оказался. Встречая практически каждый день Коса с горделивой осанкой и уверенной походкой, я испытывал двоякое чувство. Хотелось, во-первых, понять, что заставило начальника отдела Хабаровского УВД возглавить преступную группу и, во- вторых, как удалось ему в лагерной обстановке сохранить, хотя бы внешне, свое достоинство. Он и отталкивал и привлекал, являясь для меня загадкой.
— Повторяю: Кос ни в чем не виноват! — отрубил мой собеседник, Костин.— Пойми: судили не его, а его должность!
— Загадками говоришь...
— Это же проще пареной репы: кто-то должен был ответить за бардак, который творился в крае. Вот и сделали Коса козлом отпущения. А когда вся явная «липа» облетела, осталось в приговоре только злоупотребление, халатность и притянутое за уши пособничество в сбыте ворованного. Тут контора чисто сработала: подсунула улики, от которых Кос не смог отмазаться. А вообще-то все обвинения против него — сплошная туфта. Но семь лет выписали, иначе нельзя было.
— Вполне достаточно...
Костин согласился:
— Не то слово! До черта и больше!.. И я понимаю суд, хотя и не согласен ни с одной строчкой приговора. Что было делать, если из тысячи двухсот — тысячи трехсот человек, работавших в органах внутренних дел, уволили четыреста, то есть треть, а шестую часть привлекли к уголовной ответственности? Надо же было найти им «крестного отца», руководителя. Остановились, как говорят, на кандидатуре Коса. Тем более, что мужик он непростой, неуживчивый...
Костин был готов защищать и защищал Коса, как старшего брата. И я даже удивился такой убежденности и запальчивости. А он, уловив немой вопрос, быстро пояснил:
— Все наше дело шито белыми нитками. Раздули, раззвонили, чтобы самим назад ходу не было. А мы, большинство из нас, сели ни за понюх табака.
— И ты?
— Конечно! А насобирали мне, между прочим, на целый червонец!..
— Богато живешь!
— Куда богаче... Вот скажи: может служить вещественным доказательством обнаруженное у меня дома служебное оружие, если нет протоколов ни обыска, ни изъятия?
— Погоди... А протокол осмотра, постановление о приобщении к делу, о том, что оружие считать вещественным доказательством, есть?
— Ни хрена нет!..
— Откуда же оно тогда появилось?
— Такой же вопрос я задал и на суде. В ответ — ничего вразумительного. Тем не менее, я — «участник вооруженной бандитской группы»...
— Жаловаться надо.
— Бесполезно. На все мои жалобы ноль внимания... Теперь дальше, раз ты бывший прокурор, законник...
— Не подкалывай...
— Я всерьез. Так вот, что сказано в УПК о протоколе судебного заседания, если он не подписан судьей?.. Действителен или нет?
— Смотря что там написано, зафиксировано. Если ложь, ты при ознакомлении можешь внести свои замечания. А отсутствие подписи судьи — техническая погрешность.
— Но в УПК, мне говорили, записано, что в таком случае дело должно идти на доследование...
— Мелочевка все это, секретарь ведь подписала. Из-за этого не стоит копья ломать. Тем более, когда ты признал свою вину...
— Не полностью, вернее, частично,— нехотя ответил Костин и задал очередной вопрос: — Вот меня два года содержали в изоляторе КГБ, причем в одиночке. Это законно?
— И меня не минула чаша сия, побывал в СИЗО Комитета, и тоже в одиночке. Но на это специальная санкция прокурора нужна.
— Ладно. А на психику мою воздействовать можно?
— Все зависит от того, что ты имеешь в виду,— осторожно заметил я, вспомнив, что и мне пытались «пришить» психическое воздействие на Адамова, моего подследственного.
«Кормить» меня психотропами можно? — не отставал Костин.
— Нет!
— А вот, оказывается, можно. У КГБ есть на это разрешение.
— Чушь. Только лечащий врач может разрешить применение таких препаратов. И только в исключительных случаях.
— И все?..
— Ну, еще если обвиняемого в тяжком преступлении направили на стационарную судебно-психиатрическую экспертизу. Убийцу, насильника, например. Тогда в малых дозах врачи стражного отделения могут применить растормаживающие средства. Чтобы определить, был ли человек вменяем, когда совершал преступления, может ли он отвечать за свои поступки. Но для этого столько разрешений и резолюций собрать надо, что ты и представить себе не можешь... А чтобы в милиции или пусть даже в КГБ этим занимались — исключено. Полнейший запрет!
— Плюют они на эти запреты. Тем более, что наше дело было под контролем у самого Громыки, тогда Председателя Президиума Верховного Совета СССР, или, по крайней мере, его заместителя. А они могли все разрешить, лишь бы мы «раскололись»...
— Слабо верится, сочиняешь...
— Обижаешь, коллега. На своей шкуре, на своем организме испытал, что это такое... В глазах темнеет, как вспомню!..
Костин затянулся сигаретным дымом, затем аккуратными кольцами выпустил его изо рта. Подождав, пока дым растает, он тяжело вздохнул и спросил:
— Рассказывать, что ли, дальше? — И увидев мой утвердительный кивок головой, продолжал:
— Кололи меня без всякого сожаления. Приходили в камеру и загоняли иглу то в вену, то в мышцу. А потом начинали допрос...
— Кошмар!
— Не то слово... Что я им говорил, толком не помню. Скорее всего то, что им надо. Но самое страшное — это отход, реакция организма после уколов. Представить себе это трудно — надо пережить... Ломает всего, выворачивает наизнанку, язык во рту не помещается, голова раскалывается. Ждешь не дождешься, когда опять придут и укол вшпилят...
— Это же наркомания!..
— Вот тут ты прав. Так за два года привык, что дня прожить без такого кайфа не мог.
Хабаровчанин снова закурил, сделал несколько глубоких затяжек, закашлялся.
— Когда надо выбить показания, они на все пойдут...
— Если ты говоришь правду, то твоих следователей можно садить на скамью подсудимых. На твое место. За злоупотребление служебным положением и еще за кучу нарушений. Срок — до десяти лет.
— Как же, подкопаешься к ним! Знаешь, есть такой институт имени Сербского?.. Чей он, кому принадлежит, тоже знаешь?.. Тогда чему удивляться: он же ве-дом- ствен-ный! Нашего с тобой бывшего ведомства. А это значит: что хочу, то и ворочу. Да, к тому же, большинство врачей из этого института — сотрудники КГБ.
— Так уж и большинство...
— Не сомневайся. А кто диссидентов в психбольницы загонял? Кто их^ дурными делал?.. Вот так-то, друг мой!.. И нет разницы — простой он врач или профессор... Все из одной кормушки кормятся...
Спорить с Костиным было трудно, и я промолчал. А сосед не мог остановиться:
— Посадили они меня на иглу однажды, а следователь и шепчет: «Ты совершил сорок шесть ограблений...» Я и повторяю, как попугай, а вся эта галиматья в протокол заносится. И этот же гад после ко мне с ножом к горлу: «Рассказывай о сорока шести грабежах!» А они, понимаешь ли, даже нигде не зарегистрированы, не зафиксированы. Не было их в природе, понимаешь, не бы-ло! Никто не заявлял, не жаловался, свидетелей нет, потерпевших нет! А от меня требуют: «Давай подробности, давай адреса!» Где я их возьму? Из пальца высосу?.. Ну, а раз упираюсь — тогда «получи деревня трактор»!.. Почку отбили, не работает...
— Кто отбил?.. Где?
— Комитетчики, в изоляторе. Чтобы подтвердил «показания». У меня даже бумага официальная есть.
— Какая бумага?
— Самая настоящая — заключение Свердловского областного управления Минздрава, что «отрыв почки произошел от механического воздействия, относящегося к 1985 году». А в это время я «отдыхал» в изоляторе КГБ. Вот такие пироги...
— В чем же дело? У тебя есть полное право подать на твоих мучителей в суд, привлечь их к уголовной ответственности за причинение тяжких телесных повреждений. Тебе и карты в руки...
— Скажу больше: я подсчитал, что за эти три года, что я за решеткой, мне должны возместить семнадцать тысяч рублей за потерю здоровья. И зря ты думаешь, что я сижу сложа руки. Жалобы мои есть и в прокуратуре Свердловской области, и в КГБ, но... стучусь в глухую стену. Никто не возбуждает уголовное дело, никто не вызывает на допросы, никто не интересуется. Правда, приезжал сотрудник из местного КГБ, взял у меня объяснение, и на этом все заглохло. Боюсь, что навсегда.
— А ты стучись выше, в Москву... Правда же за тобой...
Костин криво ухмыльнулся:
— Нашел у кого правду искать? Что они — себе враги?.. Команду-то они из Москвы получали, оттуда наше дело раскручивали. Так что буду ждать, пока не выйду. Но зато потом,— он сжал кулаки,— они у меня землю будут грызть, на коленях ползать. Просто так не отделаются...
Новая сигарета задымилась в зубах у Костина, руки начали чуть подрагивать. Глубокие затяжки, видимо, успокоили рассказчика, он улыбнулся через силу:
— Правда, до этой поры еще дожить надо. Но ничего, я жилистый, вытерплю.
— В чем же ты себя признал все-таки виновным?.. Семь лет просто так не выписывают...
— А, ерунда, если по большому счету...
— Что, секрет?
— Никакой тут тайны нет. Я признался, что знал об убийствах, которые совершали работники органов, но не сделал все возможное, чтобы об этом знало руководство края.
— Знал, но не предупредил, не доложил?..
— В общем, так. Но и тут у меня отмазка есть: я дважды приходил к заместителю прокурора области и требовал записать мои показания об этих преступлениях. Но меня просто выгоняли: крыша, мол, у парня поехала, в сумасшедший дом ему пора...
— Кто-нибудь это подтвердил?.. Не сумасшедствие, конечно, а твои показания?..
— Да, одна работница прокуратуры. Но только, повторю, никому до этого дела нет. Раз попался — не чирикай. Мне так и сказали: моли, мол, Бога, что к вышке не приговорили, мелочевкой отделался.
— А что, и высшая мера кому-нибудь была?
— По приговору двоим вышак, но после вроде на тюремное заключение изменили. А вот недавно Белозеров рассказывал, что ехал в «Столыпине» вместе с Совреем, моим подельником... Так вроде бы того везли в свердловскую тюрьму на расстрел...
— Где Хабаровск, а где Свердловск? Что-то далеко везут, чтобы лоб зеленкой намазать...
— Ия так думаю, что нечего мужика через всю Сибирь тащить, чтобы к стенке поставить. Тем более, что в Хабаровске эту «операцию» на месте проводят. Я сам в изоляторе работал, знаю.
— Но в вашей компании, как я читал, никого из СИЗО не было...
— Я перед арестом в участковые инспекторы перешел...
— Так в погонах и забрали?..
— Нет, тут целая комедия была. Когда начали дело раскручивать, я сам пришел в УВД и бросил удостоверение на стол... И ушел. Несколько месяцев был без дела, даже не знал, уволили меня или нет. И сейчас не знаю, какая запись в трудовой книжке... Но это так, к слову. А забрали меня... с мусорным ведром. Только собрался я его вынести во двор, как врываются в квартиру несколько потных «мальчиков»-кагебистов с пистолетами в руках. Две «пушки» мне под ребра: «Вы арестованы!» А меня смех разобрал, настолько все это на комедию смахивает. Я хохочу, жена в обмороке, дочь плачет... Как в плохом боевике... Приволокли в изолятор КГБ, и первое, что слышу, дикий вопль Соврея: «Ленка, Лена! Меня расстреляют, я жить хочу! Доченька, прощай!»... Меня как раз мимо его камеры проводили... Может, специально, чтобы я раскололся побыстрее... Они на такие фокусы мастера...
— Может быть...
— Не может быть, а точно!.. И Соврея этого они наркотиками закормили. Толковый был мужик, грамотный, деловой. А отсидел у них десять суток под арестом (санкция прокурора была), сдвинулся малость. Ничего ему предъявить не могут — выпускать надо. Привели на последний допрос, спрашивают: «Что, надеешься на волю выйти? Ничего не выйдет! Вышак тебе грозит! Пиши лучше повинную, если жить хочешь!» В общем, взяли на пушку. А он и поплыл, пошел в сознанку, все, что сказали, сам и написал... А прокурор, между прочим, санкцию в то время не продлил, не было оснований... Так что сам себя мужик угробил... Вернее, с их, комитетчиков, помощью...
— Виноват же, причем тут их помощь...
— Дело настолько темное, что до сих пор никто не знает, где правда, а где накрутка... Что ему в камере Яша внушил, один Бог, вернее, черт знает.
— Какой Яша? Ты что-то заговариваться начал, как после наркотиков...
— Мой агент Яша, я его сам вербовал. Вор, шулер, садист, самый настоящий подонок, пробы негде ставить. Так этого Яшу в камеру к Соврею подсадили, чтобы обрабатывал... Страшнее соседа и придумать нельзя, только в кошмарном сне присниться может...
— Что же вербовал такого?
— На таких «кадрах» вся агентура держится. Им цены нет. Где кража, где «замочили» кого — все Яша знает.
— А к Соврею зачем подсадили?
— Наивняк ты. Он и «напеть», что надо, мог, и припугнуть. Что потребуют, то и сделает. Жить и ему надо. Только я, когда на прогулке был, крикнул (он в соседнем дворике был), чтобы Соврея не трогал.
— Ну и что?
— Обещал. Знал, что со мной шутки плохи. Передал бы на волю или на зону, что он за птица, и кранты ему. Такое не прощается...
Рассказывать о своем деле Костин, судя по всему, мог бесконечно. Мне, правду говоря, уже начали надоедать подробности, которые он извлекал из своей памяти. И тут мне на помощь неожиданно пришел недавно появившийся на зоне земляк — Виктор Соколов. С ним меня познакомил все тот же Николай Ком, бывший в курсе всех происходящих в колонии событий.
— Удели несколько минут, Валера,— обратился он ко мне, заметив, что я тягощусь разговором с Костиным.— Помощь требуется.
Я деланно нахмурился, извиняясь, развел руками и оставил Костина.
— Что, выручил? — понимающе улыбнулся Соколов.— Смотрю, ерзаешь, крутишься, вертишься, а уйти не можешь.
— Психолог ты...
— Не психолог, а психиатр,— поправил меня Виктор.— Хотя в принципе разницы большой нет...
Тут я вспомнил, что Соколов действительно врач- психиатр, окончил, по его словам, ординатуру. В общем, квалифицированный врач, который может пояснить, что было в рассказе Костина правдой, а что досужим вымыслом.
— Дай справку, психолог-психиатр! Применяются у нас психотропные средства или это сказки?
— Вопрос, конечно, очень интересный,— снова улыбнулся Виктор.— Тебя, что ли, кололи?
— Меня, слава Богу, нет. А вот он,— я кивнул в сторону койки, на которой остался Костин,— утверждает, что и его, и его подельников накачивали наркотиками. Правда это?
— Вполне может быть. И я, бывало, этим занимался.
Если просили. '
— Кто просил?
— Ваш брат, следователь. Кто же еще?
— А какое ты отношение к нам имел?
— Самое прямое. Я же сначала в «Новинках» работал, в республиканской психиатрической больнице, а потом — в Могилеве, в спецбольнице МВД БССР.
— И кого же ты лечил там?
— Известно, кого: тех, кого суд признал психически больными.
— Постой, постой! Разве это вправе делать суд? Здоров человек или нет, определяете вы, врачи, точнее, консилиум специалистов высокого класса.
— Не придирайся. Все мы в одной связке. Иногда вам нужен документ, что ваш подследственный дурак. Что, не бывало такого? Ну, и конечно, лежали у нас больные, которых нельзя содержать в обычных психбольницах,— склонные к агрессии, к убийствам. Так что все путем, не сомневайся.
Случайная или умышленная оговорка Виктора о том, что иногда спецбольница может дать «нужную» справку, напомнила мне, за какие грехи попал он в Тагил — за взятки в особо крупных размерах. Дорого, значит, стоят эти справки... Но меня интересовало другое.
— Кроме хронических больных у вас, насколько я знаю, бывали и наши подследственные. Я сам, к примеру, направлял своего Адамова в «Новинки», в стражное отделение...
— Так точно, гражданин следователь! Это также является функцией спецбольницы. Что вас конкретно интересует?
— А интересует меня, гражданин Соколов,— в тон ему продолжил я,— Какие средства вы применяете к такого рода пациентам?
Соколов не стал темнить.
— Самые современные. Ведь мы вели и научно-исследовательскую работу. А на ком же опробовать новые препараты, если не на ваших клиентах? Самый подходящий контингент. Жаловаться никуда не будут, если что случится...
— Как это понимать?..
— При экспериментах всякое случается... Может наступить и летальный исход. Наука требует жертв.
— И они были?
— Вот на этот вопрос разреши не отвечать,— твердо сказал Виктор.— Врачебная тайна. И служебная, я все- таки в органах работал, в системе МВД.
— Да не нужны мне ваши секреты. Я вообще интересуюсь...
— Могу сказать так: всякое случается на неизведанном пути,— обтекаемо сказал Соколов.— Только одно знаю четко: работать там интересно, практика богатая, возможности еще шире.
— То-то за вас международные организации взялись,— съязвил я.
— Что было, то было,— не стал отпираться земляк.— В 1979 году Советскому Союзу пришлось уйти из всемирной ассоциации врачей-психиатров и невропатологов. Держали в психушках неугодных властям людей. Диссидентов, в первую очередь, правозащитников. В нарушение всех законов, естественно. Вот и выперли нас.
— По делу?
— Я же сказал: выперли. А началась перестройка, Горбачеву неудобно стало, надо было думать, как успокоить зарубеж. И вот, наконец, в этом году передали спецбольницы из системы МВД в Минздрав. Во всяком случае, такое решение есть. Но только я в эти перемены мало верю.
— Почему?
— Посуди сам: спецбольница наша в Могилеве находится на территории местного СИЗО. Что же, гражданские лица будут разгуливать по тюрьме?.. Не стыкуется все это...
— Тебе виднее... Ты специалист...
— Бывший, но, говорили, что неплохой.
— От скромности ты не умрешь, это уж точно.
— На скромных воду возят, надо знать себе цену.
— Но не завышать ее...
— Брось свои подколки, земеля. Свои грехи я лучше всех знаю. Не надо лишний раз напоминать,— обиделся Соколов.— Я к тебе с открытой душой, а ты...
Я в самом деле почувствовал себя неудобно. Виктор, получивший срок за взятки, видимо, давно уже проклял тот день, когда вступил на этот скользкий путь, а тут мое напоминание...
— Ты не обращай на меня, дурака, внимания,— дружески толкнул я его в плечо.— Язык мой — враг мой.
— Признание вины смягчает наказание,— принял мое извинение Соколов.— Тем более, что ты сам назвал себя дураком. В общем, мой пациент.
— Пусть будет так,— согласился я.— Тогда скажи мне, дураку, можно ли применять твои лекарства без твоего ведома?
— Как правило, нет.
— Но исключения бывают?..
— По правде — сколько угодно!
— Каким образом? Ведь психотропы, наркотики на спецучете, каждый укол должен регистрироваться, фиксироваться.
— Мало ли что у нас должно делаться... Кто мне, скажем, помешает записать, что я вроде бы дал укол, и передать ампулу следователю? Все зависит от личных контактов...
— Значит, такое реально?
— Конечно же, наивный ты человек! А почему это тебя так заинтересовало?
— Костин говорил, что его в изоляторе КГБ насильно кололи наркотиками, растормаживали.
— Вполне возможно. Комитетчики — ребята деловые. Они и без нас, врачей, любой препарат достать могут. У них свои каналы... Но лучше с ними не связываться. И не болтать про эту контору,— добавил он, оглянувшись по сторонам.— У них и здесь уши могут быть.
— Ты прав,— согласился я и добавил: — Рассказать анекдот?
— Гони. Соскучился по хорошим анекдотам.
— А. и Б. сидели на трубе. А. кричал, права качал, Б. работал в КГБ...
ЧТО ГОД ПРИШЕДШИЙ МНЕ ГОТОВИТ!
Когда я начинал долгий путь из Риги до Нижнего Тагила, скитался по этапным тюрьмам, сторонился и, чего греха таить, опасался уголовников-бытовников, придумывал и рассказывал попутчикам легенды о своем криминальном прошлом, спецколония виделась мне чуть ли не землей обетованной. Оказаться среди бывших коллег (пусть и осужденных), сбросить маску, отпустить сжатые в кулак нервы, не чувствовать косых и угрожающих взглядов, в конце концов, просто поговорить по душам — эти обычные желания обычного человека наконец-то сбылись. Да — за колючей проволокой; да — в переполненном бараке; да — под надзором все той же охраны и собак; да — в грохочущем и дымном цехе; да — за миской пустой баланды... Но — не в одной камере с убийцей, который и тебя готов пришить лишь за то, что ты работал следователем; но — не с растлителем малолетних; но — не с бывшим полицаем; но — не со всеми этими петухами, опущенными, двинутыми, стебанутыми, занюханными... Конечно, и мы — БС — были виноваты, каждый успел нагрешить, вольно или невольно преступить закон, однако понятия о чести и достоинстве у большинства из нас сохранились, опускаться на дно никто не желал. В тринадцатой зоне уши и голова начали отдыхать от похабнейшей нецензурщины, хотя крепкие выражения «для связки слов» не были редкостью. И главное, что как-то скрашивало нелегкий лагерный быт,— это бесконечные разговоры, даже многочасовые дискуссии. Скажу честно: когда я сидел в камерах изоляторов, то порой с ужасом думал о том, что начинаю тупеть. Теснота, спертый воздух, скудная тюремная пайка, убогие запросы сокамерников исподволь превращали в безразличное ко всему животное, чьи интересы замыкаются на «пожрать» и «пос...».
Тагильская публика заплесневеть не давала. Истории из своей юридической практики, примеры, взятые из специальной литературы, из периодики (благо, библиотека в колонии была довольно неплохой) — все это обсуждалось долгими вечерами, переосмысливалось, примерялось к собственной судьбе. Работал, так сказать, клуб по интересам, который позволял поддерживать надлежащую профессиональную форму. Чаще всего, повторюсь, этот клуб открывал свои заседания после смены и ужина, перед отбоем, когда за стенами барака трещали уральские морозы. Но порой кому-либо не терпелось сделать «доклад» и прямо с утра.
Однажды после подъема, еще заправляя койку, Белозеров громко, чтобы слышало побольше соседей, сообщил:
— Вчера я впервые познакомился с интереснейшим документом — Всеобщей декларацией прав человека.
— Ты сорок лет по ней живешь, между прочим,— ехидно заметил Богов.— Если не ошибаюсь, в 1948 году ее приняли.
— Краем уха о Декларации все слышали, и я тоже... А вот своими глазами увидел впервые, причем в какой-то непонятной газете «Советская молодежь» называется.
— Это орган ЦК комсомола Латвии,— показал я свою информированность.— Когда в Риге суда ждал, иногда приходилось читать.
— Вот-вот, в какой-то занюханной газетенке тиснули Декларацию, а центральная пресса будто бы и не знает о ней. А по идее в каждом доме она должна быть, как Библия.— У Богова с утра было плохое настроение, что, впрочем, случалось довольно часто.
Но эти злые реплики не сбили Белозерова со взятого курса.
— Слушайте и умнейте,— он достал из тумбочки сложенный в несколько раз газетный лист, расправил его и, перекрывая утренний гомон, провозгласил: — «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать друг к другу в духе братства».
— Ты еще, может, Кодекс строителя коммунизма вспомнишь?.. Как там? «Человек человеку — друг, товарищ и брат», что ли?.. Только в тюрьме, в лагере и говорить на эту тему... Здесь каждый на соседа волком смотрит, готов в любую секунду пакость сделать, свинью подложить, начальству накапать. О разуме и совести
здесь забыли все — и мы, зэки, и наша доблестная стража. За кусок сала отца родного продадут...
— Зачем же всех под одну гребенку? — Не согласился Битарашвили.— Разве мало таких, кто попал сюда случайно?
— Случайно не попадаются. Случайно остаются на ноле,— стоял на своем Богов.— Им и рождаться.надо в тюремной больничке, а не в городском роддоме. Вот недавно приехала к Микулову жена на свидание. Думала муженька порадовать — как-то смогла обдурить охрану, пронесла бутылку водки. Так что этот подонок сделал, знаете?.. Сразу же на полусогнутых к начальству, к оперу. И заложил собственную жену, отдал бутылку. Вот, мол, какой я честный, дисциплинированный. Характеристику зарабатывает, гнида, досрочно выйти хочет...
— А если они с женой заранее договорились, разыграли сцену?.. Ей что? Ну, отправят домой, зато он раньше выскочит... Вариант?
Моя версия поставила Богова в тупик, и он стал просчитывать, мог ли Микулов додуматься до такого хитрого хода. Воспользовавшись паузой, Белозеров продолжал цитировать: «Каждый человек имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность».
— Есть такая восточная пословица,— подключился к разговору Айропетян: — Сколько ни говори «лукум», во рту сладко не станет. Так и с этой Декларацией. Все это лишь красивые слова, шелуха, пустая трескотня. А на деле... Вы на своей шкуре ощущаете, как наша родная советская власть соблюдает все эти принципы. Превратили полстраны в рабов, а нас — в первую очередь.
— Здесь как раз о нас и сказано,— Белозеров нашел нужный абзац: — «Никто не должен содержаться в рабстве и в подневольном состоянии».
— Мы не то, что рабы. Мы рабы рабов,— снова взвился Богов.
— Согласен с тобой,— поддержал Тулбу.— Разве толковый хозяин стал бы использовать меня, у которого высшее строительное образование, на каких-то подсобных работах? Или поставил бы кандидата экономических наук изо дня в день закручивать гайки? Это же под силу обезьяне! При Сталине и то разумнее распределяли зэ- ковскую силу. И конструкторские бюро были, и институты, так называемые шарашки...
— Ни хрена, мужики, вы не понимаете,— как обычно, агрессивно вступил в спор Жданов.— Дело не в уме или дурости наших хозяев. Это их политика. Если использовать наши способности, причем не только здесь, в зоне, но и на воле, по назначению, то куда деваться самим этим хозяевам? Они Же занимают свои кресла не потому, что умнее нас или грамотнее. По чужим спинам прорвались к власти, и вот теперь их оттуда ничем не выкуришь. Зачем им конкуренция?.. Вот согнали нас в стадо, за проволоку, наголо остригли, одели в одинаковые робы, обезличили и заставляют пахать на себя. А чуть кто в сторону подастся, того кнутом, палкой... Так и перегоняют из загона в загон!
«Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, унижающим его достоинство, обращению и наказанию»,— снова подбросил тему из Декларации Белозеров.
Битарашвили, закончивший разглаживать складки на и так идеально заправленной постели, слез с табуретки (его нары были на втором этаже), попросил «лектора»:
— Не травил бы ты с утра душу. И так жить не хочется, а ты о высоких материях...
— Нет, почему?! Это они хотят сделать из нас скотов, не думающих роботов,— ткнул пальцем куда-то вверх Айропетян.— А мы живые люди. И думать они нам не запретят. Вот ты сказал, что жестокость незаконна, так? — обратился он к Белозерову.— А знаешь, что я слышал от одного генерала, причем на большом совещании? «Заключенный коварен, жесток и опасен. И поэтому не должно быть никакого снисхождения, никакой жалости». Как это согласуется с Декларацией, а?..
— Наша пенитенциарная система вырабатывалась веками,— медленно выговорил заковыристое слово Тул- бу.— И она еще долго будет существовать. Во всяком случае, при нас ее не изменят...
— Сказал бы проще: система уголовного наказания,— поморщился Жданов.— Но я хочу сказать о другом. Ты в корне не прав, что мы унаследовали старые порядки. Тюрьмы, лагеря, колонии взяли только самое худшее, что было в царские времена. Тогда только отпетых уголовников заставляли пахать в рудниках да шахтах. А сейчас открыли целые производства, где используют дармовую зэковскую рабсилу. Все знают, какие «энтузиасты» строили Беломорканал, Магнитку...
— А чем отличается БАМ? — не остался в стороне
Гнатюк, поднявший глаза от носка, который он старательно штопал.— Этих показушных «комсомольцев- добровольцев» на пальцах одной руки пересчитать можно. По телевизору их показывают, в газетах про них пишут, ордена им вручают. А вкалывает, долбит эту вечную мерзлоту, купается в болотах, кормит комара и мошку наш брат — зэк... Теперь вот за Ямал взялись, газ или нефть там добывают... Первопроходцы, конечно, зэки... Сами себя огораживают, сами лагеря строят... Да и куда в тундре убежишь...
— Но тебя туда не послали, чего ты расплакался,— урезонил его Нестеренко.
— Нам с тобой и здесь достается. Посмотрим, когда ты отхаркаешься от копоти, которой тут дышишь... Но зато можешь гордиться — помогаешь создавать лучшую в мире боевую технику.— Жданов оставался в своем амплуа.
— Укрепляешь мощь родного государства, самого гуманного в мире,— продолжил начатую тираду Гнатюк.
— И остаешься по-прежнему рабом, бессловесным и бесправным,— подытожил Битарашвили.
— Не скажите, мужики, времена меняются. Я знаю, как трудно сейчас приходится и Горбачеву и его команде, когда речь заходит о правах человека.— Бровин еще раз напомнил нам, что он работал в аппарате ЦК КПСС, ходил в помощниках Брежнева.— О чем бы ни вели переговоры, каких бы проблем ни касались, обязательно эта Декларация упоминается. И тут уж крутиться приходится, никуда не денешься, если с заграницей дружить хочешь. А иначе — от ворот поворот, за один стол никто не сядет. Да и наша внутренняя общественность не дремлет, голос все чаще поднимает в защиту зэков, о нашем содержании беспокоится. Так что перемены будут, мужики.
— Почти как Сталин заговорил...— ухмыльнулся Жданов.— Будет и на нашей улице праздник: так, что ли?.. Держи карман шире! Чует моя душа — зажмут нас еще сильнее. Там, на воле, погоняют ветер и успокоятся. Кто наших доброхотов сюда пустит? Тут хозяин как правил бал, так и будет. А мы будем, как мыши под веником, сопеть в две дырочки. Попробуем рыпнуться — сразу в ШИЗО загремим.
Жданов, озлобленный на всех и вся, обладал способностью одним махом развеять все надежды; все, чего он ни касался в разговоре, сразу приобретало черный оттенок. Переубедить его было практически нереально, но Тулбу сделал попытку:
— Все-таки кое-какие сдвиги есть. В некоторых колониях даже бастуют, и ничего, сходит с рук. Мягче режим становится.
— Это треп для широкой публики, а я уверен, что вскоре всех, кто вздумал права качать, поразбросают по разным зонам, общественников или блатву натравят — и пиши пропало. Будут тянуть лямку до звонка, а то и добавку схлопочут. Не чирикать — вот наша доля! И пахать, как папа Карло! — Жданов привычно выплевывал злые фразы, заводя сам себя.— Вот ты эту филькину грамоту читаешь,— зацепил он Белозерова,— а скажи мне, друг любезный, зачем тебя сюда, в Тагил, привезли?.. Правильно, перевоспитывать принудительным трудом. Но в твоей Декларации сказано (ты читал), что каждый человек имеет право на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда. Так как тут свести концы с концами? Не стыкуется что- то, как ни крути!
— Это относится к тем, кто на воле...
— Но Декларация-то всеобщая! Она и нас всех касается. Допустим, проштрафились мы — наказывайте, но не унижайте, не опускайте до скотов! Кто мне скажет, почему процентов шестьдесят — семьдесят всех приговоров обязательно предусматривают отправку на зону? Что, условного осуждения уже нет или принудработ с проживанием на дому?.. Кодексы и Законы новые приняли?.. Черта с два! Просто выгоднее и удобнее загнать всех за колючку и распоряжаться, как в голову придет... И проводить «воспитательный процесс»... Так, что ли, у них это называется?..
— Так и называется,— подтвердил Годелико, озабоченно оглядывая сапог с отставшей подошвой.— Ты нарушил принципы советской морали и сейчас через труд должен очиститься, заслужить прощение властей и общества. Под контролем администрации.
При упоминании администрации Жданова передернуло.
— Это же сборище ворюг, вымогателей и алкашей. Гляньте на нашего отрядника — сопляк, жизни не видавший. Нацепил погоны с тремя звездочками и уже корчит из себя большого начальника. А то, что он кроме букваря и Устава ничего в жизни не прочитал, что каждое утро от него несет, как из пивной бочки, это что, в порядке вещей?..
— Да не кипятись ты, береги нервы...
— Согласен, наплевать на него! Но ведь от этого забулдыги зависит моя жизнь... Начал он мне мораль читать: раз вы, мол, не записываетесь в общественники, значит, не осознали своей вины, не стали на путь исправления. Аж тошнить стало от такой словесной блевотины. Ну, я ему и выдал все, что думаю о нем и его прихлебателях. Набрал в актив шестерок, которые готовы мать родную и детей продать, и хочет меня в эту компанию затянуть. Да я себя уважать перестану, если руку кому из них подам!
— Зато они раньше домой уйдут,— меланхолично произнес Годелико, убедившийся, что сапоги текущему ремонту не подлежат.
— Выйдут и снова начнут грабить, убивать, детей насиловать.
— В нашей колонии таких почти нет...
— Да я не про нас. Про ту публику, которую пригнали из других зон, про бытовиков. Они тут специально в активисты лезут (наших не очень заставишь), а потом идут на досрочку. И вот эти подонки нами командуют...
— Не только они в актив записались,— будто невзначай, заметил Айропетян и выразительно посмотрел на Белозерова. Тот понял, что продолжение разговора на эту тему не сулит ему ничего хорошего (особенно, если за ниточку ухватится Жданов), и перехватил инициативу: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободу выражения их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государства и границ».
Эта цитата из Декларации вызвала новый приступ яростного сарказма почти всех слушателей. Но особенно возмутился опять-таки Жданов:
— Это же писал какой-то современный поп Гапон! Чистая провокация: я вывернусь наизнанку, а меня — под белы руки — ив изолятор КГБ. Хотя я и не очень уважаю всяких диссидентов (умные слишком), но их-то загнали за колючку именно за убеждения... Да и нас это напрямую касается: попробуй что-нибудь сказать о порядках в зоне, напиши о беспределе и бардаке, который здесь творится, сразу срок накинут...
— Не сгущай краски...
— Проще пареной репы. Опер прочитает твое письмо,
не пропустит, конечно. Но на карандаш возьмет. А после придраться к чему-нибудь — это дело техники, как говорят. Не поймешь даже, за что в ШИЗО загремел. Еще трепыхнешься — под суд пойдешь. Что, не прав я?!
— Сейчас с этим сложнее. Вон скоро Горбачев на сессию Асамблеи ООН едет. А она посвящена как раз правам человека,— снова показал свою былую компетентность Бровин.— Так что надо ждать послаблений, а то и амнистии.
— Раскатал губу. Смотри, чтобы новый хапун не начался. Есть хорошая историческая аналогия: в 1936 году приняли Конституцию СССР (конечно, самую «демократичную» в мире), а в 1937-м, сам знаешь, что началось. И после брежневской Конституции, нынешней, всех инакомыслящих поразгоняли — кого на зону, кого за границу.
— Времена другие. Сейчас общими фразами не отделаешься. Да и зачем Горбачеву самому ехать, если не планирует сказать что-нибудь дельное? Поручил бы представителю в ООН или министра иностранных дел послал бы. А так сам отправляется, авторитет свой поднять хочет.
— Мура все это. Попомните мое слово: снова будет традиционный набор фраз о гуманизации, демократизации, либерализации. И конечно, о разоружении, о судьбах человечества, об ответственности перед будущими поколениями. В этом деле он мастак.
Вступать в спор со Ждановым никто не стал, лишь Бровин по инерции заметил:
— Все-таки без чего-то конкретного ему не обойтись. Будут же пресс-конференции, встречи, беседы. Там публика въедливая, просто так не отпустит.
— Ему не впервой. Скажет, что «цифрами не владеет», но, мол, конечно же, «Советский Союз как цивилизованное государство будет делать все для блага своих граждан». И тут переключится на каких-либо сомалийцев, эфиопов, зулусов, которые страдают от голода, засухи или наводнения. А на нашу зэковскую долю придется одна фраза типа: «Идет дальнейшее улучшение системы содержания заключенных, разрабатывается новое уголовное законодательство».
— Не утрируй...
Но Жданова уже трудно было остановить:
— Вот и улучшит систему, только не в нашу пользу — закрутит гайки до отказа. Кто же добровольно
MfTMTtMTTf f*1
откажется от дармовой рабочей силы? Я где-то читал, что на миллиарда полтора сегодняшний ГУЛАГ дает продукции. А это официальные данные, заниженные, конечно... Так что ждать милости от главного перестройщика вряд ли стоит. Не будьте наивными, мужики!
— Крепко в вас всех засела вера в царя-батюшку, который все может,— попробовал примирить спорщиков Тулбу.— Не может один Горбачев при всем желании изменить систему, на которой держится государство.
— Но у нас, запомни, на первом плане интересы как раз государства, а не человека. Мы об этом добрых полчаса говорим. Кому какое дело до винтиков, надо чтобы машина крутилась. А винтики — это мелочь, их миллионы. В любую минуту заменить можно, а отработанные на свалку выбросить. Как нас.
— Если винтики все время менять, вся машина простаивать будет...
— Наша родная страна и топчется на месте. После революции, в гражданскую войну самых молодых да умных пустили под нож. Результат — разруха, голод, нищета. Немного окрепли, руками зэков провели индустриализацию — всех инженеров врагами народа сделали. Сколотили армию — расстреляли офицеров. И Гит- лера к Москве и Волге пустили. Выиграли огромной кровью войну — попавших в плен и побывавших за границей отправили на Колыму. Появились разворотливые хозяйственники — под суд их, за хозяйственные преступления. Открыли рот инакомыслящие — в психушку, в дурдом, в ссылку, а то и вообще вон из Союза... Весь мир, все страны собирают умных людей, платят им огромные деньги, а тут травят собаками самых талантливых...
— Что ни говори, мужики, а перемены должны быть,— вклинился в разговор я.— Уже пресса стала раскручивать такие дела. Вот в «Огоньке» прочитал большую статью. «Время на размышление» называется...
— Скрутят они и прессу, перекроют кислород этой гласности,— отмахнулся Жданов, не дав мне договорить.
— Не так просто. Весь мир теперь знает, а это уже кое-что...
— Давай, рассказывай, что ты там вычитал,— заинтересовался Гнатюк.— Может, когда пригодится. Запас беды не чинит.
— Ты лучше в своей судьбе покопайся, тоже на десять статей хватит,— упорствовал Жданов.
— Не мешай! — остановил его Гнатюк.— Пусть прокурор говорит.
— ...Доктора технических наук Болонкина судили в 1973 году. В обвинении было аж 47 (!) пунктов. Как же: говорил об отсутствии в Союзе демократических свобод, о том, что люди преследуются не за преступные действия, а за убеждения, что строй наш — партийная диктатура.
— Правду говорил,— вставил Битарашвили.
— Вот за эту правду и припаяли ему четыре года строгача и два года ссылки...
— Пожалели еще. Могли бы и больше,— прокомментировал Жданов.
— ...Этапировали в Мордовию. Публика в лагере была самая разная: и власовцы, и сектанты с уголовным уклоном, и такие же, как Болонкин, пострадавшие за преждевременную гласность...
Жданов обрадовался:
— Вот видишь — за гласность...
— Да не перебивай ты,— уже зло сказал Гнатюк.— Комментатор нам не нужен.
— ...Болонкин стал штатным клиентом ШИЗО — то пуговица на робе незастегнутой была, то опоздал в строй, а однажды отказался грузить из морга покойников... После трех отсидок в ШИЗО попал в ПКТ...
— Круто мужика прихватили,— посочувствовал Битарашвили.— Прямая дорога на тот свет.
— ...Решил повеситься. Потихоньку начал распускать робу, нитку за ниткой. Но тут то ли повезло, то ли наоборот — роба оказалась настолько старой, что нитки сгнили. И веревка не выдержала.
— А он еще на советскую власть обижается. Жизнь ему -спасла,— не удержался Жданов.
— Побойся Бога, над чем смеешься?! Продолжай, Валерий...
— Чтоб не дергался, решили добавить ему срок. Все было обставлено по высшему разряду: собрали подписи сорока человек, что он на зоне ведет антисоветскую пропаганду. Пообещали червонец. В общем, считай, пожизненно, потому что Болонкину уже было 55 лет. Срок он, конечно, не дотянул бы...
— Сам виноват, не лезь на рожон.
— ...Тут гебешники, почувствовав, что он надламывается, подкинули идею: «Покайся — и все будет в порядке, отпустим тебя». Согласился!..
— Сыграло очко!..
— Надо дослушать,— оборвал я Жданова.— Самое интересное только начинается. Перевели Болонкина на месяц в больничку, подкормили, подлечили и решили показать его «раскаяние» по телевизору. Выдали по этому случаю накрахмаленную сорочку, французский галстук, парадный пиджак с чужого плеча. Правда, на заднице остались тюремные штаны, а на ногах — старые керзачи. Телевизионная камера должна была до пояса его показывать. А оператор взял да снял его полностью... Болонкин после освобождения тонко подметил: «Молодцы эти телевизионщики. Придумали символ эпохи застоя: одна половина в пиджаке функционера-бюрократа, другая — в штанах и сапогах зэка».
— Вот это прокол у комитетчиков,— заметил Гнатюк.— Наверное, у многих погоны полетели.
— Не знаю. А Болонкина помиловали в 1984 году, перед ноябрьскими праздниками. Но на этом мытарства его не кончились: на работу не брали, докторскую диссертацию не утверждали... И вот результат — уехал за кордон.
— Не он один...
— Вот это и страшно. Понимаете, даже за время ссылки человек оформил более десятка авторских свидетельств, написал несколько крупных научных работ. Что, такой специалист тут, дома, не нужен? Сама власть провоцирует отъезд, а то и выгоняет, а тогда сетует на утечку мозгов...
— Теперь уж сами признали, что брежневское время — застойное. Правда, и сейчас не лучшее, хотя и называется перестроечным. Не перестраивать, не ремонтировать, а сносить к чертям собачьим надо этот бордель,— выругался Жданов.
— Смотри, какой умный! Чего же ты раньше молчал, когда на воле был...
— Бесполезно. Не такие, как я, пробовали, рангом повыше... И всех — к ногтю. Сам заместитель Генерального прокурора Союза Найденов слетел с должности.
— Но его же восстановил Андропов...
— Толку-то что. Медунов, первый секретарь Краснодарского крайкома, живет и процветает в Москве. И дача у него, и все спецпайки, и машина. А ведь крал многие миллионы, взятки давал астрономические. Найденов только попробовал его сдвинуть — и получил по шапке. Но этому хоть повезло при Андропове. Ромашова, следователя по особо важным делам, выперли из прокуратуры с волчьим билетом. Чтоб не совался, куда ни положено. И не выдержало сердце у человека — инфаркт и, как говорится, примите наши соболезнования... Куда уж тут мне... Раздавят и не заметят! Что-что, а асфальтовый каток у них всегда в исправности. Есть Жданов — и нет Жданова...
Начав импровизированный диспут на агрессивной ноте, Жданов к концу разговора заметно выдохся и финишировал закоренелым пессимистом. Впрочем, в нем желчь и неверие были его наиболее отличительными чертами. Я, по наивности, попробовал поднять его настроение:
— Быть не может. Придет конец этому беспределу. Пересмотрят дело, все вернется на круги своя.
— На адовы круги,— не принял он моей помощи.— Суд с прокуратурой, как правило, сидят под одной крышей, в одной парторганизации состоят, одному Богу молятся. Как же судья вынесет оправдательный приговор, когда обвинение поддерживает партайгеноссе? А вдруг тот же прокурор опротестует решение суда? Кому охота портить отношения? Что они — враш самим себе? Нет, брат, рука руку моет...
— Кончайте базар,— грубовато прервал нас Гна- тюк.— На работу опоздаете. Пора выходить, вон бригадир уже собрался,— кивнул он на Бровина.
— На труд, как на праздник, надо идти с хорошим настроением,— вымучил шутку бывший помощник Брежнева.
— Да, пойдем зарабатывать справедливое вознаграждение, обеспечивающее достойное существование нам и нашим семьям,— тяжело вздохнул я.
И наш отсек потопал к двери, за которой лютовал уральский мороз.
Интенсивная умственная зарядка, проведенная накануне смены, неожиданно сказалась на результатах работы. С нормой наша бригада справилась на полчаса раньше съема. Упаковав последние маховики в ящики, мы облегченно вздохнули.
— Одним днем ближе к свободе,— удовлетворенно произнес Бровин.
— Или к смерти,— мрачно поправил бригадира Битарашвили.— Полные легкие всякой гадости. Вместо воздуха — пары клея, бензина, краски. Токсикоманами скоро станем.
— На кислородные коктейли рассчитывать не приходится. Производство требует жертв...
— Мы и есть жертвы. Как дикари сжигали своих пленников, так и нас поджаривают на медленном огне. Чем больше мук на нашу долю, тем лучше,— отхаркнув черный липкий сгусток, прохрипел Годелико. Выглядел он совсем плохо: ввалившиеся глаза, заострившиеся скулы и нос, тяжелое дыхание.
— Ничего, вернешься в кубрик, отдохнешь,— утешал его Бровин.
— Пусть врач мой так всю жизнь отдыхает.— Годелико закашлялся, снова сплюнул темный комок.— На человека меньше двух квадратных метров приходится. И вонища. Из сортира несет, рядом шмотки грязные, потные; соседи, будто гороха объевшиеся... Как говорят, из огня да в полымя...— Он зло бросил рваные промасленные рукавицы на рабочий стол, начал стаскивать такого же вида фартук.
— Да, не на курорте. И просвета не видно,— устало опустился на ящик Битарашвили.— К концу смены, как выжатый лимон.
— Как половая тряпка,— уточнил Годелико.— Одна дорога — на помойку. Вместе с проклятыми сапогами.— И он поставил ногу на ящик, демонстрируя всем отставшую подошву.— Второй месяц начальника цеха прошу, чтобы выдали новые...
— Не просить надо, а заявку написать,— назидательно сказал Бровин.— Сделать все официально, по закону.
— А, это как у Райкина в анекдоте: «Принесите справку, что вам нужна справка...» Как будто в банке миллион получать собираюсь: один резолюцию требует, другой — визу, третий — согласование. Распред вообще заявил, что только в следующем месяце могут выдать... Хоть в портянках, хоть босиком ходи... А мне в них,— Годелико резко взмахнул ногой, и подошва показала проржавевшие гвозди,— и на работе топать, и за пром- кой ходить.
— Экономика должна быть экономной,— напомнил очередной лозунг Битарашвили.
— На нас и так экономят. Вкалываем, считай, задарма. Если бы я так на свободе пахал, под тысячу получал бы. А тут на расчетный лист копейки переводят, да еще забирают оттуда за питание, за шмотки эти. На ларек только слезы остаются, еле-еле хватает. А если бы еще по иску платить пришлось? Или алименты, не дай Бог?.. Подох бы с голоду.
— Нам хлеба не надо,— работу давай,— вновь съязвил Битарашвили.— Мы же советские люди.
— Вот и беритесь за дело, уберите площадку,— поймал его на слове бригадир Бровин.— Скоро съем, не опаздывайте.— И направился к выходу.
— Еще одна шишка на ровном месте, без него не знаем, что делать,— проворчал вслед ему я и взял остатки веника. Смел мусор с рабочего стола, прибрал вокруг. Огляделся, со вздохом произнес: — До завтра, родная промка.
— Долго жить будешь, Валерий,— хлопнул меня по плечу Битарашвили.— Кто шутит, у того долгий век, как говорят наши старики...
— А что? Сейчас примем хвойную ванну, побреемся, подкрепимся бифштексами с кровью, запьем красным вином — и...
— Тут скоро красной кровью харкать будешь,— не поддержал нашего тона Годелико и побрел в умывальник.
Отправились туда и мы. И только у раковины я вспомнил, что у меня кончилось мыло. Мечты о благоухающей ванне пришлось оставить — не было даже чем смыть грязь и копоть с лица и рук. Пришлось просить у Годелико.
— Я тороплюсь,— неожиданно отказал он.— Возьми у Павловича.— И быстро вышел из умывальника.
— Плохое настроение у человека, мучает его что- то,— сочувственно произнес Битарашвили.— Бери мое мыло.
— Тоже с гулькин нос осталось,— аккуратно намыливая черные ладони, смущенно произнес я.— А свое уже израсходовал, никак не научусь экономить.
— Как ты его сэкономишь? Один кусок на месяц выдают, разве его хватит? Дважды в день грязь смыть надо? Надо. Кое-что постирать надо? Опять-таки надо. Не будешь же в свинью превращаться. А начальство этого и понимать не хочет. И здесь экономят...
Возвращая обмылок, я спросил:
— Павлович, а как все-таки разжиться мылом? До выдачи еще десять дней.
Битарашвили обыденно произнес:
— За контейнер заварки получишь два куска. Один можешь дать мне.
— Откуда у меня чай? Я не отовариваюсь, не за что...
— За наличные купи, какая проблема?
— Да я уже забыл, как выглядят наличные... Больше двух лет в руках не держал.
Мой собеседник сделал характерный жест пальцами, прокомментировал:
— Шуршат, как прежде. Крутись и услышишь знакомый звук. Не платят здесь — зарабатывай головой. Она у тебя, пока молодой, должна варить. А иначе будешь и грязным, и холодным, и голодным.
Размышляя о том, что имел в виду опытный Битара- швили, я ополоснул лицо, натянул бушлат и заторопился к выходу. По моим прикидкам, до вывода смены из промзоны оставалось минут пятнадцать, и я рассчитывал еще увидеть юриста из Керчи... В последнее время он нес службу на вахте, у огромных ворот, связывающих две части промзоны. Точнее, эти ворота скорее не связывали соседние отряды, а разделяли их, потому что без особого разрешения пройти в них зэки не могли. Вахту несли обычно старики или больные, кому не под силу было вкалывать в цехах. Место это было оживленное, за день здесь переворачивались многие десятки людей, и вахтеры знали все последние новости — и достоверные, и различные слухи. В общем, это был своеобразный информационный центр. Мой знакомый помимо всего имел больше доступа к газетам и журналам, живо интересовался всеми переменами в правосудии. Перестройка, объявленная Горбачевым, предусматривала принятие ряда новых законов, в том числе и касающихся нас, осужденных и заключенных. К тому же все мы надеялись на амнистию — разговоры о ней ни на день не умолкали в колонии. И юрист, конечно же, был в курсе всех событий. Но мне не повезло: источник информации отсутствовал на посту. Незнакомый старик начальственно посмотрел на меня и махнул рукой: мол, уходи, не мешай, не положено ошиваться у ворот.
Торчать на виду без дела и вправду не стоило — администрация этого не любила, и я, поеживаясь от мороза, собрался уже присоединиться к своей бригаде. Но тут увидел Кома. Он, раскрасневшийся и потный, боролся с незнакомым мне парнем. Соперники, покряхтывая и громко сопя, возились на небольшой площадке у стены цеха. Над сплетенными фигурами вился пар, ледок под ногами растаял... Мешковатые ватники, штаны с пузырями на коленях, тяжелые кирзовые сапоги мало напоминали спортивную форму; заводскую площадку трудно назвать борцовским ковром, но азарта было с избытком, как на чемпионате мира.
— Земляк! — окликнул я.— Побереги здоровье, простудишься.
— Ничего! Сейчас я его прихвачу на приемчик,— не глядя в мою сторону, ответил Ком, прерывисто дыша.
— Силенок маловато! — увертываясь, подзадорил спарринг-партнер.
— На тебя хватит! — земляк цепко ухватился за рукав телогрейки, продернул соперника на себя и ловко завернул тому руку за спину.
— Пусти, больно!
— Знай наших! — Ком, вытирая обильный пот, подошел ко мне.— Как я его, а?
— Конечно, зажирел от безделья. Размяться захотелось? — подколол я.— Мне бы твою жизнь и заботы.
— Заботы у нас у всех одинаковые — поскорее выбраться отсюда на волю. А там сила и умение защищаться пригодятся. Мало ли шпаны всякой за наше отсутствие развелось?..
— Ее всюду предостаточно,— вспомнил я свои конфликты и в изоляторах, и уже здесь, на зоне.
— За решеткой, я надеюсь, нам с тобой мало оставаться,— оптимистично заявил Ком.— Надо о будущем думать... Знаешь, у меня из головы не выходит наш разговор о кооперативе. Надо было бы как-нибудь детальнее обмозговать все.
— У меня кое-какие наметки есть,— осторожно заметил я.— Опыта вот только маловато, никогда коммерцией не занимался. Служба такая была — к бизнесу ни на шаг.
— Опыт — дело наживное. К тому же я кое в чем разбираюсь. Знакомые говорят, есть у меня предпринимательская струнка. Давай объединяться. Ты — юрист, законы знаешь, так что эта сторона дела у нас будет обеспечена.
— В общем-то, и друзья меня не оставят в беде, есть настоящие надежные люди,— вновь намекнул я, давая понять будущему партнеру, что нахлебником быть не собираюсь.— Вся загвоздка в том, когда нас освободят. Хотя бы отсюда, из зоны. Заработать бы условно-досрочное...
— Тогда торопись к бригаде! — неожиданно выпалил земляк и, увидев мое удивление, показал в сторону цеха.
Оттуда важно шагал Кос. Деревянный планшет, на котором были записаны наши фамилии, он нес будто министерский портфель. Высоко поднятая голова, полу- прищур безразличных глаз, размеренная поступь, подогнанная по фигуре одежда — все выдавало в нем человека, привыкшего командовать. «Такие нигде не пропадают. И здесь он у власти — устраивает, перемещает, подкупает, обирает... Мафия бессмертна!» — успел подумать я и рысцой побежал к своим, чтобы успеть до прихода Коса. Опоздание к съему считалось серьезным нарушением, при этом съесть провинившегося зачастую помогали сами зэки. Несколько недовольных голосов из-за задержки — и администрация «по просьбе трудящихся» выносит взыскание. Косу, который имел на меня зуб, этого только и надо было.
Пристраиваясь к своей бригаде, услышав строгий голос Бровина:
— С огнем играешь. Не дергай народу нервы, допрыгаешься...
— Деловой слишком...
— Прокурору наплевать на простых людей...
— Многое берет на себя...
— Не научили пока. Нам не долго...
Недовольный ропот продолжался, пока не подошел
нарядчик.
— Становись! — скомандовал бригадир Бровин.
Толпа привычно разобралась по четыре в шеренге.
...Пересчитав нас вслух, не останавливаясь ни на ком
взглядом, Кос отметил на планшете количество и махнул рукой: «Пошли!»
Тяжело волоча ноги, мы вразнобой потянулись к воротам...
Спецконтингент — так официально назывались заключенные нашей колонии,— несмотря на кажущуюся однородность (все бывшие сотрудники правоохранительных органов и так называемые советские и партийные аппаратчики), был довольно пестрым. Надзиратель тюрьмы и секретарь райкома, рядовой следователь и высокий чин из окружения Брежнева, сержант милиции и генерал МВД, водитель «воронка» и начальник областного УВД... Первая волна перестройки ощутимо расшатала бастионы коррумпированной мафии, вольготно чувствовавшей себя при выжившем из ума престарелом генсеке. Судебные процессы сотрясали дышавший на ладан «оплот мира и социализма»; ошарашенная публика не успевала возмущенно ахать, узнавая все новые и новые факты из закулисной жизни властей предержащих.
Здесь, на зоне, к этим «процессам века» относились далеко не однозначно. Многие годы работая в этой системе, являясь кто ее винтиком, кто передаточным механизмом, а нередко и двигателем, мои соседи по казарме, по отряду, по цеху знали гораздо больше, чем авторы громких и сенсационных публикаций. Главное, мы (в том числе и я) могли сравнивать меру наказания, вынесенную представителям правящей недавно элиты, со своими собственными приговорами. И большинство из нас, рабочих лошадок правосудия, могли вспомнить стихотворение одного из белорусских классиков — «Бог не роуна дзеле...»
— Все равны перед законом,— словно продолжая давно начатую дискуссию, растянул рот в саркастической улыбке Битарашвили.— Я, мелкая сошка, следователь райотдела, получил за взятку в девятьсот рублей десять лет, Куроткин за пятьсот рублей — пятнадцать, в соседнем отряде знакомый мужик отхватил десятерик (!) за бутылку водки... Тьфу! — Он сплюнул грязную слюну и зло бросил вентиль, который собирал, в упаковочный ящик.— А вот генерал-лейтенант Иванов, начальник Волгоградского УВД, за сто шестьдесят тысяч отделался тринадцатью годами!.. Как ты думаешь, прокурор, справедливо это или нет?
— Статья резиновая...
Не обратив внимания на мою реплику, Битарашвили швырнул еще одну готовую деталь. Ему, когда он заводился, нужен был не столько собеседник, сколько слушатель.
— Вот посмотри,— он ткнул рукой в глубь цеха.— Видишь, по проходу прыгает Сушков?
Между станками действительно быстро шел, по- птичьи подпрыгивая, бывший секретарь Лазаревского райкома КПСС, шеф пригородов Сочи.
— Он хапнул в десятки раз больше моего, а срок ему — четырнадцать лет. И сумма, конечно, занижена. Взятки — дело тонкое и трудно доказуемое.
— Суду виднее,— вновь неопределенно заметил я, упаковывая наполнившийся вентилями ящик. Пришлепнув ярлык на боковую стенку, отволок готовую продукцию на лифт. Вернулся на рабочее место и обнаружил, что ярлыков — сопроводительных бумаг — больше нет.
— И чем этот филон Карпов занимается? Десять слов написать трудно,— возмущенно произнес я.
— Карп! Сучий потрох! Гони ярлыки! — заорал во весь голос Годелико, работавший рядом с нами.— Зажрался, задницу оторвать от скамейки лень,— уже тише выругался злой молдованин.— Бригадир, разбуди этого подонка,— обратился он к Бровину.
— Сейчас я ему устрою головомойку,— пообещал тот и решительно направился к столу, за которым действительно дремал Карпов, исполнявший обязанности контролера.
Из-за шума, стоящего в цехе, мы не могли слышать, о чем говорили начальники так называемого среднего звена, но что тон был повышенным, сомнений не вызывало. Спустя несколько минут Карпов уже шагал к нам, неся в вытянутой руке несколько бумажек.
— Чек на миллион рублей, чтоб ему пусто было,— опять сплюнул Битарашвили.— Корчит из себя незаменимого специалиста. Еще один дармоед на нашей шее. Ни хрена не делает, а получает, как и мы... Придумали должность для шестерки!..
Карпов сунул мне два ярлыка и пообещал:
— Еще штук пять принесу позже. Занят очень, работы много...
— Это у кого работы много? У тебя? Бумажки перекладываешь с места на место да в носу колупаешь! — взорвался Годелико.
— Не выступай! Вот сейчас проверю, как ты вентиль собрал. Брак гонишь, небось?..
— Да пошел ты!.. Начальник нашелся! Шишка на голом месте!
— Крути, крути свои гайки!
— Я тебе сейчас голову отверну! Зажрался! Слушок прошел, что тебе вместе с нами премию обещали. Не выйдет! Сам пойду к начальнику цеха и заложу, что дрыхнешь целую смену. Ты, между прочим, должен вкалывать вместе с бригадой четыре часа, забыл?
— Не четыре, а один. Это во-первых. А во-вторых, не суй свой нос, куда не следует. Я перед тобой отчитываться не собираюсь! — Карпов медленно поплыл к своему столу.
— И носит же земля такую гниду! Говорят, что это именно он сдал всех мужиков, что проходили по Волгоградскому делу. В том числе и генерала Иванова.
— Кем он был?
— Начальником вневедомственной охраны. Служил до поры до времени большим звездам, как цепной пес, а потом, когда жареным запахло, их же и заложил.
— и сколько ему выписали?
— Ерунду, пять лет. И сумма пустяковая — пятьсот рублей, остальное на подельников переложил... Дурной, дурной, а выкрутился...
Молдаванин попытался приладить маховик, но тот оказался бракованным.
— Бригадир! Скажи ты завхозу, чтобы не принимал дерьмо! — еще не остыв от стычки, он сунул неисправную деталь Бровину.— Я им не ОТК, у меня своей работы хоть отбавляй!
— Сейчас разберемся, не психуй! — И оба пошли в кладовую.
После полученной взбучки неожиданно быстро снова пришел Карпов и принес несколько ярлыков. Я улучил момент, когда мы остались одни, и поинтересовался:
— Ты действительно проходил по Волгоградскому делу?
— Не совсем... Мое дело выделили в отдельное производство. Смех да и только: за пятьсот рублей пять лет. Нашли преступника! Выполнял волю начальства; попробуй, откажись.
— Что, заставляли взятки брать?
— Да какие там взятки?! Как приедут какие-нибудь шишки из Москвы, вплоть до иностранных делегаций, сразу же звонок мне: «Обеспечь прием на надлежащем уровне!» А это означает, что вынь да положь коньячок, водочку получше, балычок, икру. Я и давал команды своим на мясокомбинате, на винзаводе, на рыбокомбинате... На приемы и банкеты меня, конечно, и на пушечный выстрел не подпускали — слишком мелкая сошка для их компании... А оказался в результате крайним, стрелочником.
— Пожалуй, скорее всего это злоупотребление служебным положением, превышение полномочий, а не взятки...
— Об этом и я твердил и на следствии, и в суде... Только все бесполезно, никто и слушать не захотел... К тому же раззвонили сразу на весь Союз, создали общественное мнение... Назад уже ходу не было.
— Если я не ошибаюсь, вашему генералу Иванову инкриминировали создание преступной группы... Брали, мол, взятки в особо крупных размерах. Кажется, речь шла о ста шестидесяти тысячах...
— Туфта все это... Раздули сенсацию, суммы с потолка брали... А на самом деле еле-еле наскребли восемнадцать тысяч, да и то всякую мелочовку по углам искали... Надо же было как-то подпереть материалы предварительного расследования... Они же в прессу попали, звону было... Кто-то наверху заинтересован был в этом шуме. Вот и дали нашему генералу десять лет...
— Он где сидит, здесь, в Тагиле?
— Нет, жена писала мне, что вроде бы вначале в Алма-Ату попал, а теперь в Астрахань перевели. Библиотекой заведует, книжки выдает... Тут заместитель его срок тянет. Вижу иногда.
— Ну и как?
— Что как? Ему не сладко и мне не лучше. Попали под колесо, раздавила жизнь...
— Вот-вот, за что боролись, на то и напоролись.— Эта пословица почему-то пользовалась у БС большой популярностью. На этот раз произнес ее подошедший Белозеров.— Думали, что послаблений ждать можно. А гайки потихоньку закручивались. Да что потихоньку, до отказа зажали. При Хрущеве верхний предел за взятки был, по-моему, шесть лет, а сейчас — пятнадцать... Вот тебе и либерализация, и демократизация...
— Разворовывали страну, а делали вид, что борются с преступностью...
— Зато теперь эта мафия погорела,— злорадно заметил Годелико, вернувшийся от кладовщика.— И зятек брежневский с нами сидит, и работник его секретариата, наш бугор Бровин.
— Бровина не трогай. Нормальный мужик...
— Все они нормальные, пока спят... Брали и крали, не стесняясь...
— Ты не за спиной, а в глаза это скажи Бровину.
— Нужен он мне. У меня своих забот достаточно.
Чтобы не полоскать биографию соседа по казарме и
работе, я перевел разговор в другую плоскость:
— На Чурбанова и его шефа министра Щелокова милиции грех обижаться. С помощью тестя этот удачливый зятек поднял своим подчиненным зарплату, льготы разные выбил. Только вот морально разложил многих — это факт.
— Прямо как в анекдоте одесском,— вспомнил Годелико.— Освободили от немцев Одессу. Встречаются два вора с Привоза: один в армии был, в разведке, второй оставался в Одессе-маме. Фронтовик и спрашивает: «Как тут в оккупации жилось?» А Жорик с фиксой сплюнул и базарит: «Монета была, вино было, девочки были...
Только вот морально хреново себя чувствовали...»
— Если говорить серьезно, то весь этот чурбановский процесс лопнул, как мыльный пузырь. Не по зубам оказался орешек Прокуратуре СССР,— вернулся я к начатой теме.— Вначале самому Чурбанову вменили два миллиона взяток и сто сорок три эпизода. Затем появилась сумма в шестьсот пятьдесят тысяч, на суде обвинитель (!) скостил двести семьдесят пять тысяч, а военная коллегия Верховного суда СССР и вовсе оставила чуть больше девяноста тысяч... Двадцатую часть первоначальной суммы. Нашлись, значит, заступники...
— И подельники его оказались чуть ли не ангелами. Начальник облуправления генерал-лейтенант Сабиров, оказывается, взял не девяносто четыре тысячи, а всего четырнадцать, полковнику Кохраманову вообще скостили больше шестидесяти тысяч и выпустили из-под стражи, оправдали. На свободе и бывший узбекский министр Яхьяев. Видите ли, доследование понадобилось...
— Да, Гдлян и Иванов получили хороший урок,— подключился Битарашвили.— Еще и уволить могут, чтобы не забирались слишком высоко. На многое замахнулись ребята, как бы боком им не вышло.
— Тронуть их не тронут,— возразил я.— Побоятся. Но что у Чурбанова нашлись сильные заступники — это факт. Даже в самой Прокуратуре. И все под видом объективности... (Уже готовя эту книгу к печати, в августе 1993 года, я увидел в газетах сообщение, что президент России Б. Ельцин помиловал Чурбанова, и бывший зять Брежнева получил массу самых заманчивых предложений быть консультантом многих престижных фирм. Старые связи дают себя знать. Но до этого момента было еще долгих пять лет.)
— Вот бы тебе таких заступников,— поддел меня Белозеров.
— Лицом, видимо, не вышел,— отшутился я и уже серьезнее добавил: — Вообще параллель провести можно. Чурбанова, шестерых генералов и трех полковников судили четыре месяца; процесс надо мной и четырьмя моими подельниками шел полгода. Гдляну и Иванову противостояла собственная прокуратура и верховная власть, а в Риге мой следователь Прошкин задавил Верховный суд Латвии. Что с нами церемониться, к ногтю — и все, не трепыхайся, юрист второго класса Сороко...
— А как ты думал? Ты же не родня бывшему генсеку... Скажи спасибо, что больше не дали...
— Да, дождутся они от меня благодарности. Я им еще крови попорчу,— не очень-то уверенно пообещал я, понимая, что сделать это будет архитрудно.
— На хвост соли насыпешь,— съехидничал Белозеров.— Они друг за друга горой стоят. Власть по-прежнему у них, одна шайка-лейка. Одних «ушли», а их дружки как заворачивали всем, так и продолжают. Сам знаешь, как долго того же Чурбанова не давали арестовать, а обыски и вообще начались — смешно сказать — многие месяцы спустя... Все концы обрезал, все драгоценности припрятал... Или личной собственностью этой алкоголички, дочки брежневской, Галины, они вдруг стали. Попробуй, подкопайся...
— Ничего, еще раскрутят их, прижмут хвост мафии.
— Наивный ты человек, хоть и прокурор,— не успокаивался Белозеров.— Вот Бегельман, заместитель Яхья- ева, раскололся, рассказал все начистоту: кто, кому и сколько давал в лапу. И что? Сам получил срок под самую завязку, а его шеф почти выкрутился, дело на доследование отправили. И похоронят все бумаги в долгом ящике. Мафия — она, брат, бессмертна. Знаешь такое слово — мимикрия? Так вот, они приспосабливаются к любой обстановке, выживают при любых правителях. А зачастую и назначают их. Власть — это и деньги, и положение, и возможность крутить так называемым правосудием,— закончил свою тираду Белозеров.
Америку он, конечно, не открыл. Даже у себя в цехе мы каждый день сталкивались с неприкрытым делением на людей высшего и низшего сорта. Почти все теплые места были заняты или бывшими боссами или денежными армянами и азербайджанцами. Шел откровенный подкуп начальства всех рангов. Что попадало в бездонные карманы администрации, сказать не берусь — сам я был гол, как сокол, а что отстегивали другие, держалось, естественно, в строжайшей тайне. Зато подкуп цеховой шушеры — бригадиров, нарядчиков, завхозов — проходил прямо на глазах. Основной валютой был чай. Я как- то прикинул, что даже по относительно невысоким ценам — пять рублей за пачку — южные дельцы выкладывали ежемесячно по сто пятьдесят целковых. Откуда брались в колонии такие немалые по тем временам суммы, объяснить трудно. Ведь по инструкции у заключенного не должно быть ни единой (!) наличной копейки, а в зоне ходили многие тысячи. А администрация делала вид, что ничего не происходит... Невольно напрашивается крамольная мысль, что кое-какие дивиденды перепадают и людям с погонами...
Вот, например, картинка с натуры. За небольшим прессом, штампующим отверстия в прокладках, явно скучает огромный детина с бычьей шеей. Ему бы стокилограммовые бочки таскать или десятипудовую тачку толкать, а он одним пальцем нажимает малюсенькую кнопку... Чтобы, не дай Бог, не отразилось на здоровье, уши плотно закрыты специальными глушителями... Это На- вруз Шукоров, рядовой милиционер из Краматорска. Он с явным пренебрежением смотрит на суетящуюся публику, на пожилых людей, согнувшихся под непомерной тяжестью. Не надо быть следователем по особо важным делам, чтобы понять: место куплено. И попробуй подними, как говорят, голос протеста. Попытался «возникнуть» Дудинский и сразу же получил зуботычину. Его спровоцировали на мелкое нарушение (шестерки свое дело знают) и настала расплата за правдоискательство: десять суток в ШИЗО. Знай свой шесток...
Судьба свела меня с этим Шукоровым поближе. Как-то во время пересменки, когда мы в ожидании построения ежились на улице от крепкого уральского мороза, он неожиданно попросил меня:
— Помоги, прокурор, в долгу не останусь. Хочу выбраться отсюда поскорей. Сил больше нет.
— Переработался? — Не удержался я от подколки.— Здоровье садится?
— Не начинай. Я твое место не занял. Поговорить надо...
— Устаю очень, выспаться не успеваю,— придумал я отговорку, потому что особых симпатий этот амбал у меня не вызывал.
— Чай всю усталость снимет,— напрямую сказал Навруз.
Чифирить я не собирался, но заварка была той валютой, которая выше всего ценилась и ценится на зоне. На нее можно было выменять все, что угодно, и я согласился.
— Приходи в казарму.
— Вот и хорошо. У меня кое-какие бумаги заготовлены. Посмотришь, есть ли за что зацепиться.
Тридцатилетний Нарвуз Шукоров, бывший милиционер Краматорского ГОВД, бывший член КПСС, и его земляк сорокалетний Абдулла Закиев, бывший комбайнер одного из совхозов, бывший член КПСС, изнасиловали шестнадцатилетних девушек Ольгу Д. и Ирину Ф.
Суд наказал каждого из них лишением свободы на одиннадцать лет с содержанием в колонии усиленного режима.
— Как вас, опытных мужиков, угораздило так влипнуть? Что, взрослых баб найти не могли? — Я решил не церемониться с клиентом.
— Ты читай, прокурор. Там все написано. Только
внимательно читай, не торопись. \
История была до банальности проста: великовозрастные дружки возвращались с Краматорского моря. На придорожном шоссе увидели двух девушек и предложили отвезти их домой. Те согласились. Развязка наступила скоро: свернув с дороги, отъехали подальше от глаз людских и изнасиловали попутчиц. Шукоров выбрал себе Ирину Ф., Закиев — Ольгу Д. Затем привезли потерпевших в город, причем были настолько уверены в безнаказанности, что подъехали прямо к дому Ольги Д.
Арестовали их уже назавтра. Приезд юных «путешественниц» видели матери, начались расспросы. Далее все пошло по цепочке: заявление в милицию, поиск машины, определение ее хозяев, задержание, следствие, суд и приговор. Часть третья стосемнадцатой статьи УК УССР отправила любителей острых ощущений за колючую проволоку на одиннадцать лет...
— Пока не вижу, за что можно зацепиться,— сказал я, возвращая Шукорову приговор.
— Я же тебя просил не торопиться. Читай следующую бумагу.
Содержание этого документа заставило меня несколько раз незаметно улыбнуться. Я еще раз убедился, сколь много значат в нашем «правовом» обществе деньги. Донецкий областной суд, рассмотрев кассационную жалобу, снизил срок наказания с одиннадцати до семи лет. При более «детальном» исследовании выяснилось, что изнасилование происходило не в группе, как определил первый суд, а, так сказать, индивидуально. Обе пары находились на расстоянии пятидесяти метров, мужчины не сговаривались, не оказывали друг другу содействия. К тому же ранее не были учтены положительные характеристики, выданные Шукорову и Закиеву; они впервые привлекаются к уголовной ответственности. А мой клиент и вовсе получил подарок: потерпевшая Ирина Ф. устами своего законного представителя попросила высокий суд убавить срок, поскольку никаких повреждений ей нанесено не было, отрицательных последствий не наблюдалось, здоровье не пострадало. И еще — Ирина вспомнила, что Навруз не был инициатором преступления, он пошел на поводу у более старшего Закиева. Вдобавок, ей стало известно, что отец Шукорова, ветеран и инвалид Великой Отечественной войны, очень нуждается в уходе своего любимого сына. Против такой массированной атаки устоять было трудно...
— Считай, повезло,— заметил я.— Таким добрым суд бывает редко.
— Повезет, когда я отсюда выйду. Помоги, отблагодарю,— вновь подчеркнул Шукоров.
— Тебе и так скостили четыре года...
— Что эти четыре года?! Почему я должен вообще сидеть?! Я не знал, что эта девка несовершеннолетняя. Понял?
— Это уже кое-что... Давай подробнее...
— У меня и мысли не было, что эти дуры совсем молодые. Все у них, как у настоящих баб. А эта моя, Ирина, как села в машину, так сразу сказала, что студентка юридического института. Не шестнадцать же ей лет, как ты думаешь?
— Она это подтвердила следователю, в суде?
— Кто ее разберет? Сразу говорила одно, потом другое... Она вообще никуда заявлять не собиралась; уже спала с мужиками. А ее подружка даже лечилась в венерическом диспансере. Еще те шлюхи...
— Ты не отвлекайся...
— Мать Ольги шум подняла. Дочка на учете состоит, а она все кого-то винит. Так вот, Ольга на следствии показала, что она сразу предупредила, что обе они несовершеннолетние. А я не слышал этого. Магнитофон включил с колонками, музыка гремела... Тут еще мотор забарахлил, некогда мне было прислушиваться. А если я не знал, что она малолетка, значит, умысла попробовать «свежа- тинки» у меня не было... Понимаешь, к чему я все это говорю?
— Да, возможна переквалификация...
— Это мне от тебя и надо. Только написать надо грамотно...
Честно говоря, я испытывал внутреннее сопротивление. Даже учитывая, что девицы, несомненно, были сами во многом виноваты, но Навруз и его друг Абдулла заслуживали того, что получили. Не думаю обвинять всех кавказцев, но самодовольство и хамство многих из них перешло все допустимые границы, в отношении к женщинам особенно. И тем не менее пусть простит меня высоконравственный читатель, жалобу в Президиум Верховного суда Украины я составил. Причин было несколько: во-первых, надо было сдержать слово — в колонии это непреложный закон; во-вторых, хотелось проверить, не растерял ли я юридические знания. В конце концов ведь берется защищать адвокат даже многократно судимого рецидивиста, находя в самой черной биографии какие-то светлые пятна, смягчающие обстоятельства. А здесь я обратил внимание на малозначащий, на первый взгляд, штрих: во время поездки в салоне «Москвича» гремела музыка; Шукоров был за рулем, следил за дорогой. Вполне возможно, что он и не слышал, как Ольга Д. говорила, что они с подружкой несовершеннолетние.
— Следственный эксперимент на слышимость в автомашине проводился?
— Нет. Я настаивал, но никому до этого не было дела...
— Вот на этом мы и сыграем. Эксперимент — Настолько важная деталь для полноты следствия, что суд обязан направить дело на доследование. Таковы требования УПК. Их нарушать никому не дозволено. Так что надежда есть. И вполне обоснованная.
Шукоров посмотрел на меня с уважением: видимо, настоящий прокурор, если зацепился за мелочь, которая при умелом повороте оказывается весомым козырем.
— Тогда напиши еще и прокурору Украины. Что-то он мне не отвечает...
— Переписывай текст жалобы в Верховный суд и посылай...
— Так нельзя... Прочитают, скажут, что это об одном и том же пишу, да еще одинаковыми словами. Не уважаю, скажут...
— Не беспокойся. Это две разные фирмы, и разбираться они будут отдельно. Каждая действует самостоятельно. Только прокурору сделай приписку: «О принятом решении прошу сообщить за своей подписью. На неоднократные мои обращения к Вам я получал формальные отписки, составленные подчиненными Вам должностными лицами, не вникшими в суть дела». Теперь они закрутятся, вынуждены будут положить твою жалобу ему на стол.
— Сразу видно, опытный ты человек, деловой. Все понимаешь... Выполни еще одну просьбу...
— Сколько их у тебя?.. Дай отдохнуть...
— Хорошо, я не тороплю... Сгоняю сейчас за чаем, не люблю быть в долгу... А ты пока почитай...
Навруз сунул мне в руки три листика из школьной тетради и с непривычной для его огромной фигуры прытью побежал за обещанным. На этот раз я вынужден был читать прошение о помиловании на имя самого М. С. Горбачева. Написано оно было от имени отца Шу- корова.
«Уважаемый Михаил Сергеевич! В меня, пережившего ужасы сталинских репрессий, пролившего кровь на фронтах Великой Отечественной войны, вселяет надежду, что демократизация нашего общества начала шагать по стране всерьез и надежно. На основе этого должны быть пересмотрены и наши законы Уголовного законодательства в сторону смягчения. Мы в это верим и очень надеемся на Вас.
Я отдал всю жизнь служению своей Родине, защищая ее от внешних врагов, активно участвовал в строительстве мирной жизни.
В настоящее время мне, старому больному человеку, подорвавшему здоровье на фронтах ВОВ, очень трудно. Необходим постоянный уход. Жена также плохо себя чувствует, кроме того, у моего сына осталось двое малолетних детей. Из-за низкого материального обеспечения они ведут нищенское существование. Это никак не увязывается с тем, что мы говорим о гуманизации и человечности, тот факт, что мой сын, Шукоров Навруз, по сути дела невиновный, находится в заключении...»
Прочитав эту преамбулу, я вновь подумал: «Сколько же потратил этот «старый и больной» человек, внуки которого ведут «нищенское существование», чтобы уговорить семью Ирины Ф. отказаться от прежних показаний, просить о снисхождении насильнику? Откуда Навруз взял деньги, чтобы купить теплое место и здесь, в зоне?..»
Прервал мои размышления сам заказчик. Он держал довольно объемный кулек, издававший аромат настоящего чая.
— Кто писал прошение? — спросил я, поскольку своеобразный стиль (я его сохранил) давал основания усомниться, что автором его является сам Шукоров.
— Адвокат знакомый... Как ты считаешь, пойдет?
— Не очень грамотно...
— Отец старый человек, он просит. Главное, чтобы пожалел Горбачев, поверил ему.
— Надо дочитать, не успел еще...
«...Потерпевшая Ирина Ф. просит снизить моему сыну меру наказания, так как она ему не говорила, что она несовершеннолетняя, и он ей никаких телесных повреждений не причинил. Больно, что потерпевшая прощает своего обидчика, а закон не может простить его... Я очень прошу Вас помиловать моего сына, не делайте его детей сиротами еще на несколько лет... Мы очень на вас надеемся, Михаил Сергеевич!»
— Ну как?
— Обдумать надо...
— Думай, думай... А я пока тебе отсыплю.
Он развернул кулек, наклонил его над чистым листом бумаги. Тоненькая струйка толщиной в одну спичку медленно потекла из узкого отверстия. Когда на бумаге образовалась небольшая горка, Навруз обеспокоенно спросил:
— Хватит?
Я не знал таксы за такую услугу, медлил, а чайная струйка почти иссякла, лишь самые мелкие листочки, а скорее пыль, пополняли мой запас. Шукоров переспросил:
— Достаточно?
— Наверное...
Завернув заработок в аккуратный пакетик, спрятал его в карман робы. Теперь я стал состоятельным человеком, который может участвовать в любых бартерных сделках. Постигать рыночную экономику можно и в колонии.
Шукоров столь же бережно упаковал остатки, нетерпеливо спросил:
— Сгодится такое прошение?
— У меня несколько возражений. Первое и самое главное — нет смысла писать Горбачеву. Сто процентов гарантии, что до него она не дойдет. Так что это холостой выстрел...
— А вдруг?
— Не будь наивным. У него сейчас других хлопот по горло. И что-то я вообще не слышал, чтобы он кого-нибудь помиловал. Надо обращаться в Президиум Верховного Совета Украины. Там есть специальный отдел помилований.
— Отказали...
— Давно?
— Около года назад.
— Пусть отец пишет еще раз. Туда можно обращаться хоть каждый день. Никакой регламентации нет... А пришлют отказ, поднимайся выше, в Президиум Верховного Совета СССР... Капля камень точит.
— Хорошо. Так и передам отцу вместе с прошением.
— Постой. Я тебе сказал, что у меня несколько замечаний. По-моему, сам текст, содержание не годятся.
Отец должен просить за тебя, а он почти требует. Никакого анализа, прав ты или виноват, в такой бумаге не требуется. Надо каяться, признавать свою вину, молить о снисхождении, а повинную голову, как известно, не секут. Побольше слез, призывов к жалости. А вы все с прокурором спорить продолжаете...
— Тебе видней. Лишь бы помогло. Хоть стихами пиши. Мне важен результат. Домой хочу, к жене хочу, к детям. К отцу и матери; они ждут меня давно. Пиши, другом будешь!..
Черновик этого обращения сохранился у меня. Не буду приводить его здесь полностью, но некоторые абзацы процитирую:
«...В настоящее время мой сын, Шукоров Навруз, отбывает наказание и ждет от вас милосердия и гуманности. Я, инвалид первой группы, моя жена, бедная больная женщина, склоняем перед вами головы и слезно просим пожалеть нашу старость, посочувствовать молодой жене, у которой на руках малолетние дети 1978 и 1979 годов рождения. Она уже столько лет при живом муже вынуждена испытывать вдовью долю. Тяжелая беда, великое горе ворвались в наш мирный дом. Мы просим, мы умоляем смилостивиться над нашим молодым, еще неопытным сыном, дать ему возможность вернуться в семью, чтобы помочь нам, престарелым родителям, и ни в чем не виноватым детям, которые растут сиротами.
Наш сын находится в местах лишения свободы. От администрации колонии мы знаем, что он зарекомендовал себя с самой положительной стороны, старается честным и добросовестным трудом искупить свою вину. Надеясь на удовлетворение просьбы, мы верим в отзывчивость ваших сердец, в справедливость советского государства, в гуманность нашего общества. Мы знаем, что в нашей стране всегда найдутся люди, готовые прийти на помощь в трудную минуту, оказать немощным старикам так необходимую им поддержку. Мои фронтовые раны, мои боевые ордена и медали, мой долголетний добросовестный труд дают мне право просить о помиловании сына. С этой же мыслью ежедневно просыпаются жена и несчастные дети. Я, старый человек и старый солдат, могу заверить, что мой оступившийся сын никогда больше не совершит никакого противоправного поступка, что он всю жизнь отдаст, чтобы заслужить прощение людей».
Прочитав прошение Наврузу, который внимательно вслушивался в каждую фразу, поинтересовался:
— Уловил разницу?.. Надо у людей слезу выдавить, сочувствие. Если бросится прошение в глаза да еще человек отзывчивый попадется, дадут бумаге ход. Главное, чтобы не отфутболили сразу, чтобы заинтересовались...
— По-моему, то, что надо. Мне самому отца жалко стало. Ноги больные, семьдесят пять лет уже ему... Завтра же пошлю ему письмо...
— Если что нужно добавить, не торопись. Подумай, вспомни. Один-два дня ничего не решают.
— Для меня каждый день здесь годом кажется... Глядеть не могу на этот проклятый цех. Кашлять стал, воздуха не хватает, голова кружится...
— А что тем говорить, кто в литейке вкалывает? — не удержался я все-таки от неприятного вопроса.
— Я их туда не посылал. Не умеют крутиться, пусть пашут. А мне и мой станок поперек горла стоит, оглохну скоро. Тихо говорить разучился, кричу, как в лесу... Ладно, что тебе жаловаться, сам в такой же шкуре находишься... Давай договоримся: я еще раз прочитаю все бумаги, а утром перед работой встретимся. Может, и в самом деле что-нибудь вспомню. Сколько я этих жалоб отправил, а все без толку,— совсем уж уныло закончил он.
— Надежды юношей питают,— успокоил я его.
— Что, что?..
— Это стихи такие. Классика,— отговорился я.
— А-а-а...
...Заканчивался один из самых несчастливых в моей жизни 1988 год. Был он високосным, и я, отнюдь не страдающий суеверием, все-таки часть своих горестей и бед списывал на это обстоятельство. Но год наступающий обещал быть более удачным. Во-первых, я с полным основанием мог рассчитывать на условно-досрочное освобождение: две третьих срока были не за горами. Во-вторых, администрация колонии не могла предъявить мне никаких претензий — с работой я справлялся. К тому же, мне очень помогла жена: она перевела четыреста девяносто рублей, погасила иск, который «висел» на мне из-за судебных издержек, отнесенных на мой счет. Был в моем активе и еще один козырь: гарантийное письмо руководства одного из трестов Минска, что мне, как только освобожусь, будет предоставлена работа. Так что к заседанию комиссии, которая должна была решить, быть мне досрочно на воле или нет, я подошел с неплохим багажом...
На оптимистичный лад настраивали и письма из дома. Жена радовала подробными рассказами о школьных успехах Инночки; постоянно сообщала, какие жалобы, запросы отправила и куда... Уже в который раз я убеждался, насколько мне повезло, что встретил на свеем пути Людмилу. Она стучалась в любую дверь, лишь бы помочь мне, не давала покоя хозяевам самых «высоких» кабинетов. Вот и теперь она ждала приема в Президиуме Верховного суда СССР, а на очереди был визит в ЦК КПСС. Она уже получила подтверждение, что будет принята на Старой площади.
Не сидели сложа руки и мои подельники. Из очередного письма жены узнал, что Анатолий Журба добился, чтобы его приняли юристом в строительное управление, а Анатолий Волженков вообще требует восстановить его в прежней должности. И скорее всего так оно и будет. Владимир Буньков нашел себе место в отделении железной дороги, Валерий Кирпиченок — на заводе. Изменилось отношение и к моей персоне. На одном из совещаний заместитель транспортного прокурора Союза счел нужным заметить: «...Витебское дело было очень сложным... С Сороко, считаю, поступили неправильно, жестоко...» Наконец-то воздали должное и Прошкину: после того как Верховный суд Латвии отклонил протест на мягкость приговора, у него начались довольно серьезные неприятности. Собственно, даже судья Кабанов ткнул его носом в кучу навороченного дерьма, исключив из обвинительного заключения двадцать из тридцати эпизодов. За такую «профессиональную» работу рядового следователя из самой захолустной районной прокуратуры гнать надо, а он с присущей ему наглостью (как же — за спиной Генеральный прокурор!) еще и протест подал... Причем сведения о проколе Прошкина пришли из самого неожиданного источника — его собственной жены. Она также работала в Прокуратуре Союза и как-то на одном из совещаний пожаловалась гостям из Беларуси, что ее супруг попал в немилость из-за Витебского дела...
В общем, новый год сулил перемены к лучшему. Во мне росла уверенность, что мой день рождения (а это — 1 января) будет последним, который я проведу в заточении. Отрядник — начальник отряда — укрепил мои надежды. Комиссия по У ДО должна была состояться в феврале, и мои документы уже подготовлены к ней. Результатом ее могли быть два исхода: направление на «химию» в районе Нижнего Тагила (есть спецкоменда- тура) или — самый лучший вариант — отправка домой, в Беларусь, при условии, если есть гарантия моего трудоустройства. А именно такая гарантия у меня уже была... Так что оставалось ждать, стараясь ничем не вызвать недовольства лагерного начальства. Правда, милости ни у кого выпрашивать не собирался, но на конфликты не шел. Даже более того — заслужил ударным, как говорят, трудом два поощрения, так что претензий на комиссии ко мне не должно было быть. Хотя... Особых иллюзий, конечно же, я не питал. Душой чувствовал, что Прошкин не забыл обо мне, тем более, что рядом, в Свердловской областной прокуратуре, работал его подручный Андреем. Только их «покровительством» я мог объяснить тот факт, что меня не представили к досрочному освобождению еще в феврале 1988 года, когда прошла треть срока наказания. Так что расслабляться, бездействовать я не мог себе позволить. И уже загодя, не дожидаясь решения комиссии, заготовил протесты, жалобы во все мыслимые и немыслимые инстанции. Об этом же просил и Людмилу. В одном из писем я даже составил примерный текст, который она должна будет отправить прокурору Свердловской области.
«Мой муж Сороко Валерий Илларионович осужден к четырем годам лишения свободы. С 28 октября 1986 года находится в местах лишения свободы.
К настоящему времени он уже отбыл более половины определенного судом наказания. Согласно действующим законам он имеет право на условное освобождение с обязательным привлечением к труду. Из писем мужа я знаю, что работает он добросовестно, хотя подорвал в изоляторах и колонии свое здоровье. Режим содержания в НТК он не нарушает.
Мои родители и мать мужа — престарелые и больные люди, нуждающиеся в постоянном уходе за ними. На иждивении у меня малолетняя дочь, которую очень трудно воспитывать без помощи отца, так как я постоянно испытываю материальные затруднения. Еще более ощутим моральный ущерб, наносимый ребенку из-за неполного состава семьи.
Еще раз напомню: мой муж имеет право на условное освобождение, и поэтому прошу обязать администрацию УЩ-349/13 представить его кандидатуру на комиссию по освобождению. Тем более, что даже незаконно вмененные ему преступления не являются социально опасными для общества.
Уведомляю, что деньги в счет погашения иска к мужу перечислены, документы о предоставлении работы высланы, прописка гарантирована.
Дополнительно сообщаю, что мне обещан прием в ЦК КПСС, и я надеюсь, что ваш содержательный ответ по существу поможет восстановить истину и справедливость».
Посылая Людмиле такую заготовку, я понимал, что она будет прочитана цензурой, в первую очередь здесь, в колонии. В этом был определенный риск — я упреждал события, забегал вперед, высказывая недоверие, не зная результата. Реакция администрации могла оказаться болезненной, но я отстаивал свои права, требовал соблюдения закона. И если это немного смахивало на шантаж, то Бог мне судья... Меня вынуждали прибегать к таким методам.
Ответное письмо пришло уже в новом году. Я прекрасно понимал, как трудно Людмиле было поздравлять меня с днем рождения. И она постаралась убедить меня, что мы все наверстаем весной, когда я буду дома. И столько было в ее строчках веры в скорую встречу, что все невзгоды отошли на второй план. И, как обычно, радость без края от письма дочери. На этот раз оно было на открытке. Доченька научилась уже писать без линеек, по чистому полю: «Дорогой папочка! Скорее приезжай. Я с мамой очень жду тебя. Спасибо за подарок к Новому году. Целую тебя тысячу раз. Твоя Инночка». Маленький обман — подарок (альбом для рисования, краски, фломастеры) , конечно, купила Людмила — был не в счет. Наоборот, я был благодарен жене, что она таким образом поддерживает в Инночке веру в меня, в мое скорое возвращение.
Теплом повеяло от строк, что Новый год мои родные встречали вместе у сестры Зинаиды. Приехал брат Дмитрий с деревенскими гостинцами. А накануне у дочки прошел утренник. Она танцевала танец матрешки, читала два стихотворения, была, как написала жена, самой красивой. Я в этом нисколько не сомневался...
Добрыми оказались и так называемые «официальные» сообщения. Из Москвы пришло подтверждение, что Людмилу примут в Верховном суде СССР и ЦК КПСС в феврале. И она готовит необходимые документы. Жаль только, что вновь не на высоте оказался адвокат Данилов. Впрочем, этого и следовало ожидать... И еще одна новость, порадовавшая меня. Жена уточнила, что неприятности у Прошкина связаны именно с моим незаконным арестом. И хотя я человек совсем не мстительный и не кровожадный, но удовлетворение, не скрою, испытал. Значит, даже в Прокуратуре СССР убедились в его нечестности и предвзятости. А это — пусть не прямая, а косвенная, но реабилитация меня. А то, что Волженков вообще полностью оправдан, хотя Прошкин требовал и его загнать за проволоку, настолько бьет по следствию, что остается лишь диву даваться, как это московская компания до сих пор удержалась в креслах...
Так что, как ни печален был мой новогодний праздник, ожидание и предчувствие скорых перемен не давали упасть духом. По-своему, пусть чуть неуклюже, но зато предельно искренне, поддерживала меня и старшая сестра Зинаида. Ее бесхитростные письма с подробным описанием всех новостей возвращали меня в отцовский дом, в родную деревню. Жить-то она жила в Минске, в последнее время, после ухода на пенсию, старалась чаще бывать вместе с Людмилой и Инночкой, но к маме ездила регулярно.
«...Была дома. Мама с Митей как раз получили твое письмо. Были очень рады. И я вместе с ними порадовалась. Хотя и поплакали немного, что тебя нет с нами...
Забили кабанчика. Он у нас майский, так что веса особенно не набрал. Длинный был, мог нагулять и пудов десять, но в этом году не очень уродила картошка, так что кормить особенно нечем. Сало тонковатое, я одна вынесла в кладовку. Но ничего, нам хватит всем. А свежины привезла Люде с Инночкой и тестю твоему. Понравилось всем, жаль только, что тебя с нами не было. Но ничего, приезжай скорей, мы тебе колбасы оставили... Вкусная, ты знаешь, как я умею готовить...»
«...На Коляды была дома. Натопила грубку, нагрела воды и вымыла маму, как когда-то мыла папу. Мама у нас слабенькая, все те же болезни — голова и ноги. Как вспоминает тебя, так и плачет. Я ее успокаиваю, говорю, что скоро приедешь, и все будет хорошо.
Хозяйства у нас на зиму никакого. Только куры остались, тринадцать штук, да три кота. И то маме веселей, а на большее у нее уже сил нет... Подготовили дрова, чтобы маме легче было. Сосед Федя (Валин) колол, а мы с Митей складывали. Сам знаешь, в деревне работа всегда найдется...»
«...Вернулась от мамы... Думаю* что надо положить ее в больницу. Хорошо, чтобы попала в железнодорожную, как и раньше... А то у нее одно лекарство — печка... Сделали большую работу — спилили березу, что стояла около пуни. Сначала мне жалко было, я не соглашалась, но Митя настоял. Она уже совсем наклонилась на пуню, вот-вот упасть могла. Спилили, а внутри дупло на всю толщину. Чуть ветер — и развалила бы всю крышу. А в дупле галки гнезда вили... Перетащили ствол к хате, порезали на дрова. Вот и будет чем топить...»
«...Пенсии я получаю 120 рублей, думаю еще пойти уборщицей в райисполком на 80 рублей. Работа с утра, так что я смогу забирать Инночку из школы... Кормлю ее, и мы ждем вместе, когда Люда придет с работы. Часто остаюсь ночевать. Вместе нам веселей и лучше... Вот сейчас пишу письмо, а Инночка все говорит: «Напиши папе, чтобы скорее приезжал. Мы все без него соскучились». Хорошая у вас дочка, ласковая, и очень на тебя похожая. Она всем так и говорит: «Я — папина дочка».
«...Дорогой братик! Мы очень беспокоимся за твое здоровье, его не купишь ни за какие деньги... Если бы я могла, то птушкой прилетела бы к тебе. Наша мама, как только я переступаю порог в родной хате, сразу спрашивает про тебя: «Когда же вернется мой любимый сыночек Валерочка? Дождусь ли я его?» Каждый день молит Бога, чтобы ты поскорей вернулся целым и здоровым. Она говорит, что сразу поправится, как только увидит тебя... И мы все ждем, что кончатся наши несчастья, и ты снова будешь с нами...»
«...Ходила вместе с Инночкой и Людой на утренник. Инночка была в длинном белом платье, прямо, как царевна. Выступала она лучше всех...
Новый год встречали у меня. Приезжал Митя. Инночка очень любит его, не отходит ни на шаг... Я подняла первую рюмку за тебя, за твое здоровье, за твое возвращение. А Инночка сразу же сказала: «Мой папа скоро вернется, и мы все праздники будем проводить вместе».
«...Кинь дурные мысли, Валера! Ты не имеешь права так думать!
Твоя Люда — самая лучшая жена на свете. Она только о тебе и думает, о тебе все разговоры. Ты должен понимать, как трудно ей приходится. Но Люда ждет не дождется, когда ты освободишься. И никто ей, кроме тебя и Инночки, не нужен. Она столько сил и здоровья тратит на тебя и семью, что думать о чем-то другом у нее просто не остается времени. Да и не такой она человек. За эти годы без тебя я ее очень хорошо узнала. Все в вашей семье будет хорошо. Приедешь, сам увидишь, как Люда тебя ждет.
Тесть твой, Федорович, совсем слабенький. Все спрашивает, как там Валера? Ты, браток, напиши ему отдельно, а то он думает, что мы ему не говорим всей правды. Или вложи листок в письмо для Люды. Он будет очень рад, что ты помнишь про него...»
...Браток, Валерочка, Валерик... Эти ласковые слова я привык слышать от сестры с самого раннего детства. На ее неокрепшие девичьи плечи очень рано легли тяжелые крестьянские заботы: наша мама долго и тяжело болела, и Зине пришлось управляться и по хозяйству, и воспитывать нас с Дмитрием... Личная, как говорится, жизнь у нее так и не сложилась, всю себя она отдала отцу, маме, нам с братом. А теперь вот уже и пенсионерка, жизнь клонится к закату. Но сестра по-прежнему в хлопотах: надо досмотреть маму в деревне, содержать там в порядке огород, чтобы не хуже, чем у соседей, а теперь вот — поддержать мою обездоленную семью. Я догадывался, зная Зину, что и работать после пенсии она пошла ради того, чтобы иметь возможность изредка купить подарок Инночке, чтобы мама ни в чем не нуждалась. Читая неровные строки ее писем, я не обращал внимания на грамматические ошибки, на шероховатость фраз (сестре так и не выпало закончить полную школу •— война, болезнь мамы). Мое сердце воспринимало душевную теплоту, исходившую от неуклюжих букв, неподдельную боль за семейное несчастье, искреннюю готовность и в самом деле «прилететь ко мне, как птица». И еще за одно был я благодарен старшей сестре — за суровую отповедь, которую получил из-за своей беспричинной ревности. Хотя, возможно, я не столько ревновал Людмилу, сколько потерял веру в самого себя. Смогу ли я восполнить потери, не очерствел и не озлобился ли я сам за страшных четыре года, хватит ли у меня сил восстановиться, как примут меня окружающие, не стану ли я обузой семье?.. Эти и десятки других проблем не давали мне покоя, рождали сомнения, а порой и нелепые фантазии. С приближением дня освобождения нервы стали сдавать все чаще, и я не выдержал, поделился своими тревогами с Зинаидой. И прочитал в ответ непривычно резкое: «Кинь дурные мысли, Валера! Ты не имеешь права так думать!»
Такая встряска была мне полезной, хотя, ничуть себя не оправдывая, должен заметить, что «дурные мысли» являлись прямым следствием «дурацкой» системы содержания нас, заключенных.
Редкие свидания, да и те зависящие от благорасположения администрации, невозможность быть до конца искренними и откровенными в письмах (кому охота доверять сокровенное чужому глазу цензора?), постоянное ощущение того, что ты нахлебник, а не кормилец (у зэка от зарплаты часто не остается денег даже на ларек). О том, чтобы услышать родной голос по телефону, и мечтать не приходилось: «Низ-зя!» Так называемая система перевоспитания трудом делала (да и делает) все, чтобы разорвать связи с внешним миром и, в первую очередь, с семьей, отторгнуть близких людей друг от друга. А сколько мытарств предстоит после освобождения?! Где прописаться, куда устроиться на работу, не отвернутся ли при встрече старые знакомые, как прийти на родительское собрание к дочке, понравишься ли ты участковому инспектору милиции? И вся эта тяжесть в равной, если не в большей, степени кладется на плечи жены, твоих близких. И разве можно упрекать слабую женщину, если она сломается под таким прессом? У кого есть право, кто осмелится бросить камень в ее огород? Выстрадав долгие месяцы и годы одиночества, помогая мужу-не- вольнику последним, что есть в доме, она надеется, что с возвращением хозяина, мужчины, опоры семьи все переменится к лучшему, что можно будет вздохнуть свободнее, что все беды останутся позади. Но оказывается, что самое трудное только начинается: дома появляется огрубевший мужчина, зачастую больной, с надломленной психикой, которого все сторонятся, который никому, кроме нее, не нужен... И как тут выстоять, не проклясть судьбу, а затем и не увидеть причину всех бед в этом несчастном изгое, которого просто-напросто не пускают на порог одних кабинетов, а в других, узнав, откуда он вернулся, фальшиво сочувствуют: «К сожалению, у нас все вакансии заняты»? Вот и разламывается семья, разлетается на мелкие осколки... Без отца страдают дети, остается невостребованной женская любовь, а считавший дни и минуты до последнего звонка вновь путешествует в места не столь отдаленные. Все возвращается на круги своя...